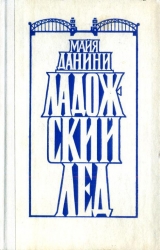
Текст книги "Ладожский лед"
Автор книги: Майя Данини
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
СНЫ
Так часто вечером казалось: невероятная тяжесть теперь навсегда камнем лежит на душе, ее никогда не сбросить с себя, все, что было хорошего, – кончилось, и теперь начинается настоящая смерть, но засыпала и просыпалась светлая, как день, ясная, совершенно забывшая, что было плохого и тяжелого вчера и что́ именно так угнетало.
Видела сны, а во сне все страшное растворялось и улетучивалось, забывалось, как будто и не было. Сны оставляли свое настроение. Сны были и страшные, и легкие, причем легкие сны могли быть по сюжету очень страшными, и наоборот. Могло казаться страшным то, что в самом деле было вовсе не страшно, если я рассказывала об этом. Страшный сон о том, что я куда-то бегу, падаю, не могу бежать, хотя я совсем не знаю, кто меня преследует и от кого я бегу. Нестрашными были сны о том, что кто-то убивает кого-то при мне или даже меня убивают.
Самый страшный сон я сначала видела как самый радостный: какой-то вечер, и на вечере я что-то говорю, веселюсь, и все смотрят на меня, потом вдруг все отворачиваются разом, и я пытаюсь всеми силами вернуть к себе внимание, но все тщетно – никто не слушает. Помню, что после очень долго плакала во сне и когда проснулась – тоже. Казался сон вещим и тяжким: вечно боялась повторения этого сна наяву.
Раздумывая над этим сном, поняла, что дело не в том, что видишь во сне, а в том, как ты настроен во сне – хорошо или тяжело. Радостный сон мог продолжаться радостью наяву. Он будто так и случался – надолго: мог длиться и на следующую ночь, и еще одну ночь, не повториться, но длиться, и помнился отчетливо до малейшей детали.
Все скрашивалось этим сном, и хотелось спать наяву, то есть чувствовала, что спишь наяву, – и так оно и было.
В такие дни я казалась всем странной, отвечала невпопад, не очень видела всех вокруг и любила эти свои состояния. Они казались такими вдохновенными, в то время как все кругом считали меня в таком состоянии тупой. Чем глубже было состояние полусонного, полуявного блаженства, созерцания чего-то, тем смешнее было то, что ты делал, говорил в самом деле.
Во время войны я работала в поликлинике, училась, была во всяких кружках – и уставала страшно. Тогда именно были сны такими глубокими и радостными. Тогда часто спала наяву, особенно когда ложилась спать поздно и вставала рано. Шла в поликлинику и прилаживалась к собственной походке – спала и шла. Получалось это плохо, но все-таки голова отключалась совсем. Мешал только холод. Все думала тогда – как люди замерзают, они же должны совсем отключиться, а отключиться на морозе так трудно, все время меня будил мороз, пока я шла.
Но вот я приходила на работу, тепло окутывало меня, и тут я засыпала совсем легко. Я быстро погружалась в глубокий сон с открытыми глазами.
Меня звали, спрашивали о чем-то, посылали, велели, ждали, а я спала и спала. Делала все машинально, делала просто так, как случится, чтобы только не разбудили меня совсем, не дали прерваться такому состоянию, в котором я могла существовать. Спать хотела смертельно. Казалось, если бы мне разрешили – спала бы двое суток, дольше, а пробуждение было похоже на болезнь: все было так безобразно, а холод и работа – совсем мучительны и невыносимы. Но вот наступал обед – я просыпалась до какой-то степени, потом школа, и тут, как ни странно (третья смена), я просыпалась окончательно, резвилась, была быстрой, сообразительной – не отличалась от тех, кто не работал, а работали многие и, придя с работы, чаще всего спали на уроках. Я просыпалась окончательно и тут только вечером и существовала наяву, а не во сне, как на работе.
Те сны – младенческие и в юности, во время войны, – были похожи на дивные фильмы вроде «Дороги», где все происходило так, будто во сне, а не наяву, где каждое движение человека – актера – будто случайно, а на самом деле вполне закономерно, но движется все по законам сна, где все может быть и один и тот же человек может превратиться в другого, быть тобой и не тобой одновременно, делать что-то странное, бессмысленное, но по законам сна не бессмысленное, а такое значительное, особенное.
Помню сон, как я брожу по извилинам своего мозга и будто они – пещера, а в конце концов нахожу синюю гостиную (вроде гостиной тети Мани), где старинные миниатюры так контрастируют с белыми мраморными фигурками, а бронзовые подсвечники гармонируют с бронзовыми рамками. И на полосатом шелке диванчика сидит кто-то в чепце – не тетя Маня, но кто-то похожий на нее – и говорит мне, что все красивое сосредоточено в этой комнате и эта комната и есть – понимание, и я действительно в восторге просыпаюсь примиренной и понимающей. Но наяву являлся вопрос – а что же я понимаю? И не могла ответить, хотя чувствовала, что отныне что-то знаю. По сию пору хочу найти разгадку тому странному сну и состоянию.
Это состояние было похоже на вдохновенное чтение: прекрасно бродить по собственному сознанию, думать – прекрасно, наслаждаться мыслями, даже если мысли неуловимы, не выражены словами.
Глава двадцать пятаяОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ЖИВОТНЫХ
Выцветший от тепла батареи, от солнца, от старости аспарагус, его длинные пряди щекотали мне щеки, если я проходила мимо и задевала его. Я всегда задевала его нарочно, может быть от этого он и побелел совсем.
Его легкие веточки были похожи на волосы Амалии Павловны, такие же тонкие и белые, совсем как паутинки (Амалия не выносила паутины, и всякую пыль, какую там пыль – всякую пылинку, отдельную пылинку или паутинку, она видела, замечала и тотчас же вытирала, убирала и начисто промывала тряпочку после этой операции), но собственные волосы она не могла обмести, как паутину, их приходилось расчесывать и укладывать каждое утро в гладкую прическу, которая мне напоминала венскую булочку, посыпанную пудрой.
Концы ее волос сохраняли некоторый оттенок каштанового цвета, но я, разглядывая ее волосы, думала, что эти кончики просто порыжели от времени, как старое кружево.
Амалия любила свой аспарагус, как и все цветы, и всегда сетовала, что аспарагус сохнет и становится бесцветным. Она будто не замечала того, что я, проходя мимо окна, непременно задеваю аспарагус, а говорила пустоте:
– Как жаль, что цветок гибнет.
Я слышала в ее словах упрек, но все равно трогала аспарагус: уж очень заманчиво было его щекотанье. Будто кот задевал меня усами, толстый кот той же Амалии, кот, которого она очень любила, а у меня с ним – так же как и с ней – были очень сложные отношения.
Все животные были под защитой Амалии, которая очень гордилась тем, что состояла членом общества защиты животных. Где было такое общество, существовало ли оно в те времена – было тайной, но Амалия всем говорила, что она член этого общества и будет защищать животных до самой своей смерти.
Она всегда останавливала возчиков, которые били лошадей, останавливала мальчишек, которые мучили щенков, котов, лягушек, мышей и прочих тварей. Она часто рассказывала нам о том, что однажды, видя, как бьют лошадь, добилась того, что воз разгрузили при ней и сани легко пошли. Амалия якобы сказала возчику, что стоит его самого впрячь в этот воз, тогда возчик испугался ее, Амалии, и разгрузил воз.
Все дома потешались над ее рассказом и говорили, что представляют себе, что мог ответить возчик Амалии на ее предложение впрячь кучера, представляют себе, как Амалия говорила:
– Я состою членом общества защиты животных…
Мне всегда очень хотелось посмотреть ее удостоверение или значок, которые бы подтверждали ее принадлежность к этому обществу, но я никогда не видела их.
Никто не верил Амалии, что она кого-то заставила снять бревна с воза, потому только, что она не могла даже заставить собственного кота сойти с постели или с кресла, чтобы сесть или лечь самой.
Кот всегда спал и не уступал ей места, и ей приходилось ложиться на самом краю, как-нибудь, чтобы не потревожить кота. А тот растягивался во весь рост, вытягивал лапы и был крайне недоволен, если она даже задевала его. Он чувствовал свое превосходство над хозяйкой, которая, являясь таким активным членом общества охраны животных, не может стеснять своего кота. Он разваливался на кровати, на кресле – где ему хотелось – вверх животом, вытянувшись во всю длину, да еще и мотал хвостом в знак того, что ему помешали, разбудили, прервали такой сладкий сон.
Надо сказать, что кот Барс, столь ревностно охраняемый Амалией, был самый простой кот-дворняга, с широкими полосами на спине, мордастый, злой котище, который не давался в руки и вечно был недоволен мной. У него была мерзкая манера забиваться под кресло, как только он видел меня, и прятаться там в темном углу, а когда я пыталась его вытащить из угла, он больно царапал меня за руку, и сразу же вздувались желваки на руке. О, я ненавидела его короткий взмах лапой и выпад вперед, ко мне, после чего кота жалели и говорили:
– Бедный Барс, тебе не дают покоя, поди сюда, мой хороший, иди ко мне.
И Барс, мерзкий Барс, так больно цапнувший меня, шел, трусил, бежал к Амалии, прося у нее защиты, он у нее, а не я! Я, поцарапанная, униженная, должна была просить прощения у Барса, в то время как хотелось ему наступить на хвост. Ведь он первый начал! Я хотела его вытащить из-под кресла и просто поиграть с ним, повозиться, ну, слегка помять его, теплого, мехового, только и всего, но кот сделал из моей попытки нападение, он отбил атаку, а я, пострадавшая, поступала теперь в разряд людей, угнетающих всех животных, людей, с которыми боролась Амалия.
И я просила прощенья у кота, я старалась не замечать его, а он брезгливо смотрел на меня, прятался или, сидя на коленях у Амалии, поводил мордой в сторону, когда я проходила мимо. Паршивый Барс чувствовал, что я прошу прощения, в то время как я считала его напавшим.
Так часто Амалия повторяла:
– Все-таки люди не стоят животных, сколько они делают зла всем, а животные – никогда!
Я посасывала поцарапанную руку и не смела ей возражать, а Барс, развалившись у нее на коленях, делал такое выражение лица: «Вот видишь, люди никогда не могут сравниться со мной». Я раздувала ноздри и отвечала ему тоже глазами: «Как же, как же! Твою доброту и доверчивость я знаю!»
Амалия, будто подслушав мои мысли, говорила:
– Животные всегда доверчивы, но если они знают, что их могут убить или поймать, – они должны сопротивляться!
– Я не хочу убивать Барса, а он всегда царапает меня! – говорила я, не выдерживая.
Она смотрела на меня и не отвечала на мой выпад, а продолжала свою беседу на тему о спасении животных:
– Медведь или тигр сам никогда не нападает, они становятся людоедами, когда человек ранит их или в том случае, когда у них нет зубов и они не в состоянии охотиться…
Она могла говорить об этом часто и довольно однообразно. Я слышала эти разговоры не первый раз и, глядя на Барса, не слушая ее слов, продолжала с ним свой мимический диалог, который был куда откровеннее и честнее. Я хотела отомстить Барсу после ее долгих наставлений и даже говорила: «Ну погоди! Попадешься мне, когда будешь один!» Я не знала, что бы я могла сделать с ним; по правде сказать, я никогда не мучила животных, да и не знала, как, собственно, их мучить, всякие противные выходки с котами, когда к хвосту привязывают банки или обливают котов и поджигают их, мне самой были противны, но слегка прибить, потрепать кота, дернуть за хвост – это было можно. Но этого было мало, и я про себя сказала Барсу: «Погоди, я тебя тоже оцарапаю!»
Наши отношения с Амалией не ограничивались этими разговорами о животных, они были более глубокими и не всегда очень милыми. То есть я чувствовала, что Амалия не в восторге от меня, что она холодна со мной и не любит не только меня, но и маму, и мою бабушку, тем не менее она никогда не переходила границ, была всегда немножко надменна и сдержанна. То, что мне не говорилось ничего и не делалось замечаний, тоже было своеобразным отталкиванием с ее стороны, но Амалия была существом добрым и отзывчивым и всякое даже малейшее проявление человечности к кому бы то ни было трогало ее. Они с мамой не очень ладили только потому, что, мне казалось, всегда соревновались, кто из них добрее и лучше. Одна старалась и помогала каким-то несчастным своим больным – ездила к ним домой, собирала деньги на убогих, другая ходила по улицам и кормила кошек и лошадей и навещала дочь дворника, которая заболела.
Эту дочь дворника Амалия вечно приводила мне в пример и говорила, что она очень трудолюбива, скромна и опрятна, пока наконец эта дочь дворника не утащила у Амалии ее любимую вышитую сумку и серебряный колокольчик. Тогда Амалия гордо замкнулась и никого, кроме кота, не пускала к себе. Я редко заглядывала к ней, но мы всегда жили на одной даче. Амалия, дальняя родственница бабушки, не имела никого и, в сущности, нуждалась в нас, но делала такое выражение лица, что ни в ком никогда не нуждается.
Она не позволяла себе никаких лишних слов в чей-то адрес, она была отвлечена от житейских неурядиц и всяких ссор, и сколько беспорочной брезгливости выражала она всем своим видом, когда видела, что мы с Таней бегаем по коридору и пытаемся открыть ногой дверную ручку, смеясь и затыкая друг другу рот; как она была возмущена, когда мама громко разговаривала с кем-то по телефону, да еще и курила при этом; как она молчала, какой неприступный и отчужденный был у нее профиль, когда она слышала, что все наши в восторге от Зощенко и, сами не замечая того, начинали говорить его языком.
Мне часто казалось, что Амалия ничего не ест, может целыми днями сидеть с книжкой, или гулять по улицам, или вязать, в крайнем случае молоть свой кофий, которого у нее был неисчислимый запас. Так она выжила в блокаду – пила свой кофий, как всегда его жарила, молола, варила и пила.
Ее кофейник-тромка, начищенный до того, что страшно было взять рукой – вдруг останутся пятна на этой необыкновенно гладкой поверхности, стоял всегда на ее столе, прикрытый салфеткой, но не помню, чтобы у нее были кастрюли или даже тарелки на столе.
Так же мне казалось, что Амалия может не говорить ни с кем и год, и два, что она может скользить тенью среди всех и не замечать никого, только слегка кивать, может даже стать незаметной и скользить так, чтобы ее вовсе не видели, но непременно появиться на глаза в день, когда был праздник или именины, чтобы поздравить всех, пожелать всем всяких удовольствий и радости, а после опять исчезнуть.
Этим своим свойством она восхищала меня и сердила одновременно, она казалась мне такой бездушной во всей своей доброте и отзывчивости, казалась мне такой раздражающей в своей манере не беспокоить никого, скользить мимо и не трогать. Но, разумеется, в моем раздражении был оттенок ревнивого чувства к маме, которая была всегда ближе и лучше, в то время как Амалия, сколько бы ни была близка, – далекой; я улавливала их неприязнь друг к другу и потому была в раздражении.
Казалось, что я не могу и вспомнить никаких суждений Амалии ни по какому поводу, кроме животных, и тем не менее я помнила ее отчаянный пацифизм, ее страдальческое отношение к тому, что происходило в Германии в те времена, и вообще очень много помнила ее суждений и высказываний, хотя будто бы она никогда и не говорила ни с кем, а только распространяла вокруг себя атмосферу миролюбия и беззлобности или передавала свои мысли молча.
Уже шла война, мы жили в госпитале, а Амалия жила в нашей комнате. Во время войны так часто было, что даже люди совершенно чужие вдруг объединялись.
Помню, придя к тетке Лидии, увидела на ее столе спящего истопника Ботикова. Он спал прямо на столе в валенках и шапке. Увидев его, я не удивилась, а только спросила, где тетя, и услышала, что она почему-то в квартире Ботикова, что там она и живет теперь, а Ботиков спит тут. Рядом со столом был диван – широчайший диван, но Ботиков спал на столе, верно там ему казалось теплее, что ли, или он стеснялся испачкать тетин диван – не знаю.
Так и Амалия совсем переселилась к нам, где была какая-то печка и дрова, спала на ковре, на подушках от дивана – ближе к печке.
Рядом жил ее кот, ненавистный мне Барс, теперь ставший жалким, мяукающим от голода котом.
Наши светлые, огромные комнаты стали теперь темными и потому казались меньше. Всюду теперь висели какие-то тряпочки, всюду были завешены двери, заткнуты щели, и в этой комнате, при свете раскаленной печки, сидела Амалия и улыбалась мне, усаживала поближе к печке, поила своим кофе, говорила:
– Теперь приходится жить так, что делать – приходится.
Кот поднимал голову и глядел на меня выразительно – просил хоть корку хлеба. Амалия не просила. После мы узнали, что она совсем не ела свой хлеб, а отдавала все коту, но тот все-таки сдох весной, а Амалия выжила, хотя у нее не было совсем ничего. И, не имея ничего совсем, однажды она получила посылку от племянника, который просил ее поделиться с нами. Она тут же поделилась с бабушкой и Надей и написала нам, жившим в госпитале. Мама, получив ее открытку, сказала мне, что ничего у нее брать нельзя и идти не надо. Но в тот же день я была у тетки и решила пойти к Амалии.
Я пришла к ней из госпиталя и получила от нее и хлеб, и консервы, и сахар – все, о чем можно было только мечтать. Снесла все к тетке, и там был пир, все было съедено чуть ли не за один раз. Осталась на несколько дней только крупа, которую варили в огромном количестве воды. Когда все кончилось, тогда снова все стали смотреть на меня и посылать меня – безмолвно – к Амалии.
Как мне этого ни хотелось, как было неприятно, но я пошла, ожидая, что она просто не даст ничего, что у нее и нет ничего, но она встретила меня снова улыбаясь, напоила кофе и снова дала мне продукты. Единственная фраза, которую мне было неприятно слышать от нее, была фраза о том, что нельзя все вдруг съесть, что надо тянуть, – фраза, которую мы вполне заслужили и должны были выслушать.
Но я ушла как можно скорее от нее и пришла к тетке Лидии, которая уже не надеялась в этот день выжить, но выжила она благодаря Амалии.
Через несколько дней умер, как я после узнала, кот Амалии, и она пошла его хоронить – увезла его далеко к кладбищу и там долго копала снег, чтобы его не вырыли. Хоронила она кота в том самом ящике от посылки, который прислали: ящик был пуст.
А Амалия осталась жива, и эта ее способность жить воздухом, жить бестелесно поразила меня, когда много позже я пришла к ней и застала ее в убогой маленькой комнате, которую она получила после пожара, ее, снова окруженную котами, ее, улыбающуюся, все-таки очень замкнутую и отказывающуюся от всякой помощи с нашей стороны.
Возле нее стояла ее неизменная тромка, салфетка была чиста как сахар, а в старинной вазочке не было хлеба, как всегда, был только один сухарь, какие-то конфеты, которыми она тут же угостила меня.
Если бы было на свете общество охраны животных, то оно должно было бы носить имя Амалии.
Глава двадцать шестаяГРОЗА НАД ДОМОМ
Летом ждешь жары и грозы, хорошего ливня и особенной радости после дождя, когда весь будто освежаешься и иссохшая кожа становится мягкой и свежей, а волосы, только что сухие и ломкие, вдруг обретают плавность, будто ласкаются. Все дышит кругом, и воздух сам вливается в тебя.
Такое освобождение после грозы, какого не помнила после войны, хотя, кажется, не было большего счастья, чем те последние слова Левитана о полной капитуляции Германии, о конце, конце…
Он говорил о том, что все кончилось, а все знали: когда-то, когда все придет опять в прежнее свое состояние – и чуяли, не скоро, – долго еще в памяти будет все то, что было, и уже не вернется на прежнее место. Никогда не будет нашего дома – он сгорел, никогда не придут, как прежде, знакомые – их нет в живых, никогда не зазвучит рояль – его тоже нет; всех разметало, и все стали другими.
Было ощущение, что война все еще не кончилась.
Война была слишком долгой: все знают, как страшна война, но какая она тоскливая, скучная – нет. Если бы, как гроза, пронеслась – и все.
Весь день копились тучи, весь день давило, жара была страшная, духота. Казалось, что и птицы не летают, куры не дышат, и только мухи страшно жужжали и кусались.
И вдруг вечером захлопали окна и двери; пыль ворвалась в дом, заметались деревья и далеко заворчал гром. И быстро он приблизился и грянул над головой. И старухи запричитали:
– Сухая гроза. Ох, страшно, хуже бомбежки…
И сразу хлынул ливень – стеной, все заплясало вокруг, пахнуло свежестью и радостью, но тут же хлопнуло и дом закачался, еще удар – казалось, прямо в крышу, так близко, – и снова затрещал дом.
Собаки скулили и прятались, дом все трещал и качался, и мне вспомнилось, как шатался совсем другой дом – прекрасный дворец на Фонтанке, когда бомба упала совсем рядом.
Этому дому надо было дать награду, так он стоял всю войну, когда рядом и прямо на него сыпались бомбы, снаряды, зажигалки, а он стоял и уцелел.
Тот дом на Фонтанке знаком мне так, как собственная комната. Я пришла теперь к нему, вошла совсем не тем ходом и увидела, что все в доме как было во время войны. Пошла коридором, и мне сказали:
– Вы так не пройдете.
Но я прошла, потому что могла бы этим вахтерам рассказать, как можно попасть в этот дом с Литейного, дворами, и через сад с Фонтанки.
Я помнила этот дом еще таким парадным, с тяжелыми резными дверями и зеркальными стеклами. Я помнила его огромный зал на втором этаже, сверкающий паркетом и люстрами, великолепный зал, превращенный в палату. Он был все таким же парадным, как в те времена, когда давали балы. Он и теперь сохранял торжественную красоту.
Как был тогда красив фасад дома за тяжелой решеткой, которая слилась с корой старых тополей и образовала неповторимый рисунок. Теперь нет тополей и нет ограды, а хотелось бы знать – где ограда? Она, устоявшая под всеми обстрелами и бомбами, оставшаяся до последних дней войны, вдруг исчезла уже после войны, когда восстанавливали дом.
Лицо дома опустело, когда не стало тополей и решетки, но все-таки это был тот самый дом – мой дом и мамин, тот самый героический дом, который спас жизнь стольким людям. Если бы он не выстоял и рухнул, под его развалинами остались бы тысячи, но он не рухнул, он выстоял, и все остались жить в нем…
Я бегу под обстрелом, я бегу, и меня ловят, стараются загнать в бомбоубежище, но я бегу, кажется еще не зная, что в тот дом попала бомба, в правое его крыло, но почему-то бегу со всех ног в ощущении беды и вижу дом с улицы Ракова – кажется, он цел, он стоит как прежде, как всегда; да, он цел, но все равно сердце не спокойно, и я бегу дальше, хватаюсь за перила Фонтанки и хочу лезть через перила – там, внизу, лед, там, впереди, этот дом и мама там. Вблизи видно, что нет стекол в доме, нет рам, но все-таки он цел. Будто бы и легче, но не очень – кто там погиб? И я бегу на Аничков мост, скорее с моста, пока не поймали, но меня ловят, и я хочу прорваться, вырваться из рук, говорю:
– Мама там в доме…
И мне спокойно отвечают:
– Мама жива. Все живы. Погибли только двое. Молоденькая сестра и раненый. Значит, мама жива, понимаешь?
– А раненые есть?
– Никто из персонала не ранен.
Вот был какой дом. Прямо в него попадание – и он цел. Даже не треснул, даже не уронил кирпича, только погиб тот парадный зал.
Сразу после этой бомбы люди стали будто и веселее в госпитале.
Я слышала разговоры:
– Прекрасно, что бомба уже попала. По теории вероятности вторая не попадет.
Шуточки. Никакой подавленности.
Дом этот я могла бы нарисовать и теперь по памяти, так он был мне известен: каждая лесенка, каждая труба в подвале, всякая кафелина, которая выбилась и стучала под ногой. Я знала, с какой стороны и когда светит солнце, где теплее и где холоднее, хотя дом этот был теплым всю блокадную зиму, в нем ни разу не погас свет и было тепло, тепло… К этому теплу и свету, к этому дому тянулись замерзшие, умирающие люди и, попадая в него, приживались здесь, пережили всю блокаду и не умерли. Дом был перенаселен, так забит во всех углах, что, казалось, нет места, где бы не спали. Часто просыпаясь в маминой кровати, я видела рядом еще и еще кровати, которые внесли ночью, носилки на полу или даже людей, которые спали у меня в ногах. И все те, кто работал по найму или приходил помочь, все они жили на ногах, часто неделями. Иногда, когда грузили мешки, вату, одеяла, вдруг находили кого-то, кто внезапно прислонился к этим тюкам, да и спал на них, так, случайно для самого себя, присел и заснул.
И несмотря на то, что все углы были забиты людьми, дом казался просторным и чистым, да он и был весь чист. Подумать только – в ту блокадную зиму, когда я жила в этом доме, там сияли паркеты, сверкали люстры и дверные стекла, были вычищены все медные ручки и перила, вымыт кафель, в доме продолжался тот довоенный мир, несколько более суетливый и быстрый, но все тот же – с шутками, с улыбками, будто не висела над всеми угроза, будто и не было бессонных ночей, будто не было работы на ногах – неделями, будто не стучал метроном радио.
Помню солнечный тихий уголок операционной, в которой обычно было столько народу, столько дела, и вдруг – передышка, тишина, пустота. Я заглянула, и солнце ослепило меня, яркость ламп и солнца, которое было где-то высоко под потолком красным маленьким островком, но это солнце, эта белая комната вдруг так обогрели меня, и я подумала, что все равно все обойдется, все кончится благополучно, – поверила свету и солнцу.
В предоперационную кто-то вошел и не видел меня – легкой тенью скользнула белая одежда и отразилась в кафеле пола. Сестра была без шапочки, в халате, надетом, как часто делали операционные сестры, на голое тело, и сзади видна была спина. Она вымыла голову и теперь, стоя перед зеркалами, укладывала волосы, легко ступала по полу, и ее белая фигурка повторялась во всех зеркалах. Она что-то пела.
«Мы все, все будем живы, – еще раз подумала я, – и эта сестра, которая теперь похожа на Наташу Ростову, она здесь на балу, а не в операционной, она такая хорошенькая теперь».
Сестра увидела меня и вдруг из Наташи Ростовой превратилась в сердитую старшую операционную сестру, которая не разрешала быть в операционной посторонним, и сказала:
– Что ты здесь делаешь? Здесь нельзя быть.
– Я просто увидела, что здесь солнце, – сказала я.
– Ну, видела и уходи, – сказала она мирно.
И я ушла, потому что сестры из операционной были особенными, они возвышались над всеми, парили, царили, от них зависело все – они это знали и были горды.
Спустя несколько дней в дом ударила еще одна бомба, правда, не разорвалась, ее быстро схватили и утащили в Фонтанку (только после войны вытащили оттуда), она пробила несколько перекрытий и завертелась на третьем этаже, – и тут ее и настигли. Это была маленькая бомба, дом даже не зашатался. Ему эта бомба была как царапина слону.
Уж на этот раз все говорили, что теперь никогда больше не попадет бомба, это совсем не по правилам, но они ошиблись.
Еще одна ударила в угол, в боковую пристройку, и несколько снарядов выдержал дом.
Сколько ни твердили, что теперь уже никогда не попадет ничего в дом, снаряды все сыпались, и все-таки дом остался стоять без трещин и изъянов, он сохранил жизнь стольким людям, что ему стоит поставить доску на фасад и написать на ней о том, что он испытал.
Он высится и по сию пору, как прежде, только паркеты потускнели, нет тех зеркальных стекол и нет старых дверей и решетки (вместо награды его лишили решетки!), и все-таки он хорош, этот дом на Фонтанке.
Недавно я видела, как взрывали старый дом на проспекте Римского-Корсакова. Это был не такой уж большой дом, трехэтажный старый домишко, и рядом с ним – совсем ветхий, будто на триста лет старше того дома, совсем лопнувший и обваливающийся, на самом деле младший его брат. Хотели, собственно, сначала ломать только тот маленький старый дом, но, размыслив, решили сломать и трехэтажный, и взорвали его.
Не знаю, сколько тонн динамита или еще какой-то там взрывчатки заложили в дома, но когда их взрывали, наш дом по соседству повело, он шатнулся, а тот старый маленький дом распался – на кубики, только эти кубики были по три кубометра объемом, они никак не поддавались больше разрушению, так и были – огромными кубиками, которые приходилось грузить на платформы и увозить куда-то за город. Кирпичей отдельных не было. Я смотрела на это и думала, что старые мастера, которые строили такие вот дома, подобные тому дворцу на Фонтанке, будто предполагали, что их руки когда-то сохранят жизнь многим людям. Если бы они строили поспешно и как попало – сколько людей бы погибло тогда под развалинами, но они не погибли – живут себе кто где. Например, строгая сестра, похожая на Наташу Ростову, действительно Наташа, стала хирургом, живет в Ленинграде и по сию пору ходит в белом халате с голой спиной, наверно, до сих пор она все еще хороша собой, как тогда, и так же строга.








