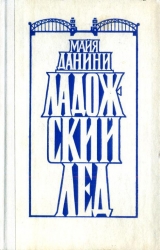
Текст книги "Ладожский лед"
Автор книги: Майя Данини
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
МОИ ДЕМОНЫ
Не было для меня ничего проще, чем придумать себе демонов, поверить в них, носиться с ними, бороться и вечно быть побежденной ими, несуществующими и явными, незримыми и все-таки тягостными; не было ничего проще выдумать их – даже сидя на уроке, даже в то время, когда что-то читал и, казалось, ничего не замечал, кроме строчек, тем не менее каким-то своим непостижимым способом, одновременно с тем, что читал, – выдумывал, а после, закрывая книгу и погружаясь в сон, продолжал вести диалог со своим демоном. Редко он говорил мне известные слова о том, что я буду царицей мира, гораздо чаще он произносил: «Когда б вы знали, как ужасно томиться муками любви…» При этом я сердито отвечала не те известные слова, которые должна была ответить, а свои: «Надо же! Я не знаю! Ведь я первая полюбила! Я первая писала!» – все равно как «чур первая». «Кто играет в жмурки, чур я первая!» – «Нет, я первая сказала, нет я, нет я!»
Не было ничего проще, чем увидеть мальчика, как две капли воды похожего на Оливера Твиста из моей книги «золотой библиотеки», и понять – он и есть тот самый, которого я люблю давно, еще когда только что научилась читать, что я люблю его и знаю. После, при ближайшем знакомстве, разглядеть, что он такой веснушчатый, что он едва умеет сказать два связных слова, и те будут звучать несколько необычно. Например: «За баламуту выделяют», – стоило дома произнести эти магические слова, похожие на заклинание, как начинали все потешаться или ужасаться и заставлять меня прежде всего объяснить, что они значат, а после – забыть и никогда не произносить вовсе, чего я уж, разумеется, совсем не могла сделать после того, как они велели объяснить, чего я тоже не умела. Я старалась всеми силами узнать у всех, что же означают эти слова, и в конце концов узнавала, что это значит: «Не болтай, а то побьют».
При этом сначала мне переводили слова так: «Не треплись, а то получишь!» Именно так я и говорила дома, и они понимали, но делали вид, что все равно не понимают, а я старалась узнать еще один перевод – с русского на русский, и наконец обретала желаемый текст, который и подносила дома. Они получали его от меня, а я взамен – длиннейшую нотацию, которая в свою очередь заставляла меня жалеть о проделанной работе, с одной стороны, с другой стороны – высекала, как на граните, эти слова-заклинания в моей душе, а в-третьих, не вызывала ни малейшей антипатии к тем, кто произносил злополучное выражение, а скорее раздражение против тех, кто выговаривал мне.
Теперь мне к месту и не к месту хотелось произносить за баламуту выделяют, что я и делала, думая про себя, что это так же значительно звучит, как знаменитое: «Когда б вы знали».
Поистине это были демонические слова, которые я помню и по сей день так, будто слышала их вчера, что же касается образа самого демона, то он стерся, исчез, забылся совершенно, оставив после себя легкую грусть.
Эта грусть, пожалуй, проистекала оттого, что мое воображение изменяло мне: в другие времена оно служило мне верой и правдой и долго удерживало образ в рамках задуманного заранее. В этом случае происходила постоянная игра в этого демона, который произносил то, что мне хотелось, и не вырывался из моих рук так скоро, как это случалось в детстве.
Лет в девятнадцать написала стихи:
Я ведь знаю, что влюбленность —
Это все самовнушенье.
Чем сильней воображенье,
Счастья неопределенность,
Тем сильнее сердце бьется,
И тебе лишь остается
Покориться его стуку.
Покориться без остатка… —
и так далее, но, зная все это, все-таки в глубине души иногда сомневалась в истинности своих же умозаключений и предавалась своему самовнушению со всей страстью, на которую была способна.
«Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждою любви», – произносила я постоянно и постоянно томилась этой мукой, невзирая на то – был объект или нет под рукой, иногда включая этот объект в свои терзания, иногда и обходясь без него.
В тринадцать лет, прочтя «Таис», я говорила с видом грустным и утомленным: «Мне ведомы все виды любви», путая такие понятия, как виды и оттенки, что в данном случае очень существенно. К счастью, я говорила это своим же девочкам и мальчикам, и они только сердились, чуя в этом речении чью-то цитату, которую они не знали, в то время как считали, что должны знать все цитаты наизусть. К тому же они знали, что все мое глубокомыслие – чистейшая ерунда, что я ничего не смыслю в любви, разве что начиталась, – это книжное знание всего раздражало их в себе, а уж в других – совершенно. Потому они пропускали мимо ушей мои разглагольствования о любви.
В тринадцать лет я чувствовала влюбленность во всех на свете. Любила учителя литературы, которому было лет пятьдесят; любила Таниного старшего брата-студента, который меня вовсе не замечал; любила своих братьев; очень благосклонно, хотя и презрительно принимала влюбленность мальчика, который был младше меня, и еще без конца всех, кого случайно видела в гостях или в театре, кто приходил ко мне на день рождения или звал к себе. Просто в тот самый миг, когда меня приглашал какой-нибудь мальчик на день рождения, в тот миг я и влюблялась в этого мальчика и в его день рождения – разом. Пожалуй, день рождения я даже любила больше, чем мальчика. Ах, эти дни рождений, которые начинались тревогой – отпустят или нет в чужой дом, дадут или нет денег на подарок, вообще состоится ли он, этот день; и, когда он наступал, когда все состоялось, как было задумано, каким счастьем казался он. Как наряжалась перед зеркалом, меняя ленты и заодно – выражение своего лица, как быстро бежала туда, где тебя должен был ждать именинник, встречать на остановке трамвая, что само по себе уже создавало какую-то интимность и подобие свидания, он ждет на остановке – уже влюбленность и тайна. Если шла на этот день рождения не одна, а всей гурьбой, то влюбленности не случалось, а если кто-то ждал, то случалось, но иногда, несмотря на всю гурьбу, я все равно была влюблена – и тогда уж не в именинника, а просто во всех: в его родителей и родственников, в его дом и веселье, которое происходило в этом доме.
Соседа Вову я любила за то, что однажды его отец позвал меня с серьезным видом и стал обиняками говорить, что Вова очень неравнодушен ко мне и надо отнестись к этому как можно серьезней и не разбить его сердце. Стоило мне услышать эти слова, как я тут же решила разбить его сердце – и пыталась сделать это в самом буквальном смысле. Наши балконы были на одном этаже и рядом. От одного балкона к другому шел узкий карниз, и я уговаривала Вову пройти по этому карнизу к балкону, то есть пыталась разбить его вместе с сердцем. Вова не шел по карнизу на мой балкон, а бежал через площадку и уныло звонил под дверью. Дверь я не открывала очень долго и сердито стояла на балконе, ожидая, что Вова решится еще перелезть. После, потеряв надежду увидеть его на карнизе, я открывала ему и говорила, что он трус и не сможет стать летчиком, как он хочет, раз боится высоты. Вова отмалчивался.
В то же время я чувствовала, как гаснет интерес ко всему на свете, если Вовы не было на соседнем балконе, а когда он только появлялся, я демонстративно уходила, боковым зрением наблюдая выражение его лица и после, садясь делать уроки, ловила каждый шорох на балконе – стоит он или нет, и сразу выходила, как только слышала, что он открывает дверь и хочет уйти в комнату, не дождавшись меня.
Если Вова уезжал на дачу или куда-то девался, было очень скучно.
Пытаясь разбить сердце ушастого Вовы, я ни на минуту не забывала все прочие свои влюбленности, наоборот, идя с ним в кино, вдруг вспоминала, что вообще-то по-настоящему я любила только актера Тенина, а вместе с ним – заодно – и актрису Сухаревскую, его партнершу.
Кроме того, всегда влюблялась в тех мальчишек, которые нравились Тане, и даже ревновала ее, если она не хотела знать моих пассий и относилась к ним презрительно. Это мне было неприятно, я хотела, чтобы Таня, как и я, была влюблена в тех, в кого я (эдакие Эмина и Зибельда!)
Предметы наших увлечений ничего не ведали о том, сколько мы о них говорим и думаем, да и для нас они были мимолетны и не имели никакого значения. Уверена, что если бы меня спросили, чего мне больше хочется – поговорить с актером Тениным или съесть кусок арбуза, то я бы выбрала арбуз. Любила арбузы так сильно, что могла есть их днем и ночью, утром и вечером. Помню необыкновенную радость, когда кто-то приносил арбуз – простой зеленый шар казался мне сосудом, полным волшебства и тайн, и до сих пор мне кажется, что не открыты все тайны арбуза: ни один плод так не манит, как арбуз.
Когда приносили арбуз, я исполняла вокруг него ритуальный танец, обнимала его, тащила на стол, суетилась, чтобы его скорее-скорее взрезали. И этот треск, когда нож вонзался в твердую корку, этот непередаваемый чмок, когда арбуз распадался на две половинки и в тишине, воцарившейся в то время, когда резали, слышался всеобщий вздох: «Ах, хороший, какой хороший» – и запах сладкой свежести распространялся по всей комнате, – особенный, арбузный восторг наполнял комнату предвкушением блаженства. Зубы вонзались в арбуз, и холодок его сока разливался по всему телу, вливался в каждую клетку, радостью отдавался в твоей душе и веселил ее.
Когда я ела арбуз в детстве, то всегда думала – откуда в нем столько холодного сока? Все можно было понять – и для чего этот сок, и почему так много сладкой мякоти в арбузе, но откуда в нем холод?
Помню, что ранней осенью, когда погода становилась острой и тепло быстро сменялось туманом, – очень мерзла, когда ела арбуз. И дома все мерзли и говорили:
– Давайте топить камин.
Топить его было очень трудно: надо было просить кого-то принести уголь, который всегда экономили, надо было вообще всех уговорить, что они замерзнут, если не затопят, и, наконец, когда все соглашались, я суетилась больше других и растапливала камин.
Зато какое роскошное тепло заливало меня, когда камин разгорался и его языки плясали перед моими глазами.
Так любила смотреть в камин и воображать какие-то фигуры, возникавшие из огня и улетавшие куда-то. Я видела в огне яростные тела, делающие какие-то прыжки, тела людей, которые вытягивали руки; мне казалось, что этих людей жгут на костре, что они пытаются вырваться из пламени, хотелось спасти их и оставить плясать возле камина.
Иногда мне удавалось выкатить уголек незаметно, тогда он быстро гас, и едкий дым заставлял меня снова бросить его в камин.
Между тем тепло вытесняло холод и дремота разливалась во мне. Хорошо было, если кто-то в это время ловил чью-то далекую мелодию и она вместе с теплом и уютом баюкала меня.
Кто-то говорил о том, что, верно, играет Менухин, кто-то говорил о его игре, а я тихо задремывала, видя яркие сны: в глазах все еще плясали огненные люди, хотя веки и были закрыты. Так ласково касались меня музыка и тепло камина. Я засыпала и видела во сне что-то очень яркое и светлое, после, просыпаясь, думала, что другого блаженства не бывает (я была недалека от истины).
То детское блаженство не воскресить и в памяти. Помню только, что оно горело ровной радостью, оно вызывало бесконечный интерес ко всему на свете, восхищение всяким предметом, всякой малостью, от букашки до книжки, от хорошей погоды до хорошего спектакля.
То детское блаженство было действительно блаженным, а все после было только выходом из тяжелого состояния, которое по контрасту казалось счастьем. Старая истина и тем не менее – истина, которую стоит сказать.
Юность была тяжелее детства, она казалась больше трагичной, чем прекрасной, и не потому, что была война и всякая напасть, а потому, что она и всегда и всем тяжела – вплоть до относительной зрелости.
Но демоны, сколь быстро появлялись, столь быстро и исчезали из моей памяти – все, и те, которые не были мной придуманы. В сущности, я никогда не любила ничего воинственного, а демонизм нес войну и страсти, которые тоже не очень любила: они мне мешали ощущать простые прелести, – так было, нисколько не путаю.
Влюбленность в юности была так страшна – вдруг в какой-то момент ты чувствовала, что ничего для тебя не существует на свете, кроме любви, что ты совсем затоплена ею, что все, что происходит кругом, все это любовь и мука, которую не перенести. И все это просто тяжесть, которую надо перетерпеть, и даже кино, веселье, ожидание этого веселья – все это только ожидание кого-то, кто, может быть, и не придет вовсе. Но, конечно же, он приходил, потому что совершенно неважно было – кто он, и какой, и что он собой представляет. В те времена никто не существовал на земле, кроме тебя самой, тебя – вечной, тебя – прекрасной в своей некрасивости, тебя, которая должна была иметь одно качество – любовь к кому-то, и ее следовало не выдать ничем – ни лицом, ни жестом, что было необыкновенно трудно.
Лицо и все твое существо могло смеяться, веселиться, ты могла шутить и разговаривать с теми, кто завидовал тебе, твоей молодости, но на самом деле ты знала только свою муку неразделенности, ту муку, которая была всегда с тобой, даже если любовь была разделена.
Демоны витали всюду и являлись тебе в самых дивных минах – от прекрасных, как мои братья, до невероятно смешных и ничтожных, мелькнувших на какой-то миг и забытых мною вовсе и тем не менее существовавших какое-то время.
Ты мог из своего смущения, неловкости, этого внутреннего содома, что был в тебе, делать самые нелепые вещи, ты мог упорно сопротивляться своему же демону, мог дразнить его, и мучить, и плакать после всего того, что сам устроил, горькими слезами, в то время как надо было бы смеяться своей победе. Ты, одержавший победу, вдруг становился побежденным и несчастным, ты чувствовал в себе неразделенную муку в то самое время, как твой демон действительно был тобой отринут. Отринут – какое смешное слово. «Не можешь ты меня отринуть, ты для меня должна покинуть…» Итак, он был отринут, а ты не торжествовала, а только страдала, воспринимая его муку, как свою, путая все эти муки и страдая за себя и всех, а в то же самое время ощущая только одно: себя. Себя. Себя, несчастную, себя, любимую, себя, средоточие всех мук и всей вселенной.
Понимание того, что демон уже не он, а ты, приходило к тебе, но некогда было даже торжествовать, ты этого всего уже не замечала, а тебе это было уже скучно видеть, ты не помнила ничего, помня только одно – кем-то ты была отринута и больше никогда не будешь возвращена.
Никогда висело над тобой, как вечный меч, который так хотелось схватить и занести над головой того, кто занес, но пока ты так суетилась, все исчезало для тебя и ты забывала свою руку на ручке того меча, уже схваченного тобой, но не взятого. Меч этот исчезал, рассеивался, и ты видела теперь, что меч этот и не был в самом деле вовсе, что он был химерой.
Смеялась над собой и над теми, кто вызывал такой прилив энергии, смеялась, представляя себе, что это была за схватка с пустотой, и сколько на это ушло сил, и как все нелепо выглядело со стороны, но понимала вдруг, что вся эта нелепость, в сущности, была тоже грациозна и нужна и ты все-таки победила.
Глава одиннадцатаяФИЗИОЛОГИЯ ЧТЕНИЯ
Сколько радости было в чтении по ночам, в чтении книг, про которые говорили: «Смотри, чтобы дома не отобрали». Эти книги, которые могли отобрать, были всегда истрепаны и засалены, были сальными во всех смыслах этого слова, эти книги читались единым духом, за ночь.
Надо было вовремя лечь спать, но постараться не заснуть, что было очень трудно. Надо было выждать, чтобы все в доме заснули, а ты доставал свечу, зажигал ее, ставил под кровать и открывал книгу. Какие-нибудь белые рабыни и их горькая судьба заставляли тебя не спать до самого рассвета, заставляли тебя истомиться жалостью, даже поплакать, разжигали любопытство и недоверие к тому, что писалось про них, и думать – не все, не все написано, что надо бы написать все, как ты предполагаешь.
Эти предположения в тринадцать лет мучили тебя страшно, гораздо больше, чем сама книга, которую читал.
Читал тогда единым духом, читал до того, что голова становилась огромной и легкой, глаза ломило, а руки затекали, но этого всего нисколько не замечал, только читал и читал, пока не сваливалась сама собой голова на подушку. Тогда истомленно и прекрасно засыпал. Спал так глубоко, что, когда тебя поднимали, помнил только белых рабынь, которых продавали во все страны какие-то злодеи.
Сколько ушло на это сил, сколько ночей, и казалось, что несчастья белых рабынь навсегда поглотили те силы, которые нужны были для чтения, но, как ни странно, они не только не поглотили, но удвоили эти силы, сделали тебя вдохновенным читателем, они приучили читать не просто глазами, но и всем существом. После них читал так же упоенно и Гоголя, и Достоевского, читал так до тех пор, пока тебе не начали задавать читать. Разве можно было сравнить то собственное чтение с уроком литературы, где по часу читали одно и то же, разбирали образы и заставляли совсем, навсегда разлюбить Пугачева или Онегина, которые после урока становились совсем не теми, какими помнил их, только что прочитав. Они становились заданными и выученными.
Это был кошмар, когда из гоголевского Манилова, такого смешного и славного, на уроках делали типичное явление, когда по нему писали сочинения и читали вслух по десять, двенадцать раз подряд. Манилов, такой деликатный человек, вроде Коки, – Манилов, мой милый, и вдруг всякие громовые слова в его адрес!
Но все равно сам для себя продолжал читать с таким вдохновением, что казалось, будто ты не читаешь, а пишешь все это, и даже не пишешь, а существуешь этим. Ты после чтения каких-то самых смешных вещей был уже сам не свой, а их; ты принадлежал им всецело, так что на уроке мог отвечать что угодно, кроме того, что было нужно. Мог отвечать рассеянно и нелепо, как Недоросль, или очень умно и быстро, как Николенька, мог сбиваться, или путать все на свете, или острить, как Чацкий. А как легко было стать Чацким и вдруг ни с того ни с сего бояться, что тебя назовут безумным, как легко было представить себя ревнивым Арбениным и травить свою кроткую Нину постоянным подозрением и ядом!
В четырнадцать лет казалось, что уж и читать нечего – все было прочитано, все было узнано, и тяжелая усталость вконец измученного чужими-своими горестями человека делала тебя таким вялым и всезнающим, что казалось, отныне все кончено с чтением, больше не испытаешь того раздраженного состояния. Но через некоторое время снова набрасывался на какую-нибудь «Нана́», читал ее, не отличая уже Нана́ от Грушеньки, и делал свои удивительные выводы: «Я ведь это все тоже знаю», ощущал это свое знание так остро, что даже скрывал его от других.
В то время я попала в дом деда, где книги были сплошь полезные, географические, отобранные специально для детей – моих двоюродных братьев. К литературе в этом доме относились скептически или, во всяком случае, осторожнее, чем в нашем доме, где все было открыто, где считалось, что если спрятать книгу от детей, то они ее все равно найдут и прочтут с еще большей охотой и что лучше уж не прятать книг, а просто разговаривать с детьми. Но на эти разговоры не у всех хватало времени, потому мы просто читали все что хотели и оставались безнаказанными.
В доме деда дети были моими ровесниками, но они знали гораздо меньше меня и знать все, что я им говорила, не очень-то стремились. Они, правда, читали Стивенсона и Рида, Брема и Киплинга – не всего, конечно, а только «Маугли», то есть они были по-детски начитанны, начитанны соразмерно. Я рядом с ними была тяжелым случаем всевозможных душевных недугов, которыми страдали Отелло и Гамлет, Фома Фомич и Раскольников, но, обладая этими недугами, я уже умела и пользоваться ими: давить, настаивать, подозревать и заставлять сделать, как я того хочу, да еще и школа Надежды сделала меня воительницей. Я кинулась на своих братьев, стараясь подавить их и без того робкий интеллект, я кинулась с топором, а они слабо защищались шпагами или стрелами на самый крайний случай. Я повторяла все уловки чтимых мною героев и куда превзошла Надежду. Сопротивление братьев было сломлено очень быстро, но тогда явился дед, человек спокойный и насмешливый. Он был молчалив, его удивительная выдержка и умение говорить без слов подавляли меня гораздо сильнее, чем всевозможные уловки Надежды.
Про деда рассказывали, что он однажды вернулся из поездки, не видел братьев несколько лет, а войдя в комнату, услышал, что играют в четыре руки оба его брата, молча взял скрипку и стал играть, не говоря ни слова. Играли долго, и никто не удивился и не остановился, когда вошел дед Сергей. Они сыграли свое трио и тогда уже стали разговаривать и расспрашивать друг друга обо всем. После Анна Яковлевна, бабушка со стороны матери, удивлялась этому и рассказывала с возмущением… Ей было странно, что братья так холодны друг к другу, но братья не были холодны, они просто были чересчур сдержанны.
Дед сказал мне:
– Твой отец однажды рассказывал, что шел по тонкому льду озера. Это было в октябре месяце, когда он вернулся из экспедиции, в его честь были гости, гостям он и рассказывал, – дед говорил так, будто все время надеялся, что можно истратить как можно меньше слов, если это не удавалось, то он добавлял еще одно, – но гости не поверили, стали кричать, что лед в палец толщиной обязательно провалится. Тогда твой отец очень рассердился и сказал, что пойдет сейчас на Неву и продемонстрирует, как он шел. Ему сказали, что согласны, только прежде надо выпить за его храбрость. Налили отцу водки, он выпил и скоро заснул в кресле. Тогда мы прикрепили к нему бумажку:
Лучше спать на заду,
чем ходить по льду.
Он спал два часа, а когда проснулся и прочел, что мы написали, то было уже поздно – все гости разошлись.
Хотя рассказ этот не имел прямого отношения к тому, что я говорила братьям, но они оба, да и я сама, решили, что будто бы это имеет самое прямое отношение ко мне и моим нападкам на братьев, и я почувствовала себя оскорбленной и побитой.
Двустишие это очень понравилось братьям, и они повторяли его мне к месту и не к месту, хотя им и делали замечания, но они все равно повторяли ночью, шепотом: «Лучше спать на заду…» – и смеялись тихо.
Мы спали в одной комнате, только я спала за шкафами, у меня будто бы была отдельная комната в этой большой комнате, и хоть я и чувствовала себя свободно за этими шкафами, но слышала их шепот и смех.
Братья теперь были ограждены этим двустишием и могли сопротивляться, мне же необходим был кто-то, некто, который бы мог быть покорен мной, который мог слушать меня и терпеть мои нападки. И этот человек нашелся, мальчик из восьмого класса, Валя, тихий, очень влюбленный человек, который долго – целый год – не говорил со мной и никогда не приглашал танцевать на вечерах, но был, существовал, я это чувствовала. Он иногда подходил в коридоре и краснел, когда спрашивал самые незначительные вещи:
– Не знаешь, где Верблюд?
Ответа не слышал, уходил быстро, а я сердито кричала ему вслед:
– Верблюд в зоопарке! – хотя отлично знала, что он спрашивает про ботаника.
Однажды мне передали записку от него, он писал каллиграфическим, необыкновенно четким, четким до отвращения почерком: «Приходи после школы к «Рекорду». Пожалуйста».
Я пришла, и его несчастный вид смягчил меня.
Мы шли по улицам, и я понимала, что обрела человека, которым могу распоряжаться, как хочу, могу изложить ему все свои теории, блеснуть своей начитанностью и заставить его краснеть по всякому поводу и без повода.
Я сразу начала говорить ему все то, что не досказала братьям.
Я говорила и говорила, а Валя покорно слушал, наконец я выдохлась, и тогда он робко спросил:
– Ты не хочешь играть в нашем кружке Нину Арбенину?
Это было то самое, чего мне очень-очень недоставало. Я всю жизнь хотела играть на сцене, всю жизнь мечтала, чтобы меня пригласили так вот, как он, и от удовольствия сказала ему:
– А право, жаль безумного мальчишку…
– Что?
– Ничего, – сказала я многозначительно, – ниче-го!
Да, было жаль этого мальчика, этого тихоню, чье имя звучало плавно и слабо – Валя, Валентин. Звали его еще Валёна-Алёна. Так оно и было – именно Алёна, и он еще играл Звездича! Какой там Звездич, ему бы играть покорную Нину, способную всего один раз съездить в маскарад и тут же попасться, потерять браслет, быть уличенной и отравленной!
И началось разучивание роли, началось существование в «Маскараде», началось то, что, кажется, было всю жизнь, но никогда не воплощалось столь ярко.
Отныне по ночам я ходила в корсете, раздобытом где-то у бабушки в сундуках, отныне на простые вопросы, что я буду есть, я отвечала только:
– Зачем, я там мороженое ела…
К счастью, это понимали и даже не укоряли меня за то, что я будто бы ела мороженое. Говорили терпеливо:
– Налить суп?
Еще раз спрашиваю.
– Да, да, – говорила я. – Я все ж невинна перед богом!
– Лучше бы за обедом говорить с нами, чем с богом. Пожалуйста, спустись к нам, – говорил дед.
Братья хихикали.
Но им не было безразлично то, что я, одетая в ночную рубашку и корсет, стою часами перед зеркалом и читаю свой монолог, им не было безразлично то, что я завиваю свои волосы и распускаю их по вечерам. Они устроили такую уловку: провернули дырку в шкафу, где не было белья, держали шкаф открытым и подглядывали, как я там упражняюсь перед зеркалом. Им не было безразлично и то, что Валя ходит под моими окнами и провожает меня из школы. Мои отношения с ними очень испортились и стали натянутыми.
Близился новогодний бал, где должны были ставить «Маскарад». Волнений было столько, что уж и дед принимал участие в обсуждении того, как лучше мне умирать на сцене: реалистически или условно. Вопрос обсуждался долго, и пришли к выводу, что лучше условно.
Спектакль удался, бал тоже. Бал был похож на сплошное пятно света, на игру огней, на вихрь, который куда-то нес, заставлял бежать, что-то делать, говорить. Бал был прекрасен, и ты знал, что ты сам тоже хорош и весел, и оживлен, и говоришь все впопад и как надо. А потом была тихая ночь, та удивительно мягкая и снежная ночь, которая и со снегом бывает тепла и уютна, когда не замечаешь легкого морозца и тепло от бала все еще живо в тебе, ты все еще танцуешь, когда идешь по снегу в валенках с калошами, а кажется, что все еще летишь в атласных туфельках по паркету и твое платье касается пола, что все еще ты стянута корсетом и тебе в нем так стройно и весело, так взросло и гордо. Удивительное ощущение – платье до полу. Платье касается пола, волосы распущены по шелку, легкому шелку, и скользят по нему.
И рядом идет Валя-Звездич, который играл не так уж деревянно и плохо, подчинившись общему успеху, который произносил свое «ваш муж злодей» не так уж яростно, как делал это на репетициях, когда от смущения он говорил слишком тихо или кричал что было сил.
Да, рядом шел Валя, молчал и улыбался, а я говорила и говорила нисколько не язвительно, нисколько не сердито, как всегда, а легко и весело.
И вот мы останавливаемся возле калитки, стоим, прохаживаемся, опять стоим. Приближается Новый год, за окнами горят свечи, мелькают тени, там уже пахнет мандаринами и крымскими яблочками, там уже ждут к столу – удовольствия в этот вечер будут продолжаться всю ночь, там ждет примирение с братьями и, может быть, подарки. А Валя молча все вздыхает. Я не могу пригласить его к нам, но могу утешить его и вдруг говорю ему:
– Я люблю тебя…
Я знаю, что все это чистая ложь, что говорю это, может быть, для того, чтобы впервые произнести это, чтобы утешить его, и еще потому, что люблю сегодня себя, и всю эту прекрасную ночь, и бал, но я говорю это и вдруг в ответ слышу опять вздох, Валя кивает головой и говорит тихо:
– Я это знаю, – и опять вздыхает.
– То есть как знаешь! – Ярость вскипает во мне мгновенно. – Как это знаешь?
– Я это всегда знал!
– Что? Что ты знал? – Я же не могу сказать, что только что придумала это, чтобы услышать эти слова, которые он все равно никак не смог бы произнести.
– Я знаю, что ты меня не любишь.
– Что? – снова говорю я и начинаю хохотать, плясать вокруг него в своих валенках, открываю дверь и исчезаю.
Он услыхал то, что хотел услышать. Он не понял, что я сказала. Ну и пусть! Пусть. Я возвращаюсь к нему и кричу вслед:
– С Новым годом, слышишь ты? Я тебе не то сказала, ты не слышал! – но он уже далеко, хоть и возвращается.
Я уже дома.
– Кот, я люблю тебя, – говорю я коту, но он не поднимает головы.
– Эй, Витька, я люблю тебя! – говорю я брату, а он отвечает:
– Дура!
– Дед, я люблю тебя! – говорю я деду, а дед усмехается. Ему жаль слов, чтобы ответить мне, и только тетка Виктория обнимает меня и слышит мои слова. Она целует меня, дарит колечко, она даже плачет, когда я говорю ей, что я ее люблю, она слишком серьезно принимает мои слова.








