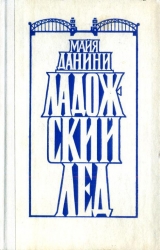
Текст книги "Ладожский лед"
Автор книги: Майя Данини
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ
Шура была такой же, как Костя, – шумной и нескладной, она была так на него похожа, что одно это заставляло меня радоваться, глядя на нее. Ее нескладность была мне очень приятна, мои складные родители совершенно меркли перед ней.
Шура налетала на меня как шквал, целовала меня, тащила куда-то, тормошила и спрашивала, чего я хочу съесть, где хочу побывать. Тут же я становилась такой, как она, и отвечала на ее восторги – своими. Как только мы кончали обниматься, так глядели несколько минут друг на друга с видом заговорщиков: она кивала мне слегка, а я – ей, это означало: «Удерем?» – «Удерем». – «Сейчас?» – «Да». – «А отпустят?» – «Постараемся».
Я никак не могла определить – сколько ей лет. Всегда мне казалось, что она только немного старше меня, (мне было четыре-пять, ей, пока она жила в Ленинграде и училась в университете, – семнадцать-восемнадцать).
Меня неохотно отпускали с ней, но все-таки мы удирали всеми правдами и неправдами. Мы удирали, и весь город, все его кондитерские, кино, парки, пароходики, садики и театры становились нашими. Мы в один день успевали и в цирк, и в зоопарк, и на Елагин остров. В один и тот же день мы успевали покататься на пароходе, на американских горах, на каруселях и на лошадях.
К моей радости примешивалась ее радость, и, пребывая в этом общем восторге, чувствуя его вдвойне – за себя и за Шуру, а она – за меня и за себя, мы мчались по улицам, и езда в трамвае нам казалась слишком медленной.
Шура очень любила Костю – как и все, – и еще больше, потому что она все делала страстно, порывисто и неукротимо. Она уподоблялась Косте не только потому, что была его родной сестрой, но и потому, что подражала ему нарочно. Он слезал с гор радостный и возбужденный, приезжал в Ленинград с особенным ощущением оконченных трудов, и она приезжала после зачета или экзамена с теми же словами и жестами – врывалась к нам как ураган и веселилась, как будто кончился трудный поход и она осталась жива.
Смерть его она не пережила: чахла, чахла и умерла во время войны от странной анемии.
Тогда же она была полна такой энергии, такого восторга, что его хватило бы на троих. Она была просто великолепна в своей непосредственности и радости.
Часто Костя посылал ей, студентке, привыкшей есть хлеб всухомятку, пить молоко и чай, большие по тем временам деньги, и эти деньги придавали ей еще больше удали и восторга: она прибегала ко мне, чтобы вместе со мной скорее потратить их и после опять сесть на хлеб и воду. О, я готова была помочь ей сделать это.
Мы сразу накупали столько яблок, что некуда было их прятать, столько вафель, пирожков, сладкой воды, мороженого, что приходилось всем этим делиться со слонами и обезьянами, приходилось все это скармливать рыбам и птицам, а это все только было прелюдией, и большой пир ожидал нас впереди в кондитерской, но мы, никак не успевали проголодаться, по крайней мере я.
Шура таскала меня от одного аттракциона к другому – то метала какие-то кольца, то садилась на качели или на каруселях ехала верхом на лошади и хохотала до того, что вот-вот упадет от смеха. Прямо от каруселей мы скакали в лодку, отчаливали от берега сильным толчком, и Шура начинала быстро грести – мы налетали под мостом на чужую лодку, и Шура все время смеялась и громко просила прощения, говорила именно эти слова: «Прошу прощения» – совершенно по-мужски, так что однажды старичок, которого она случайно обрызгала веслом, сказал ей с сердитой вежливостью: «Вам, господин, нужен целый океан, а не этот маленький пруд…» Шура сидела в трусиках и майке, он серьезно принял ее за мужчину. Шура нисколько не смущалась тем, что ее принимают за мужчину, наоборот, она всячески подчеркивала свою силу и некоторую грубость лица и фигуры. Она стриглась коротко, носила мужские рубашки, куртки, которые ей оставлял Костя. Вероятно, сожалела, что не может надеть брюки, как теперь бы носила, – тогда это было невозможно.
Какая обида была – наши, дома, ни за что не хотели ездить со мной в парк на лошади кататься, их было не уговорить, они вечно отговаривались всякими пустяками и отшучивались: «Почему именно на лошади, а не на осле? Или на верблюде? Что за навязчивая идея?»
А мне лошадь внушала какое-то особенное к себе расположение одним своим цокотом копыт по мостовой и мягким движением повозки, сидя в которой, я будто ехала верхом, ощущая всякое движение лошади. Я помнила, что на даче, возвращаясь из дальних походов в лес, может быть, всего в два километра, но для меня – дальних, я, усталая, заморенная, слышала позади спасительный шум телеги и садилась в ожидании на обочину дороги, надеясь, что меня подвезут оставшиеся полкилометра. И действительно, иногда оказывалось, что на телеге едет кто-то знакомый из нашей деревни, и на робкую мою просьбу он отвечал: «Да ведь вот она, деревня, видна уж!» – и сажал, а иногда и не сажал, проезжал мимо и подхлестывал лошадь, так что она на мощеной дорожке близ деревни начинала грохотать телегой и копытами, раздражая меня и заставляя думать про себя: «Да и пусть не взял – так громко я не люблю ездить!»
Но в парке катание на лошадях было мягким и плавным, похожим на качание на качелях, оно баюкало меня и заставляло дышать так, как дышалось в лесу, вернее, после леса, когда меня сажали и подвозили. Эта езда настраивала меня на особенный лад веселья и покоя: легкого веселья и легкого покоя.
Иногда думалось, что я в другие времена с гиком носилась бы по степям, настигала врагов и била их нагайкой, или травила бы лисиц, или ехала в кибитке и жила в ней, кормила бы маленьких жеребят кислым хлебом, который и сама ела, срывала где-то в степи сладкие клеверинки и другую какую-то неведомую мне в этой жизни траву и приносила им.
И если вдруг нам с Шурочкой случалось прийти в парк, когда катали на лошадях – катание было не всегда, – это казалось особенным блаженством: сажание в маленькие повозки, совсем игрушечные или карусельные, усаживание на своих местах, ожидание. И вот – трогается лошадка, которая в парке казалась не такой довольной и норовистой, а несколько измученной, как все горожане, с шерсткой хоть и лоснящейся, но не тем естественным лоском, как в деревне, где для корма она добывала особенные, ей только ведомые травинки и не ела витамины, как в городе. Там, в деревне, или в какой-то неведомой мне жизни, я знала, что лошади бегут по своим дорожкам с радостной резвостью, будто знают, что впереди их ожидает нечто веселое, – их пустят пастись не на вытоптанном поле, а где-то в лесу, где никто до них не ходил, разве что лоси, и где растут эти нужные травинки-витамины, от которых так ласково лоснится шерсть. Здесь же, в городе, сытые, бокастые лошадки бежали быстро, но служебно, а не радостно, в них чувствовалась грусть о тех лесных ласковых полянках.
Мы с Шурой катались на этих лошадях упоенно, и каждый раз, подъезжая к тому месту, где мы садились, я замирала от страха и с надеждой глядела на Шуру – вдруг она купит еще билет, и она покупала. Мы кружились по парку, словно на карусели, без конца, без конца, пока мне не становилось жалко лошадь, несчастную лошадь, которая делает эти круги ежедневно и которой давно уже надоели галдящие и скучные пассажиры.
В один из своих побегов с Шурой мы очутились возле парашютной вышки, и Шура долго смотрела наверх, подмигнула мне и сказала:
– Прыгнем?
– Прыгнем, – ответила я.
– Пошли, – сказала она.
– Пошли, – ответила я более робко и, подходя к вышке, замедлила шаги и сказала, что вообще-то мне не очень хочется прыгать и идти на вышку, пусть она прыгает, а я буду смотреть снизу.
Шура рассмеялась громко, затормошила меня, обняла и не полезла на вышку, но я знала, что она прыгает с вышки, потому что Костя когда-то прыгал, и она с ним. Она все делала, что и Костя, только не пошла почему-то в горный институт, училась на химическом факультете.
Но зато мы с ней столько кружились на чертовом колесе, столько ездили на лодке в тот день, что в трамвае я уже спала и проснулась только в кондитерской, когда нам подали целый торт и принесли какао. О, как я тут проснулась! Мне отрезали угол торта, я съела его, мне дали еще кусок, и я опять съела, мне дали еще, и я ела почти нехотя, но еще оставалось столько торта, и Шура все время спрашивала:
– Хочешь конфет?
Я кивала.
– Хочешь шоколаду?
Я не могла ответить, потому что у меня был набит рот. Я кивала. Нам принесли шоколаду. Я заедала торт шоколадом, а шоколад тортом. Я не могла говорить, потому что жевала. Торт никак не кончался. Съесть его мы не смогли. Взяли свой шоколад и ушли.
Я ложилась спать, и в глазах у меня мелькали лошадки, лодки, торты, шоколадки, парашютные вышки – и всюду Шура, Шура. Я заснула так крепко, спала и спала, что утром мама не могла меня разбудить. Она поднимала меня, надевала мне платье, чулки, я сидела и спала, она ставила меня на ноги, но я снова падала на кровать и засыпала. Мама сердилась и снова поднимала меня, и даже умыла, и надела пальто, когда увидела, что я опять сплю. Хорошо помню этот долгий сон, тяжкий, когда казалось, что стоит закрыть глаза, и все будет опять хорошо, я буду спать, я буду видеть во сне великолепный день с Шурой на качелях-каруселях, в кондитерской, хотя что-то в кондитерской было мне тяжело, и сон про шоколад был неприятен, я старалась во сне уйти из этого сна.
А мама все поднимала меня и говорила, и говорила, что пора идти, пока вдруг не поняла, что я больна, совсем больна, пока не раздела меня и не положила в кровать.
Ах, какие были прохладные простыни и подушка, когда я смогла снова лечь и заснуть, как было хорошо спать и никуда не идти. Снова я могла видеть сон, какой мне хочется, снова засыпала и видела блеск пруда под веслом, великолепный станиолевый блеск, вот он сливается в сплошное серебро и шуршит под рукой, открывая загорелое тело шоколадки, но я не хочу слышать ее запах, хочу слышать свежий дух реки, а она вся шоколадная, сладкая, я прошу вымыть мне руки, они липкие и сладкие, пожалуйста, прошу, но никто не моет мне рук, меня купают в шоколаде, намыливают голову тортом, и всюду торт и шоколад, и я кричу…
Месяц после этого я болела жестокой желтухой, а потом еще чем-то, еще и еще, и уже казалось, что мне никогда не подняться с кровати. Но в один прекрасный день я проснулась и увидела Шуру, она робко смотрела на меня и на маму, с опаской гладила меня по голове и приговаривала:
– Скоро ты выздоровеешь, вот я тебе яблоки принесла, – и совала мне красные огромные яблоки.
Я откусила кусочек и поняла, что хочу есть, что хочу встать, что вообще опять хочу с Шурой в парк, и заплакала, потому что знала: больше меня с Шурой не пустят – так и случилось.
Глава пятаяАННА ЯКОВЛЕВНА
У меня было столько бабушек, что нельзя перечислить, и все они были не родные – родные умерли, я их не знала, а остались их сестры, родные и двоюродные, но все бабушки столько пеклись обо мне, так любили меня, что невольно я говорила: это моя бабушка, это бабушка, еще одна бабушка, еще и еще. Бабушка Миля, бабушка Анна, тетя Маня – тоже бабушка, Амалия – тоже приходилась бабушкой, все удивлялись: сколько же у тебя бабушек, а я совсем не могла сказать действительно, сколько же было бабушек – любящих, настоящих бабушек – много, и ни одной родной.
Об Анне Яковлевне я всегда говорила: уж эта – настоящая моя бабушка, самая первая, любимая – вслед за мамой – не потому, что маму любила, а после – Анну Яковлевну, а потому, что мама ее любила и я следом.
Но надо сказать, что, если бы мама даже не так хорошо относилась к Анне Яковлевне, если бы я не знала ее по рассказам о ней – рассказам, которые я слышала после ее смерти от всех родных, – я бы все равно помнила ее по-своему.
Воспоминания о ней – смутные, но собственные – встают в памяти такой далекой, что, например, помню, как однажды, совсем крошечная, услышала от нее одно из первых слов, которое запомнила: наволочка.
Анна Яковлевна надевала чистую наволочку на подушку, а у старой только расстегнула пуговки, но не сняла ее совсем. Взялась за уголки чистой наволочки и надела ее прямо на старую. Грязная наволочка была снята, вытащена, выволочена из-под чистой, а чистая заволокла подушку. Анна Яковлевна навлекла ее на подушку.
Действия ее были быстрыми, ловкими, а слово было длинное и неловкое – я повторяла это слово целый день: «Наволочка, на-во-лоч-ка». Тогда же услышала от нее не ко мне обращенные слова, еще более непонятные, но смутно приятные мне:
– У нее прекрасная артикуляция.
Понятные, потому что приятные слова, которые поглаживали по голове. Так, верно, радуются собаки и коты, когда говорят: «Ах, хороший, красивый пес, какой умный, великолепный пес, очень понятливый пес, наш добрый пес», – собаки тут же нервно зевают, кладут лапы или голову вам на колени, смотрят так понимающе, после от восторга перед собой – таким умным, хорошим – валятся на спину, катаются по полу или от избытка своей хорошести вскакивают, бегут куда-то стремглав, сбивают с ног кого-то, кто несет посуду, бьют посуду и получают шлепок и много выговоров.
Примерно так же вела себя я, похваленная Анной Яковлевной, – тут же, от восторга перед тем, что у меня прекрасная артикуляция, я бежала куда-нибудь, хватала на туалете гребенку, тут же ломался у гребенки зуб, роняла духи и разливала их, и весь восторг улетучивался вместе с запахом духов, береженных мамой, редких, дорогих духов, с которыми у меня всегда были плохие отношения: я не любила духов, даже самых хороших.
Я так болезненно слышала малейшие запахи, что, казалось, могу различить человека с закрытыми глазами, как тот же щенок, который учил меня своей нелепой щенячьей радости. И я действительно, даже сонная, не открывая глаз, чувствовала, кто подошел ко мне – мама или отец, бабушка Аня или кто-то посторонний. Различала маму, которая пришла из театра, и маму, которая пришла из института, маму, которая готовила что-то или только что вышла из ванны. Первое ощущение, когда приезжал отец из экспедиции, – обонятельное: пахнет поездом, угольным, неприятным, вагонным духом, который я долго не знала сама, но, когда меня привели в вагон, сказала: «Это папин запах, папа здесь?»
Духи казались мне всегда крепкими, раздражающими, может быть вызывали неприятные ассоциации, когда, после того как я разливала мамины духи, меня наказывали, и я долго не могла отмыть руки от душного запаха духов. От этих рук пахла еда, пахли мои игрушки – потому я и не любила духов, зато как я любила запах чистого белья, принесенного с мороза, или запах ветра за городом, запах сохнущего пола, запах воды на озере, особенной, свежей воды, которую теперь так ищу и не могу найти, – исчезла та вода, тот дух свежести, вся вода теперь непременно пахнет то ли хлором, то ли ржавыми трубами, то ли болотом. А тогда, когда я не выносила духов, тогда чистая вода пахла только свежестью, детской, дивной свежестью, и Анна Яковлевна, которая всегда что-то чинила, штопала, гладила, пахла этим свежим бельем, утюгом, вафлями: глаженое белье пахнет вафлей. Еще она могла пахнуть молоком, конфетами и куклой.
Этот особенный запах куклы, еще ее куклы, – куклы, которую вынули из старинной коробки, где вместе с кукольной одеждой лежали сухие духи и флердоранж столетней давности, какое-то истлевшее саше и кружева, был самым лучшим из запахов – после свежести, – самым любимым и четко запомнившимся еще с тех времен, когда только приехала к нам Анна Яковлевна. Этот запах никогда не забывала и не путала, как то, что она говорила и как говорила. Голос ее – тихий, куда менее звучный, чем голос тети Мани, – был все-таки похож на тети Манин и так же, как тети Манин, звучал особенным, дивным, старинным образом, как клавесин, и, мешаясь с легким ароматом куклы, казался мне пахучим, прекрасным: в нем не было тлена, а только некоторая приглушенность и – необходимая – ненастроенность. Он не звучал полно и глубоко, как мамин «Бехштейн», а чуть дребезжал, как мамин же старый прямострунный рояль.
Этот запах старых коробок казался мне всегда очень выразительным. Если бы пристально разобраться в нем, то можно понять так много из того, что было и с Анной Яковлевной, и со всеми: этот запах, казалось, может воскресить историю. И в самом деле – всякая вещь, пропахшая чем-то, может явственно напомнить все события, сообщить всякие подробности и забытые детали.
Знала запах черепаховых гребенок Анны Яковлевны – тонкий запах, вероятно исходивший от ее волос, показавшийся мне запахом именно гребенок из черепахи. Упорно повторяла всем:
– Так гребенки пахнут.
– Чем пахнут?
– Черепахой.
– Какой черепахой?
– Обыкновенной черепахой, из которой сделаны.
– Не выдумывай.
На этот выговор я обижалась, но тем более утверждалась в своей правоте, и всюду, где видела черепаховую вещь, скорее нюхала ее, чтобы выяснить – тот ли это запах, и мне всегда казалось, что тот, именно так пахнут черепахи и я права.
Эти гребенки я даже отмывала водой и однажды керосином. Я хорошо помню, как взяла гребенки и унесла их в кухню, раздобыла керосин и хотела чуть-чуть взять его – наклонить бачок и взять, но керосин выплеснулся на меня, на пол, и, страдая от предчувствия неминуемого выговора, от того, что я вся пропахла не очень приятным и липучим керосином, я все-таки окунула в лужицу гребенки и помыла их, после, уже забыв все, что будет, я пускала эти гребенки, как кораблики, в лужице керосина – не помню, плавали они или нет, помню только аханье Анны Яковлевны, какие-то ее слова по поводу моей необычайной проворности по части выдумок и какие-то выговоры со стороны мамы, нелепый вопрос: «Зачем ты это сделала?» Вопрос, который заставлял забывать причину поступка, во-первых, а во-вторых, совсем не требовал объяснений с моей стороны; веселое мое объяснение вызывало потоки маминых слов, угрюмое мое молчание еще сильнее сердило маму.
Но Анна Яковлевна нисколько не сердилась – она ахала так уютно, так славно, что ее аханье мне было даже приятно – я бы всегда делала что-нибудь несуразное, чтобы только слышать ее ахи, если бы не мама.
У нас с Анной Яковлевной был свой контакт, особенный, когда я все ей объясняла, как это мне казалось, а она понимала.
Ей можно было рассказать самое удивительное свое открытие – например, что я вижу все молекулы, если плачу, а потом посмотрю на свет, сощурив глаза. Тогда в глазах появляются такие круги, в которых плавают точки – то есть молекулы или микробы.
Она никогда не смеялась тому, что слышала от меня, никогда не восклицала:
– Ах, боже мой, что за ребенок! – а только пыталась выяснить, что бы все это могло значить, что я могу видеть в самом деле.
Так, помню, как в воскресенье они, тетя Ирина или мама, играли в четыре руки. Утром Анна Яковлевна делала воскресный пирог, похожий на торт, а до того, как сесть за стол, они обязательно играли Грига, каждое воскресенье, одно и то же, одно и то же, и в конце концов мне так надоели эти пироги и игра в четыре руки, что я уже совершенно путала, где торт, где Григ, и когда в чужом месте слышала игру в четыре руки, то думала, что ем торт, а когда ела торт, то слышала Грига и уже не хотела ни того ни другого, пока не стало ничего – ни торта, ни Грига, и я поняла, что смертельно люблю Анну Яковлевну и все, что связано с ней. Я поняла, что не любила только какие-то свои ощущения воскресенья – хоть и хорошо, что все дома или уходят, но и плохо, потому что нарушен звуковой, вкусовой и прочий фон, привычный мне, а от взрослых исходит обычное воскресное раздражение. Еще дело было в том, что всегда ждала от воскресенья чего-то особенного, а особенное не происходило, и разочарование было сильнее, чем ожидание удовольствия.
Как жаль, что она очень скоро уехала от нас в Москву и я видела ее только в те дни, когда приезжала к ним, но все равно мне всегда казалось, что она – именно она – больше всех осталась во мне.
Глава шестаяТЕТКА КОРИНА
Утром всегда, уходя в школу, торопясь, кричала Надежде:
– Подожди меня! Я сейчас, готова уже…
Но она не ждала, уходила, быстро спускалась по лестнице и, не оборачиваясь, говорила мне:
– Что за нужда спешить, иди одна, я уже ушла…
Я бежала, но она уходила и уходила скоро от меня, как нарочно скоро, а тетя Кока – никогда. Она всегда ждала, даже если я копалась, ждала и приговаривала:
– Жду, жду, не торопись.
Хотя Наде было по пути со мной, а ей в другую сторону, на трамвай, но она ждала, и мы вместе спускались по лестнице. Она делала это нарочно, чтобы я не сердилась на Надю зря, но я все равно сердилась и всю дорогу вниз говорила Коке, что Надежда всегда такая.
– Но если всегда, то и привыкнуть можно.
– Нельзя привыкнуть, – с горечью говорила я, – нельзя привыкнуть.
Меня мучило это сознание, что никогда Надя не будет со мной как со своими девочками, что я всегда останусь младшей и потому – зависимой. Но ведь могла же Кока, человек пожилой, уже немножко дряхлый, быть со мной как со всеми, могла же! А Надежда не могла и не хотела.
Но такая была Кока всегда и со всеми, не только со мной.
Кока – было ее домашнее имя, сокращенное от Корины, хотя все думали и всем приходилось объяснять, что она не крестная мать ни мне, ни Наде, просто – Кока.
В доме всегда шум, разговоры, игра на рояле, а Кока проходит тихо, только ласково здоровается и уходит к себе в комнату, редко сидит в нашей большой комнате и разговаривает с кем-то, никогда не спорит и ни о чем не расспрашивает, не рассказывает о себе, а о ней, как только она уходит, – все и всегда, будто именно потому, что она этого не хочет.
Лет с трех я слышала, что Кока была очень красивая и три раза выходила замуж, что она писала и печатала рассказы, что у нее был рассказ «Антоновские яблоки», так что однажды, когда я прочла знаменитые «Антоновские яблоки», то с удивлением заметила имя Бунина и решила, что это псевдоним Коки. Очень просто: Кока, как Жорж Санд, печаталась под мужским псевдонимом. Некоторое время меня еще глодало сомнение, и я спрашивала у всех, те ли это яблоки, но так как всем очень хотелось пошутить надо мной и Кокой одновременно, то мне отвечали, что, разумеется, или это те самые – ее, или это кто-то с нее списал.
Говорили, что Кока путешествовала вокруг света на пароходе, была даже в Африке и ела слоновую ногу. Об этой ноге она сама нам рассказывала, чтобы посмешить.
Огромную ногу закапывали целиком в яму с углями, и три дня она тушилась в яме, а потом откапывали, и блюдо было готово…
Надя со своим вечным скепсисом:
– А кожу с ноги снимали, прежде чем тушить?
Ответов не помню.
– А сколько человек тащило ногу к яме?
– А пока тушилась нога, все голодали ровно три дня?
Выходило так, что смеялись не тому, что она рассказывала, а над ней, что было бы обидно всякому, но не ей. Она не обижалась никогда, она готова была каждому подать пальто, каждому сделать хоть что-то. Однажды она помогла ребенку надеть боты, а ребенок кричал и дрыгал ногами, рассек ей бровь, и пришлось накладывать шов. Так, видно, и исчезла ее красота. Она нисколько не берегла ее.
К тому времени, как я помню ее, она уже была обыкновенная женщина, которую, кажется, невозможно было заметить на улице, настолько она была скучна с виду, правда – она оставалась очень добродушной, улыбчивой и любезной.
Тысячу историй рассказывалось о ней дома, у нас, где никогда не откровенничали – настолько, что уже после смерти бабушки я узнала, что один из ее сыновей, то есть мой дядя, кончил жизнь самоубийством, а говорилось, что погиб на охоте; настолько, что сравнительно недавно я узнала, что мой отец был приемным сыном бабушки, следовательно, она мне не была бабушкой совсем, чего я никак не замечала в детстве, и даже в блокаду.
Но о Коке говорилось беспрестанно.
– Она пришла вчера и сказала, что была в театре.
– В театре? Что так рано вернулась?
– Не знаю.
– Что же она смотрела?
– Не знаю.
– Она сочиняет, что была в театре.
Почему считалось, что Кока не могла быть в театре и обязательно сочиняет, понять мне трудно и теперь.
«О, она ведь сочинительница и сейчас расскажет тысячу пьес, которых и на свете не было никогда, назовет автора, который и не существовал. Она однажды рассказывала нам книгу, которую якобы потеряла, десять вечеров подряд, мы даже дела свои бросали и слушали историю о человеке, который умел слышать все, что говорилось в мире. Настроиться и слышать, она так это рассказывала, что мы верили – была такая книга, но потом выяснилось, что не было такой книги, просто она хотела бы сама ее написать, но, видно, все не могла собраться. Она никогда не могла собраться с мыслями и временем, чтобы написать…»
Но сколько бы ни порочили Коку в моих глазах, она становилась для меня все более и более интересной, привлекательной, и я жалела именно ее, а не тех обманутых слушателей, – ведь слушали же десять вечеров ее интереснейший рассказ, но после вспомнили только то, что она сочиняет.
Я все думала, думала о том, что она рассказывала, и вдруг однажды ночью поняла: «Это ведь она о себе рассказывала, когда говорила, что человек все слышал! Это она сама слышит все разговоры, которые происходят за ее спиной! А они все время говорят и говорят… Боже мой, и почему они говорят?»
Тридцать догадок сразу возникло в моей голове: она была позором семьи, сбегала из дома? Она ездила за границу не с мужем? Может быть, и вообще не была замужем? Дома этого, конечно, простить не могли. Медленно прощали, все время возвращаясь к тому жгучему непрощению, снова прощали и опять не прощали…
Раз так мало говорили всего толком, надо было узнать это во что бы то ни стало.
Узнать, узнать… У кого? У Нади, которая сама, конечно, ничего не знает толком? У Нины, которая так мало говорит со мной?
Надо было знать Надю. Ее, хитрющую, которая со мной всегда свысока, – ведь старшая, ее, насмешницу, иногда злую и всегда говорящую иносказаниями, – боже, какие ненавистные иносказания: «Я знаю одного маленького Мука, у которого такие уши…» С Надей надо быть всегда начеку, – если она называет имя кого угодно, то это всегда может относиться прямо к тебе, но другого человека не было, кроме Нади.
Я настолько долго обдумывала, как лучше и тоньше подойти к Наде, что однажды вдруг, сразу, неизвестно даже как сказала:
– Слушай, а почему, а что было с Кокой?
– Когда? – Надя, настороженная и всезнающая, у нее всегда был такой вид, будто она все на свете знает, обернулась.
– Тогда. Давно, – я уже изо всех сил пыталась скрыть свой интерес, но это было безнадежно: провести Надю было нельзя. Она была как я. В сущности, мы обе думали одинаково и почти что одинаково знали, но просто она умела изобразить дело так, что она знает лучше. Ах, какой восторг поднимался в ней всякий раз, когда она предвкушала момент помучить меня, поймать мой интерес и долго разжигать его. Когда она только замечала, что мне что-то надо от нее, тогда я становилась для нее любопытной и чужой. У нее случался особенный голос – вкрадчивый и тонкий, у нее делались особенные, глубокие и умные глаза, у нее движения менялись, когда только она замечала, что ужасно нужна мне. Для начала она говорила:
– Укради и прикури мне папиросу! Я буду ждать в темной комнате.
Достать папиросу у мамы, или отца, или у Нины было трудно, почти совсем невозможно: все запиралось, пряталось. Мама скрывала от бабушки, что курит, Нина скрывала от всех, и от мужа, отец прятал папиросы от мамы – и так далее.
Рискуя всем, я чуть ли не взламывала закрытый стол и доставала папиросу, приносила ей, и оказывалось, что курить она уже не будет, а нужно принести от бабушки большой кусок хлеба и кусок холодного мяса, что можно было сделать легче, но не так уж просто. Затем она ела, покуривала и говорила наконец, что у нее болит голова и ее тошнит, что она теперь заснет в темной комнате, что пусть я отстану от нее. Я видела, что ей действительно плохо, что даже погас интерес ко мне и моему любопытству.
Но на следующий день она сама начинала прерванную игру и говорила:
– Я знаю то, что тебе хочется знать про…
Я, уже забывшая весь вчерашний интерес, вспоминала его как-то по инерции, вернее потому, что она меня заставляла вернуться к игре, столь выгодной для нее, и начинала говорить на одной ноте:
– А я вот знаю, а я вот знаю…
Иногда ее поддразнивания и манера держать меня в руках сердили меня настолько, что я взрывалась и грубила ей, тогда она напускала на себя такую холодность, на столько дней, что, конечно же, я не выдерживала первая и сдавалась, самым униженным образом прося прощения неизвестно за что, заглядывая ей в глаза поминутно, стараясь, чтобы она хоть что-то попросила у меня, но она гордо не просила ни о чем и все делала сама и молчала.
О, как она умела молчать, даже по делу и поручению бабушки – не отвечала, а только кивала головой. Иногда мне хотелось броситься к ней и руками разжать ей губы, чтобы она хоть сказала «нет», но я этого, конечно, не могла сделать.
И вот наконец наступило прощение, во время которого я уже была совсем в ее власти и подчинении, я делала все за нее и даже читала ей вслух, чесала ей волосы и плела косы, бегала к телефону и иногда за нее говорила по телефону, потому что она уж даже не поднималась с места и только кричала мне, что ответить и сказать. Ее торжество было полным, но она считала, что и этого мало: она начинала издеваться надо мной сколько хотела: читала любимые мною стихи так, что больше мне было не любить их, играла на рояле мои пьесы так, что после было не отвязаться от ее интерпретации, – разумеется, она играла издевательски, якобы подражая моей игре. Но после она смирялась и продолжала только говорить, что знает, знает кое-что про Коку, что может меня интересовать.
Ну что ж, я тоже устала от ее фокусов, я совсем забывала про то, что так мне надо было узнать.
– Ну, что? – говорила я, совсем замученная ее игрой. – Ну, так говори же!
– Нет, сначала пойдем в маленькую комнату. (Маленькая, она же темная, – просто широкий коридорчик, ведущий в комнату Коки.)
Мы приходили в маленькую комнату, но и там Надька не говорила ничего, а, наоборот, спрашивала меня:
– А вот ты сначала сознайся, кто вырвал у Коки три бусины из бус.
Это была целая история. У Коки были всякие удивительные вещи, которые доказывали, что она действительно путешествовала вокруг света. У нее были бивни мамонта и зубы акулы, раковины и пробирки с душистыми маслами, игрушки из Англии и сухие кокосовые орехи, мозаичные картинки и шляпы, плетенные из каких-то трав, корзиночки и шкатулки, коврики и куски пестрых тканей, кожи и резное дерево. Все это причудливо и беспорядочно лежало или висело в комнате. Пыль и паутина заплетала все вещи в доме, так что шляпа из светлой соломки казалась покрытой серой вуалью, а кожи, которые лежали на диване, потерлись и растрескались совсем, шкатулки нельзя было рассмотреть от пыли, но в каждой из них лежало нечто, какая-то еще драгоценность – бусы, или красивые раковины, или прозрачные камни, бесцветные кораллы, или даже красные коралловые веточки. Кока объясняла мне, что белые кораллы были бы такими же красными, если их обработать как следует; что когда они проплывали мимо таких островов, то все пассажиры старались их ломать, но никто толком не мог их сохранить. Под водой они сверкали красками, а на воздухе быстро тускнели. И среди всех драгоценностей были бусы – самыми драгоценными. Мозаичные бусы, синие с голубым, по рассказам Коки, вывезенные из Константинополя и найденные при раскопках.








