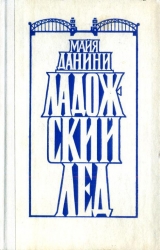
Текст книги "Ладожский лед"
Автор книги: Майя Данини
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Розочка укатилась в темноту.
Мне не было пощады. Я представляла себе, что все кругом всё мне простили, а я сама себе все еще нет. Я не простила. И главное было не в том, что я сделала, а в том, что Нина не могла предполагать, что я могу это сделать, в том, что Нина никогда бы этого не сделала. Я поняла, что отчаяние – это если забыл, что есть люди, которые могут помочь.
Я думала о том, что Нина, конечно, простит, что мама долго не простит – и не потому, что я была слоном перед Ниной, а потому, что разбита дорогая вещь в комнате мамы.
Володя тоже простит, а Сей Сеич и не заметит. Даже скажет:
– Туда ей и дорога.
И тогда вспыхнуло в голове: Кирилл Кириллович!
Я бежала по лестнице так быстро, что ступеньки слились в глазах в один покатый спуск, я летела к нему, и надежда, и радость, и страх смешались, слились в душе, как ступеньки под ногами. Он жил близко, за углом, он был дома, его окно тускло светилось.
Я знала его комнату во всех подробностях, да и знать-то ее было не очень трудно. Только огромный стол с листом ватмана – белым, как манжеты Кирилла Кирилловича. Этот ватман не меняли несколько месяцев, но на нем не было ни единого пятна, разве что проколы и часы, бесконечное количество часов. Кирилл Кириллович не был часовщиком, он просто брал их чинить, чтобы заработать: золотые часы нельзя было чинить в мастерских.
Пустой письменный стол, и только в углу маленький портрет брата Кирилла Кирилловича. Кирилл Кириллович никогда не был женат. Он только был всегда влюблен и не стеснялся этого. Он был поочередно влюблен в бабушку, потом в маму, потом, наверное, пришло бы время – и в меня. И все всегда тихонько посмеивались над ним, над его влюбленностью, никому никогда не приходило в голову отвечать на нее. Да он и сам не пробовал добиваться ответа, и только я иногда ночами думала, что выйду, выйду за него замуж: просто от жалости, от прелести, что он такой человек. И знала, что не выйду, а думала.
Я вбежала к нему и крикнула, что надо скорей к нам, пожалуйста…
– У-мо-ляю!
И тут же он сбросил свои туфли и надел парусиновые полуботинки, которые мы всегда называли «плюнелевыми».
Я бежала, и он бежал следом.
Мы бежали вверх так же быстро, как я спускалась. Только когда мы поднялись, Кирилл Кириллович узнал, в чем дело: видно, он предполагал что-то страшное, тогда он понял, в чем дело. Долго не мог снять очки с уха и говорил отрывочно, бессвязно:
– Деточка… кто ж так… бегает. Я уж думал… а это пустяки… в три счета. – Он задыхался.
Он взял часы – быстро как-то – и ушел, а я осталась в крайнем беспокойстве: он обещал все сделать.
Я все равно не успокоилась. Все так же никого не было дома, зажгла свет и вдруг увидела розочку на полу. Остолбенела: он не понял, что я просила сделать, он – забыл. Вот что теперь меня беспокоило, я теперь поняла – он был не он. Кирилл Кириллович забыл самое главное.
Я снова побежала к нему, зажав розу в кулаке. Я уже подбегала к дверям, хотела звонить, но вдруг дверь открылась сама собой, и я чуть не упала: сосед Кирилла Кирилловича держал меня за плечи. Я знала этого соседа – он имел собаку. Его звали Ральф, а собаку Гарри. Всегда все путали, кого как зовут. Приносили кости, отдавали Кириллу Кирилловичу и говорили: «Дайте Ральфику косточку». Кирилл Кириллович говорил: «Не Ральфику, Гаррику» – он очень обижался, что путали: двадцать лет знали, двадцать лет путали.
Теперь Ральф Яковлевич смотрел на меня, держал меня за плечи и не видел меня. Вдруг он узнал и вытолкнул меня, крикнул: «Беги! Беги отсюда!» – и закрыл дверь.
И – некуда стало бежать.
Больше не надо было спешить, и я ходила по улицам до поздней ночи.
В тот день меня нашли в темной комнате: одетую, спящую.
А утром уже не было ни страха, ни отчаяния. Но утро началось с чужого беспокойства: с беспокойства моих родителей, и не по поводу часов. Это беспокойство было, присутствовало и накладывалось на мое, смешивалось с моим и превратило меня в тихое существо, которому, может быть, уже много лет. Это существо имело какую-то пустоту: я могла сказать всем, что разбила часы, но могла и не говорить, все равно. Утро было очень странное, эту странность я почувствовала сразу и решила тут же, что говорить не стоит. Я не знала – знают или не знают, поглядели или не поглядели, и ушла. А на лестнице было еще более странно. Там говорили женщины:
– А у него часов, часов. Все золотые. Говорил – чужие, а свои ведь. Ба-а-гатый. Как взбеленился: «Не мои часы, не смеете брать, не трогайте. Я фамилии напишу». И написал. Все бумажечки приклеил. Ба-а-гатый человек.
– А куда его увезли-то?
– Дык куда? Куда надо. Одних-то я знаю. Леонтьевских часы, а уж других – нет, не поручусь. Они все такие, ходять в ватничках, а добро в сундуки спрятано.
– А у него-то спрятано в сундуках?
– Нет, сундуков-то не было, но часов… пар шесть, все золотые.
Больше я не видела Кирилла Кирилловича никогда.
Глава восемнадцатаяБАБУШКА ЛИЛЯ
Только и всего – пройти по коридору тихо-тихо, чтобы мама не слышала, и поскрестись в двери. И сразу певучий, ласковый голос ответит мне: «Да-а. А… вот это кто!» И столько радости в этом голосе, столько улыбки, удовольствия. А в комнате так хорошо пахнет духами, столько картинок, картиночек, фотографий, статуэток, книг; столько конфет, печений, орешков – и сразу я довольна, сразу мне есть что делать, сразу меня гладят руки, легкие такие руки…
– Ты мой малыш… Ну что, тебе опять никак не прочитать? Ты нарочно так читала: «Прыщ и нищий»? Уж сознайся.
– Ну, башк Ли, ну что! Ведь я же тебя люблю и маму люблю, я же никому не хочу делать неприятности.
– А все-таки?
– Да ну! Ты мне не веришь? – И у меня голос дрожал, звучал так горячо, так просто, что бабушка Лиля верила. И все мне верили. Да я и не могла соврать, когда башк Ли на меня смотрела. Я просто не могла сказать что-то другое, чем то, что она хотела, а она всегда хотела только хорошего – и я говорила это хорошее.
Она двигала кресло, снимала очки и говорила:
– Начинай читать!
И я читала: «Принц и нищий», читала дальше, но вдруг слышался стук маминых каблуков по коридору, и сразу все обрывалось во мне, и снова начиналось: «Прыщ и нищий»…
– Она опять тебе мешает! Ну что это будет! Сколько ни говори…
– Галенька, ты послушай! Она же хорошо, очень хорошо, очень бойко читает – ты послушай…
Я читала десять слов бойко и вдруг опять спотыкалась и говорила не то.
– А! Это будет продолжаться вечно… Иди к себе, оставь бабушку.
– Да нет, она не мешает, она будет тут сидеть, а я буду читать, оставь ее, Галенька.
– Мама… Я ведь читаю.
– Бабушке некогда!
– Еськода, еськода…
Они обе смеялись, пока маме вдруг не вздумывалось меня воспитывать, тут же, спешно, как всегда спешно:
– Идем играть на рояле, ведь до сих пор нот не знаешь толком, играешь по слуху. Иди сию минуту! – И мамины бо́льные пальцы стискивали мою руку. – Ты понимаешь, что бабушке некогда! У нее свои дела, у нее занятия, а ты ей мешаешь. Ну не все ли равно тебе, где читать?
– Нет, не все равно, не все равно! – И в горле у меня было кисло от слез, горло сводило судорогой, я начинала реветь.
– Перестань сейчас же! Фу, срам какой!
– Я хочу к башк Ли!
Я хотела быть с ней. Она все мне прощала, даже спрятала от мамы пояс, который я порезала ножницами.
А мама всегда была насторожена, взвинчена. То она смеялась моим словечкам, то, наоборот, сердилась на мою несуразность, и вечно я была перед ней виновата, вечно она не хотела со мной говорить, бесконечное «я с тобой не разговариваю» тяготило меня, мучило.
А бабушка была всегда спокойна, ровно настроена, и какое же светлое понимание было на ее лице. Она никогда не сердилась, как мама, а как-то съеживалась от неприятностей, терялась и грустила.
Был один такой день, который я запомнила во всех подробностях, так что до сих пор будто слышу мамин возбужденный голос, его властные, горячие интонации и башк Лилин шепоток:
– Тише, она услышит!
Мамин голос:
– Это уже все равно. Она так или иначе узнает, а я больше не могу. Это окончательно. Я не могу, не могу одна и одна целый год, годы… Ведь каждый год он уезжает, каждый год, и возвращается сердитый, какой-то издерганный, подозревает…
– Ти-ише…
– Я не желаю никаких подозрений! Я вправе делать так, как нахожу нужным, – и шепотом: – Ты меня не понимаешь, а ведь я все время не хотела этого, не хотела уходить… – Дальше шепот стал неразборчивым, но я замерла от необыкновенности происходящего, от близкого понимания того, что хочет сделать мама. В комнате стало тихо, потом мамин голос:
– Я ухожу… Ухожу, и все!
Долгое молчание, потом башк Лилино испуганное:
– Ну пожалей хоть ее!
Мама ушла, и вместе с ней ушло беспокойство – крик на меня, вечное «иди сию минуту!». Я все дни ела что хотела, стригла бумагу, играла в куклы и не играла на рояле. Я целые дни была с башк Ли, целые дни! Она подарила мне бронзовую собаку, шкатулку с эмалью и черепаху, у которой качалась голова. Мне разрешили есть яблочный джем и не есть суп, разрешили съедать арбуз вместо каши. Я ела, ела арбуз, и живот мой надувался так, что я едва дышала, и ложилась на диван. Отдышавшись, я доедала арбуз, выскребла его ложкой, выпивала, высасывала сок так, что все мое лицо становилось липким и красным и бабушка просила меня умыться. Я шла и говорила:
– Люблю есть арбуз, но не люблю после уши мыть.
На всю жизнь у меня осталось ощущение крайнего блаженства от моего сиротства.
Была долгая, яркая осень. Каждый день мы гуляли с башк Ли, и она меня спрашивала, чего мне хочется, куда со мной пойти. Мы обошли все парки в городе, катались на качелях и карусели. Помню жуткий холодок взлета и падения с американских гор и башк Лилино «ах, ах!». Это я вынудила ее сесть со мной и поехать; сначала она сопротивлялась, а я твердила:
– Нет, поедешь, поедешь!
И она согласилась, хотя у нее от бесконечного кручения на карусели уже слегка тряслась голова, а меня карусель только еще больше раззадорила, разгорячила.
– Поедешь! Не уйдешь никуда, не пущу. – И я крепко держала ее за руку. – Для чего ты надела очки, ужасные очки, отвра-тительные! Не носи никогда эти очки, сними сейчас же! (Как мамино: «Иди сейчас же!») Ну, пожалуйста, сними, я тебя прошу. (Это уже башк Лилино.)
Рядом с этой добротой я постепенно становилась тираном. А она все терпела и соглашалась: «Ну хорошо, хорошо, не буду! Только я же не вижу без очков! Я потеряю тебя в толпе…»
Она всегда старалась сказать и сделать все самое хорошее, при этом ей самой становилось плохо, но она терпела. Она умела быть мужественной, потому что была добра без конца. Очень много надо сил, чтобы быть доброй.
За несколько месяцев, что я жила с башк Ли, она совсем устала от меня.
Наступали холода, и мне надо было носить теплые вещи, а я не хотела. Например, не надевала капор. У меня был кожаный капор, который всегда мял мне уши, складывая их так, что, когда его натягивали, верхняя часть уха прижималась к мочке. Капор был маленький, но мама уверяла, что я просто дурака валяю, раз не хочу его носить.
Сколько я ни объясняла маме, как мне больно, она не верила, поправляла уши и говорила, что вот и все, но было совсем не все. Уши горели, уши ломило, ушам было неприятно; пока мы куда-то с мамой ходили, я все время ощущала свои уши и ждала, когда сдеру с себя капор.
Теперь, когда стало холодно и из сундука появился этот ненавистный капор, я завопила, что ни за что, ни-ког-да, ни под ка-ким ви-дом не надену эту гадость, эту дрянь, эту жабу! Не надену, и в руки не возьму, и выкину, сброшу с лестницы, вот и все!
– Так что же ты будешь носить? – спрашивала башк Ли.
Я порылась в сундуке и вытащила гарусный колпак на чайник.
– Вот! – и напялила его себе на голову.
– Но ведь это же не носят. – А я буду носить!
– Ну хорошо, я тебе перешью его или перевяжу, если распустится.
Я уже бросила колпак и снова рылась в сундуке. Вытащила мамину шляпу с вуалеткой, напялила ее и сказала, что это, это буду носить… Вот как мне идет… Я вертелась перед зеркалом и делала мамино выражение лица.
Бабушка перевязала мне колпак, сделала капор, но он мне показался совсем как для младенцев, и я зло плакала, сердито надергивала себе этот капор на самый нос и говорила:
– Ну что, красиво, хорошо, да? Ты довольна? – Смотрела на себя в зеркало, и злобное, какое-то тяжелое чувство выплескивалось из меня: я выпячивала губы вперед, делала страшную рожу, дразнила сама себя и ненавидела «этот дурацкий колпак», этот чепчик. Срывала его с головы, швыряла: гадость, гадость, гадость!
Я становилась тираном и своевольницей рядом с добротой бабушки. И как же бывает странно! Ее доброту я принимала за покорность, безволие. Откуда бралось у меня все это? Я чувствую, что, поживи я рядом с башк Ли еще, я бы стала даже ее презирать, подавлять, унижать. Но этого не произошло, потому что бабушка упала с лестницы и сломала себе бедро. Ее увезли в больницу.
Я помню свой страх, когда ее увезли в больницу, страшное чувство раскаяния и вины перед нею, тоску по ней, но постепенно я забывала и забывала ее.
Я теперь жила у мамы, и все новое в чужом доме так увлекало меня, так интересовало, что я уже не помнила ни вины перед бабушкой Лилей, ни ее самой.
А она уже не сходила со своего седьмого этажа, так и сидела у себя в кресле: читала, вязала или дремала. К ней приходили ученики: она давала уроки немецкого языка. Я редко бывала у нее.
А потом началась война, голод, блокада. Мама пошла на военную службу. Отчим тоже. Я жила в госпитале с мамой.
Помню, как-то пришла к башк Ли и увидела у нее какую-то маленькую девочку лет шести, дочку дворника, которая варила в печке овес. Черная угрюмая девочка, закутанная в платки. Башк Ли лежала на кровати, сухая, маленькая, и плакала. Она достала из-под подушки тряпочку, перевязанную нитками, в тряпке была бумажка, в бумажке морковка. Она дала мне морковку, тихонько сунула мне ее, чтобы девочка не видела. Она все плакала, я принесла ей дрожжевой суп, сухари и глюкозу в бутылке. Она просила меня не приходить: ведь так далеко с Фонтанки на Пряжку. Замерзнешь по дороге. Она все время плакала, и мне это было так страшно, потому что башк Ли не плакала при мне никогда.
Я рассказала все маме, когда пришла. Мама очень расстроилась и решила сделать башк Ли переливание крови. Дня три мама не могла получить увольнительной, потом получила, и мы пошли.
Это было так тяжело – идти через весь город. Мы шли и шли с мамой. Долго шли. Стояли, сидели. Наш дом был виден всегда издалека. От самого проспекта Майорова по всей улице Декабристов виден был шпиль, башенка как раз над нашими окнами. Я шла и все смотрела на наш дом и никак не узнавала его. Торчали перед глазами тяжелые, заиндевевшие провода, сугробы мешали смотреть – не видно было нашей башенки. Мозаичный дом был виден, а башенки – нет. Мы подошли близко и увидели толпу около нашего дома, увидели вещи на снегу, людей на снегу. Башенки не было. Она сгорела. Сгорел весь наш дом.
Башк Ли! Ее не было среди тех, кто сидел на снегу. В парадной толпились люди, плакали, жались от холода. Они ничего не знали о ней. Я увидела девочку, которая была в последний раз у бабушки, я выспрашивала ее, видела ли она бабушку или нет, а девочка только смотрела угрюмо и молчала.
Она сгорела там, башк Ли!
Прошло пять лет. Я вернулась в Ленинград и увидела все ту же мозаику на нашем доме, которая напомнила декорацию, я увидела улицу без башенки, и мне стало снова плохо. Каждую ночь я видела во сне свой дом и то, что я иду по лесенке. Дом будто не сгорел, и башк Ли там. Каждую ночь, каждую ночь я шла по лесенке.
Она сгорела там! Или, может быть, она до этого умерла от голода? Может быть, она ушла в другую квартиру, ее свели как-нибудь? Ведь были же люди кругом, кроме этой девочки. Были матросы, были дружинники на пожаре!
Она там сгорела. И тогда мне показалось, что все доброе сгорело, все честное, чистое, ласковое, простодушное. Все и сгорело тогда вместе с бабушкой Лилей.
Теперь уже столько лет минуло с тех пор. То состояние бесконечно повторяющегося сна и жуткого ощущения, что бабушка где-то живет, только ее надо найти, отступило, прошло, но однажды я пришла в один дом и голос с той же интонацией, с той же лаской сказал мне:
– А… вот это кто… – И меня обступили картинки, картиночки, статуэтки и даже запах старых духов «Манон» – легкий запах послышался мне, и я чуть не заплакала. То же горячее, ласковое чувство вдруг возникло во мне и затопило меня. Я сидела и говорила без конца, смотрела и смотрела. Я понимала, что надо уйти, что я уже утомила хозяйку. Надо бы уйти, но не могла, никак не могла.
Потом я ушла и унесла образ башк Ли. Я сразу полюбила ту женщину и почувствовала, что она – башк Ли, раз она дала мне ощутить ее живую.
Я шла и думала, что не сгорела башк Ли, не сгорела, она умерла от голода, легко умерла, как заснула.
Потом я узнала эту женщину очень близко – да, это была та самая бескорыстная доброта, к которой привыкают и которую не замечают. Это была та самая доброта, которая терпит и терпит, и сколько раз я хотела сказать ей: «Ну хоть бы капельку вам рассердиться, чуть-чуть». Но она не умела сердиться, и я берегла ее саму и никогда не злоупотребляла ее добротой.
Глава девятнадцатаяДЯДЮШКИ
Дяди были неумолимы, сердитые как дети, вечно увлеченные своими машинами, книгами о путешествиях, коллекциями.
Все они хотели иметь или имели машины. Этим они отличались, скажем, от отца или дедов, именно этим они мне и запомнились. Дяди и их машины, хотя нет, один из дядюшек не имел и не хотел иметь машину – он хотел иметь коллекцию жуков, имел ее, изумительную, похожую на шкатулку с драгоценностями. В самом деле, жуки были драгоценными. Они имели историю, которую рассказывала мне тетя Маня. И не без умысла, а специально, чтобы я ее рассказала всем: коллекция принадлежала не только моему дядюшке, дяде Севе, а еще и его дяде, и тот в свою очередь получил эту коллекцию от своего отца. Коллекция была когда-то огромной и очень ценной, во время революции она была отдана в Пермский университет, а у дяди осталась только часть этой коллекции.
Дядя был электриком, ученым, но в душе своей он был собирателем жуков, так же как все остальные дядюшки – только автомобилистами, совершенными автомобилистами, желавшими иметь машину, холить ее, гладить, разговаривать с ней, как с лошадью, и даже иногда, оговорившись или нарочно, вместо слова «гараж» употреблявшие слово «стойло».
Коллекция не имела себе равных. Во всяком случае, в дядиной душе она была тем абстрактным и прелестным предметом, который оказывал на него магическое действие и заставлял его душу волноваться. Правда, брат Виктор, ныне зоолог, сказал мне по секрету, что та часть коллекции, которая сохранилась и ныне реставрирована, очень эффектна, состоит из жуков, сделанных дядей из разных частей разных жуков.
Ах, дяди, жестокие как дети, – какое созвучие! – что вы делали с теми, кто не интересовался машинами и коллекциями! Вернее, с теми, кто интересовался всем этим столько, сколько было нужно – не больше. Машиной, чтобы ездить на ней, коллекцией, чтобы разглядывать ее. Что вы делали с теми, кто еще интересовался искусством! Как вы их презирали и умаляли с истинно русским умением презирать и умалять… Ни тени доброжелательства, ни капли сочувствия – и какая важность в суждениях! «Все, что не несет информации, суть ерунда!» – торжественно произносили дяди-дети. Все должно быть логично, как в моторе, одно должно приводить в движение другое и так далее. Страдания художника?! Дяди не знали их и не пытались узнать. Они знали только один вид страданий – когда глох мотор, но, чтобы не случилось этого, они целые дни копались в моторах, лежали под машинами, были измазаны маслом, тавотом, бензином и, следовательно, совсем не знали страданий.
Видела всегда своих дядей вместе, они казались мне – маленькой – очень славными, как и весь мир, который всегда улыбался утром, особенно утром, когда я просыпалась в доме на Каменном и бежала что было сил в садик, чтобы обнять нашу овчарку или сорвать траву и дать кролику, погладить щенка или просто пойти по дорожке и ощутить всю упругость своих ног и мягкость земли. Они, дяди, вставали рано и уже открывали гараж, возились с машиной, шутили со мной и тормошили меня. Иногда они заводили машину, сажали меня в нее и увозили до угла. Назад я бежала сама, они ждали, как я дошла до калитки. Машина уезжала, а я каталась на калитке, прицепившись к ней и отталкиваясь ногой от земли, запах бензина, оставшийся от машины, приятно щекотал мне ноздри, после этот запах напоминал мне всегда дядюшек и дом на Каменном.
Цветы в саду, яблони, маленькая беседка, гараж и клетки с кроликами, дворик, полный всяких необыкновенных уголков: там доски, пахучие, как целый лес, тут ямка, которую я сама выложила стекляшками; в углу, возле гаража, – уютный уголок, теплый, безветренный. Там вьются по стене граммофончики, великолепные и странные цветы: они сворачиваются вечером, а утром раскрывают свои колокольчики. Рядом с цветами положена на кирпичи доска, на ней так удобно сидеть. Можно играть, раскладывать камни на земле и устраивать свою клумбу, можно просто греться на солнце, можно даже лечь на скамеечку и заснуть, но лучше всего притащить туда всякую еду и устроить обед: разложить по тарелочкам сахар и ягоды, накрошить хлеб в молоко и угощать дядей, которые уже вернулись из своего института:
– Иди есть!
– Сейчас, сейчас.
– Иди, уже все готово.
– Нет, не готово, пусть поварится.
– Я говорю, что стол накрыт.
– А я говорю, что мясо еще не готово.
– Какое мясо, когда ягоды.
– Это не ягоды, а мясо.
– У меня нет мяса.
– А я хочу мяса, много мяса, а не ягоды.
Замирая от удовольствия, что дядя говорит со мной серьезно и в самом деле хочет мяса, бежала в кухню и просила дать дяде Севе мяса. Мне говорили, что обед еще не готов и пусть Сева сначала умоется, а то вечно пахнет от него тавотом и бензином, а я хотела во что бы то ни стало накормить его, и я применяла хитрый маневр, выпрашивая кость для собаки. Получив кость на тарелке, я забиралась в буфет и брала кусок хлеба – все это несла к себе в уголок и там раскладывала по тарелкам. Большая кость действительно попадала собаке, а обрезки мяса – на тарелочки, и это мясо, слегка припудренное пылью и песком (слишком большая кость и маленькая тарелочка), вкусно пахло на свежем воздухе.
– Ну, теперь есть и мясо! – кричала я Севе. – Иди же!
– Что?
– Мясо я принесла!
– Какое мясо?
– Ты просил мясо!
– Ах, мясо! Ну и ну! Вот так обед! Сейчас иду.
И он приходил, открывал рот и готов был съесть мясо вместе с тарелочкой, руки у него были грязные, а у меня – в песке. Я говорила ему назидательно:
– Надо мыть руки перед едой.
– А где мыть?
– Ты не знаешь? Вот в миске у собаки можно, – советовала я, имея в виду свой опыт.
– У собаки? Да, это можно. А теперь я пойду на чердак, спасибо за обед.
– И я! – в восторге кричала я, и мы шли на чердак.
Какое это было удовольствие лезть на чердак, где у дядюшек, у всех в доме была кладовка. Чего только не было на этом чердаке – и странные предметы, про которые говорили: «это все папины балаболки», – дед складывал на чердак свои приборы, чертежи и всевозможные детали, которые нынче так хорошо известны под названием ртутные выпрямители. Думаю, если попытаться, то первые образцы этих выпрямителей можно найти и сейчас на чердаке этого дома.
Надо сказать, эти вещи мало интересовали меня, а дядины моторы тем более; меня интересовали сундуки, в которых хранились старые елочные игрушки, костюмы и куклы, главное – куклы, кукольная посуда, одежда, кубики, игрушки и книжки.
Сколько было счастья, когда я вдруг выкапывала голову куклы и играла с этой оторванной головой – причесывала ее, укладывала спать отдельно, одну, и, уложив под одеяло, думала: «Так даже не видно, что есть только голова, а нет самой куклы. Она лежит, будто спит, а тело у нее худенькое-худенькое, его просто не видно под одеялом».
Я находила ногу куклы и отдельно – чулки и туфельки. Какое счастье, если эти чулки приходились впору этой ноге и туфли тоже. Я одевала ногу и прикладывала к голове. После находила и туловище с руками, только не находила одной ноги. Я тащила все это к дяде, задыхалась от восторга, что обрела дивную куклу – без одной ноги, – и он кое-как цеплял голову к туловищу и ногу.
Это была кукла! Она родилась при мне, была найдена мной и воскрешена дядей Севой – следовательно, я любила ее больше всех остальных кукол, которые имели руки и ноги, имели чистые носы и неподвижные глаза. Эта безногая, имевшая вместо второй ноги какую-то гайку, казалась мне лучше всех кукол, лучше всех игрушек и книжек. Хотя, кажется, лучше всех была книжка-игрушка, тоже найденная мною на чердаке и, когда я ее открыла, оказавшаяся целым домиком с окнами и дверями, – домиком из разноцветных крупных кирпичей и голубых стекол. Таких книг у меня не бывало, и я застыла перед домом, заколдованная этим видением. Хотела посмотреть книжку, а вырос целый дом, где можно было поставить даже маленькую кроватку, найденную в том же сундуке, кубик, тряпочку, которая закрыла кубик, и целую фаянсовую миску – на кубик.
Вышел стол, кровать, и стол оказался накрытым. Это была дивная игрушка, которую я, как и безногую куклу, хранила долго и помню до сих пор. Больше того, когда я теперь прихожу в дом на Каменном, поднимаюсь по лесенке во второй этаж, в комнаты, и из одной двери могу попасть на чердак, у меня возникает ощущение, что я сейчас найду снова эти дивные игрушки, что весь этот дом похож на ту старую игрушку и я в нем – та трехлетняя девочка, которая сейчас найдет куклу и полюбит ее на всю жизнь. Все – шаткая лесенка и запах старого платья – окутывает меня и заставляет вспоминать все так живо и ясно, что мне хочется крикнуть, как тогда:
– Возьми меня на чердак!
Но некому взять меня на чердак, а самой совестно просить ключи и идти на полутемный и пыльный чердак, где висит белье и лежат старые, никому не нужные детали машин, инструменты и приборы, да и мне не доставит радости теперь найти куклу и кукольный дом.








