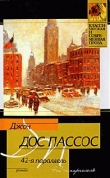Текст книги "60-я параллель(изд.1955)"
Автор книги: Лев Успенский
Соавторы: Георгий Караев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 52 страниц)
Глава VI. БЕЛОЙ НОЧЬЮ
Белая ночь. Примерно ее середина, первый час... Может быть, уже в конце...
Если идти по одной из красивейших улиц Ленинграда, по Кировскому проспекту, на север, он приведет к мосту через Малую Невку, самый, пожалуй, тихий, самый зеркальный из всех протоков Невской дельты.
За мостом, в те дни еще деревянным и уютным, тянется влево по берегу тенистая аллея. Виден двухэтажный, также деревянный, дом с куполом – знаменитая в былые времена «дача с привидениями». После революции привидения, должно быть, куда-то удрали отсюда. Их теперь тут нет, точно и не бывало. В доме теперь помещается громкоголосый, вовсе не призрачный, детский сад.
В противоположную сторону, вверх по реке, вплоть до восточной стрелки острова, простирается великолепно-запущенный парк, со старинным Строгановским дворцом посредине.
Место это очень любопытно: его ценят знатоки и любители нарядной питерской старины. Но и тот, кто всей душой любит новое, изо дня в день рождающееся в нашем городе, не пройдет мимо равнодушным.
Здесь что ни здание, то охранная доска. Замечателен сам дворец, приземистый и важный. Чуть западнее его поднимает ввысь готические скаты крыш небольшая кирпичная церковь, – одно из немногих творений великого зодчего Баженова, сохранившееся до наших дней. Ходят темные слухи, будто от дворца к этой красной церковке и дальше, под обоими рукавами Невы, на юг и на север, графы Строгановы проложили когда-то длинные подземные ходы – на материк и на Аптекарский остров. Поискав, вы непременно найдете бойкого мальчишку из «островитян»; округляя глаза, он под секретом расскажет вам, как кто-то – то ли его брат, то ли «один физкультурник» – откопал три года назад устье этих туннелей и даже спускался туда с фонариком-пищалкой. Но далеко пробраться не удалось: ход завален кирпичом, вода капает, и страшно очень...
Правда всё это или нет, сказать трудно. Но место весьма примечательно. Шелковая гладь Невы обтекает небольшой остров, как бы обнимая его двумя гибкими руками. В стеклянной воде у берега отражаются плакучие ивы и древние дубы парков. Многое видели они за долгую жизнь.
...Александр Пушкин переезжал против них Неву на ялике, едучи снимать дачу для семьи неподалеку, на Черной речке... Александра Сергеевича Пушкина в глубоком обмороке промчал мимо через лед расписной возок 27 января, в морозный и метельный проклятый день поединка, с той же Черной речки в огромный нахмуренный город...
...Есть две ракиты в Новой Деревне, у самой воды. Ленин и Сталин долго разговаривали под ними в семнадцатом году, в тот час, когда Ильич уезжал в Разлив с тогдашнего маленького Приморского вокзала... Кругом была петербургская нищая окраина, грохот ломовиков, запах сухого конского навоза, зной, пыль...
Теперь всё иное.
Белая ночь. Теплый, невесомый, с серебристой пыльцой, воздух...
Между Каменноостровским мостом и Строгановским дворцом возвышаются, заняв немало места, четыре новых пенобетонных корпуса. Между ними – чисто прибранные асфальтированные дворы, обсаженные молодой липой. Светятся, постепенно погасая одно за другим, квадратные широкие окна. Висят легкие балкончики. На некоторых кто-то еще сидит; девушки, пользуясь милым рассеянным светом, по-пушкински, «без лампады» читают письма. Молодые люди негромко, по-вечернему, наигрывают кто на чем. Где-то, видимо, завели патефон. В другой квартире бормочет радио. Бессонная школьная душа еще учит вслух стихи, верно, десятиклассница готовится к последним экзаменам:
Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия!..
Спят с открытыми фортками избегавшиеся за день ребята; звонит чей-то запоздалый безнадежный телефон. Покачивают усиками «зеленые насаждения» на окнах; у ценителей красоты – душистый горошек и настурции, у людей хозяйственных – помидоры и лучок.
Это всё и есть городок № 7 МОИПа, называемый теперь так больше по старой памяти: строил его действительно МОИП, а живут в нем нынче люди разные... Широкоплечий же, гладко выбритый человек, возраст которого замаскирован многолетним морским загаром и флотской дубленой крепостью, тот человек, что, положив на стол возле раскрытой конторской книги локти сильных рук, сидит на балконе второго этажа и ничего в данный миг не делает; человек этот есть Фотий Соколов – комендант городка, его гроза и его опора.
Слова «Городок» и «Соколов Фотий» значат почти одно и то же. Когда в одном из корпусов городка неожиданно лопаются зимой трубы парового отопления, у Фотия кровь так приливает к лицу, как если бы произошел разрыв его собственных сосудов. А когда однажды сам Фотий на старости лет вдруг заболел – срам сказать, какой болезнью! – скарлатиной, когда его чуть ли не силком отвезли на шесть недель в детскую больницу, – и с водопроводом и с канализацией городка тоже что-то такое приключилось. Все в городке страдали. Радовались только ребята, лежавшие в тридцать пятой палате у Раухфуса, да нянюшки этой больницы. Едва Фотий Соколов садился на своей постыдной педиатрической койке и начинал рассказ про флотские дела, состояние всех мальчишек сразу становилось лучше... Провожали его из клиники только что не со слезами и до сих пор поминают добром: «Это в том году было, когда у нас моряк лежал!»
Да, Фотий Соколов – моряк, «старый матрос», боцманмат еще царского флота, потом много лет боцман на советских торговых судах. Ему довелось начинать службу при, недоброй памяти, кронштадтском тиране, адмирале фон Вирене. Он был «впередсмотрящим» на многих кораблях к началу войны четырнадцатого года: на «Выносливом», на «Внушительном», на «Внимательном» и, наконец, на «Генерале Кондратенке» с его двадцатипятиузловым ходом.
Бывало – любит вспоминать Фотий – покойный командующий адмирал Василий Канин, тогда еще кавторанг, нет-нет, да и скажет: «Ты, Соколов-четвертый, у меня лучший впередсмотрящий! Дальше тебя никто на горизонте темного пятнышка не заметит!»
Фотий забывает при этом упомянуть об одном: «Так какого же чорта ты, Соколов, у себя под носом ничего не видишь?» – добавлял обыкновенно к своей похвале адмирал.
Сегодня Фотий поднялся на свой капитанский мостик, как всегда, по завершении дневной вахты, разложил было книги и вдруг вспомнил, что отпустил до завтра паспортистку Фофанову по каким-то ее частным нуждам. Отпускать бы не след, да ведь как не отпустишь? Вдова одинокая, мужа нет, дочка еще не помощница... Вдовье дело, – как шаланде на море без буксира. А хотел позаниматься сегодня с ней, направить на верный компасный курс... Чем позаниматься? Известно чем – городком.
Да, не простая это штука – знать свой городок так, как его знает и любит комендант Соколов... Люди живут! Великое дело: люди!
Вот, обратите, например, внимание, граждане...
В третьем этаже второго корпуса светится окно. Понятно: недалеко за ним стоит на столе лампа под зеленым стеклянным абажуром. Эта лампа долго не погаснет. В ее уютном свете Наталия Матвеевна Соломина, женщина строгая, лучшая чертежница МОИПа, вытягивает блестящим острозаточенным рейсфедером тонкие линии чертежа, всматриваясь в карандашные наброски инженера Гамалея.
В комнате стоят рядом два чертежных станка – ее и сына, Кимушки. Обычно мать и сын одновременно работают, но сегодня... Д-да, Наталья Матвеевна, дело-то, оно вон как поворачивается...
Фотию Соколову нет надобности размышлять, почему Кима Соломина не видно на его обычном вечернем месте. Фотий только слегка двигает головой. Через свое правое плечо он видит знакомую бетонную дорожку вдоль Невки под липками, видит крашенную недавно в зеленый колер садовую скамью и на этой скамье две смутные тени... Сколько можно, однако, объяснять девице физику или, скажем, алгебру?! Эх, молодость, молодость!
Фотий Дмитриевич оглядывается и на ворота городка: не возвращается ли домой его паспортистка? Маше Фофановой, полагает он, вовсе не к чему глядеть на эту скамью! Лишние разговоры!
Фотию вдруг становится немного жаль Машу, да и Наталию Матвеевну заодно: вдовье дело трудное положение! Вот вырастила Маша дочь... Вытянулась, выровнялась ее Людочка-китаяночка. Теперь, того и жди, замуж вылетит; а мать обратно одна... Оно, конечно, рыжий Кимушка молодоват еще, простоват по такой, можно сказать, международной девушке. А всё-таки, ежели прикинуть, так, пожалуй, самое бы милое дело было... Взяли бы оба да тут же у себя в городке и судьбу свою нашли. Чего лучше?
Греха таить не приходится: Фотий терпеть не может, когда кто-либо уезжает из его любимого городка на сторону или еще что такое случается... Ну, там командировка, служебный перевод – это, конечно, ничего не попишешь. А замужество? Вроде, как с корабля на берег без времени списаться; чего тебе, спрашивается, тут не жилось? Из такого показательного жилмассива и куда-то на сторону замуж идти? Да разве тут, на Каменном, своих молодых людей мало?
Нет, хорошо, кабы всё так вышло, как задумалось коменданту. Переписал бы он тихо-мирно Людмилу Фофанову из третьего, скажем, номера, в двадцать второй; Ким бы угомонился, да и Маше полегче бы стало... Освободился бы человек; может, и себе бы свою судьбу еще нашел... Старый впередсмотрящий заглядывает далеко; он может предугадать многое...
Он вынимает из карманов курительные принадлежности, свертывает приличных размеров кручонку, толщиной с боцманский ус, и уж окончательно откидывается на стуле: работы сегодня не получится, а поразмыслить есть о чем.
Хорош городок № 7, говорить не приходится, а всё-таки не всё и в нем идет так, как хотелось бы Фотию Соколову. Комендант-то комендант, да не на всё комендантская власть простирается. А жаль!
Вот, например, горят, отражая только желтую зарю, два окна в квартире Вересовых. Иу, что ты тут скажешь? Поискать второго такого человека, как Андрей Андреевич... Ученый человек, знаменитый человек, и при том при всем – простой, приветливый. Так почему же ему так не пофартило? Жена была? Была! Сын родился? Родился! Редкостный прямо малый: всё о чем-то думает, думает, обо всем спрашивает, до чего, казалось бы, и не добраться умом мелкому мальчишке. «Фотий Дмитриевич, а чем крупная канонерская лодка отличалась от малого крейсера?» Скажи на милость, куда хватил! А? Хороший парень, дельный! А вот...
Оно слов нет: Милиция Владимировна, конечно, всем взяла. Красота; актриса; на всех афишах рисуют: «Фильм с участием М. Вересовой». Идет по улице – редкий встречный не обернется. Это всё так! Но такая ли человеку жена нужна, такая ли пареньку мачеха? Вон, мальчишку бросила на весь вечер одного, сама укатила на машине... а ведь муж не где-нибудь – на военном сборе, в морской артиллерии! Эх, кабы мне бы...
Подале – Гамалеи сидят на своем балкончике, беседуют. Об этих горевать не приходится. Он-то, конечно, надел очки, как колеса, ничего сквозь них не видит, но зато уж Федосья Григорьевна штурман хороший... Эта и доведет и выведет! Комендант Соколов всегда знает, когда Фенечка Гамалей возвращается из своего ботанического сада: окна мигом настежь, песни и музыка... И ребят, грех сказать, довольно шумно воспитывает. С такой не пропадешь. А всё-таки и у них беда: надо же такое горе! Два года назад, неведомо как, неизвестно почему, вдруг закончилась честная, прямая жизнь замечательной женщины, товарища Лепечевой, Антонины Кондратьевны, матери инженера Гамалея, – погибла в пути, возвращаясь из Крыма... Как погибла, – следствием не установлено. Осталась дочка Анечка. Комбриг Лепечев только что с ума не сошел по жене: уехал надолго куда-то на Дальний Восток, а девочка осталась с Гамалеями. Правда, квартиры у них почти что рядом: одиннадцатый номер и четырнадцатый. Комбриг, когда въезжал в городок, был в МОИПе большим человеком. Но квартиры квартирами, а горе горем! И никогда быть того не может, чтобы такая самостоятельная пожилая женщина сама по собственной неосторожности из скорого поезда на ходу выпала! Но что тут сделаешь? Искали-искали; его, коменданта, сколько раз вызывали, опрашивали... нет, ни чорта не нашли!
Комендант Соколов хмурится: Антонина Лепечева жила вот тут, в его доме! Казалось бы, – что из того? Но ему ее смерть отдается какой-то странной горечью, вроде виной: не доглядел! А при чем он тут? Тут, видимо, дело темное, сложное; или нашлась где-нибудь такая гадина, или уже...
До балкончика доносятся приглушенные голоса. Фотий перегибается через перила. «Домой! – кричит он вниз. – Домой пошли! Мать работает, так они...»
Это Ирка, Нинка, Зойка и Машка, дворничихины девчонки-погодки; растут, что ты скажешь?! «Спать немедленно! Ираида! Веди их спать!»
Нет, не всем еще легко живется в городке №7 МОИПа; а уж такой, казалось бы, образцовый жилмассив!
Фотий курит и думает про дворничиху, про ее мужа-пьяницу. Этому пенять не на кого, сам виноват. Фотий только недавно устроил его кочегаром в дом 75/77; и устраивал без подвоха: золотые руки у человека. А вот опять уволили! Потом он думает про семью бухгалтера Котова; ух, огромная семья! Там почему-то всегда половина больных и, тем не менее, вечно воспитываются какие-нибудь дальние родственники... Раньше мальчик Сережа Плаксин; теперь ровесница Люды Фофановой, горбатенькая сирота Лизонька Мигай... А выходят хорошие люди.
Мало-помалу мысли коменданта снова возвращаются к Фофановым и через них к самому себе... Конечно, трудно Марии Петровне одной, но и ему, Фотию, надо сказать прямо, вот как осточертела эта бобылья одинокая жизнь... Надоело! Сколько лет уже! Кипяти себе своими руками свой кипяток. Что бы тут такое придумать? «Да, Маша, Маша! – думает он. – Слабый человек, конечно. Сил настоящих нет: женщина».
Не было во всем флоте глаза острее, чем у Соколова-четвертого; финскую лайбу за пятнадцать миль по кончику мачты узнавал. «Так почему же ты, Соколов-четвертый, чорт тебя возьми, у себя под носом ничего не видишь?!»
Белая ночь перевалила за половину... Город постепенно засыпает вокруг, но не совсем. Окончательно большие города никогда не задремывают...
Тише стало вокруг. Спят уже пестрые прогулочные ялики на воде возле окрестных пристаней. Спят громадные пальмы в оранжереях ботанического сада. Дремлют высоченные радиомачты на том берегу Невки... Где-то далеко-далеко, за Новой Деревней, в Удельной, в Озерках печально и заманчиво покрикивают бессонные паровозы. Половина города спит, другая – готовится к завтрашнему дню, кипучему, бурному, светлому... Завтра воскресенье. По радио передали сводку погоды, и Фотий, как всегда, почтительно удивился: до чего всё-таки дошел человек – завтрашние дела предсказывает!
Погода завтра ожидается великолепная: ясно, тихо, тепло. На Хладокомбинате заготовляют уже, узнав об этом, горы мороженого. В железнодорожных депо наряжают дополнительные составы: десятки тысяч ленинградцев ринутся завтра с утра за город, – тут и предсказывать нечего. Из ворот складов выезжают ночные грузовики, фыркают уборочные машины.
Резко стукнула в похолодевшем воздухе фрамуга окна. Кто-то в белом, маленький и быстрый, промелькнул за стеклами квартиры Вересовых. Это не нравится Фотию: он наморщил лоб, свел брови.
– Вересов Лодька! – недовольно бормочет он. – Или, вернее что, Слепень маленький. Вот оставь таких микроскопов одних дома, – сейчас тебе начинают по окнам вешаться. Не люблю! Случись чего, потом...
Он не успевает прекратить свою воркотню: «Спокойной ночи, товарищи!» – перебивает его мощный, далеко кругом разносящийся голос; наверное, Котовы включили перед сном радио, чтобы не проспать поутру. «Спокойной ночи! Сейчас ровно два часа! Кончаем наши передачи! Спокойной ночи!»
Это Москва. Она прощается со своими друзьями, живущими во всех концах страны. Прощается накануне...
Накануне чего? Никто, и уж тем более Фотий Соколов, этого не знает. Старый впередсмотрящий не видит ничего тревожного впереди. Он думает, что завтра просто будет обычное воскресенье, праздник.
Глава VII. ТАЙНА ЛОДИ ВЕРЕСОВА
Нет, Лодя Вересов не вешается напрасно по окнам. Никогда!
Лодина белая коечка стоит у правой стены, Максимкина «гостевая» раскладушка – напротив, посредине комнаты. Над Лодиной головой – довольно красивая клеенка. На ней Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф, поросята, пиликают на скрипочках; а внизу под ними – уморительная подпись, русскими буквами, но не по-русски, с ятями и твердыми знаками, от которых трудно глазам:
Это болгарский язык. Клеенку прислал в подарок Лоде папин знакомый, болгарский коммунист Никола Чилингиров, геолог из Софии.
Под потолком, медленно поворачиваясь, висит на проволочке краснокрылый легкий планерчик; год назад Лодя взял с ним второй приз на слете в Юкках. Почему взял? Потому, что послушался Кимку Соломина и утяжелил хвост.
Около «трех прасёнцев» – папина карточка. Папа снят очень интересно: на фоне страшного взрыва. Виден Урал, гора Юр-Камень, а перед ней – взрыв. По папиному приказу под гору подложили шестьдесят две тонны аммонала... или меньше? Трах-тарарах! – и открылась новая богатейшая залежь. Папина! От этого польза всей стране! Поэтому даже не жалко, что он на карточке такой худущий, бородатый и потный. Настоящий «крестьянский сын», как иногда говорит Мика... Папа, милый!
Папина карточка только одна. Зато мамы Мики смеются, грустят, лукаво поглядывают отовсюду.
Вот Мика – Сольвейг, в норвежском вышитом корсажике, с двумя белыми косами, как у Аси Лепечевой, только не настоящими, накладными. Она сидит на большом сером валуне.
Вот, прямо напротив, возле Лодиной учебной карты, мама Мика – Маринка из «Детдома № 73». Это уж не фотография; плакат!
Тут она, прикрыв глаза ладонью, смотрит вдаль: ждет Гришука, который вот-вот поймает вредителей, если только они его раньше не убьют... А интересно, по-настоящему стала бы она так ждать какого-нибудь своего товарища, Мика? Это Лоде неизвестно.
У папы в кабинете там их еще больше, Мик. Одна – под пальмами в Батуми; другая – с испанским веером. Есть большой портрет, нарисованный масляными красками. Была еще одна кругленькая миниатюра по фарфору, очень красивая, работа Ольги Баговут, другой художницы; только папа теперь увез ее с собой на учебный сбор. Папа, милый!
Девчонки все как одна завидуют Лоде: мама – актриса! Пусть даже не родная, а всё-таки!
Девчонки – глупые: может быть, в сто раз лучше было бы, чтобы и не актриса вовсе, да... И кроме того, кем интересней быть: актером или геологом? Мама Мика?! Это папа хочет, чтобы он звал ее так, а ей-то, наверное, всё равно... Но надо звать!
Сегодня Мика уехала в гости. Макс пришел ночевать, потому что и тети Клавы нет дома: помчалась на Светлое, снимать дачу. Правда, он и без того любит ночевать тут: главным образом из-за синего ночника над дверью – как в «Красной стреле». Ночник Лодин папа придумал; он вечно что-нибудь да придумает интересное.
Мальчики, оставшись одни, чинно попили чаю, необыкновенно тщательно умылись, легли. Не пошалишь, когда сидишь в одиночестве, оставшись за старших. А кроме того, Максик помнил: Лодя обещал рассказать ему одну вещь – великую тайну. Мальчика била лихорадка нетерпения: великая тайна!
Всё-таки они полежали некоторое время носами вверх, задумчиво глядя на исполосованный синими тенями потолок; Максик первым делом погасил лампу и зажег ночник. Потом Лодя вспомнил: Мика велела открыть на ночь фрамугу.
Он слазил на широкий подоконник, дернул шнур. Тотчас в комнату вошло и заполнило всё до потолка, мешаясь с тенями, тихое, сонное бормотание ночного города. Перекличка буксиров за Стрелкой, далекий рокот колес... На улице всё это не так слышно, как в комнате. Странно: почему?
«Покойной ночи, товарищи! Покойной ночи!»
– Ну? – проговорил, наконец, Максик, от нетерпения собирая всё синенькое байковое одеяло себе под подбородок, как воротник.
Лодя отозвался не сразу. Некоторое время он лежал молча, и будь Макс Слепень постарше (или в комнате – посветлее), он удивился бы: Лодины глаза разбежались, на лбу прорезалась странная складка. Да и всё лицо его стало озабоченным, даже тревожным.
– Я, – не очень твердо выговорил он наконец. – Я... не тебе хотел это рассказать. Я... папе моему... Или твоему: кто раньше приедет. Потому что это – довольно страшно...
Вот такого слова нельзя было произносить при маленьком Слепне: он чуть не свалился с раскладушки от волнения.
– Страшно? – ахнул он. – Ой, Лодя! Так почему же? Лучше сначала мне! А кому страшно-то? И очень?
– Очень! – как всегда задумчиво, протянул Лодя. – Знаешь, я сравнивал. По-моему, даже страшнее, чем с индейцем Джо... Макс! Я, кажется... я убийцу видел!
Каким неистовым ценителем всяких приключений и происшествий ни был десятилетний Максим Слепень, даже он оцепенел от неожиданности.
– Как «убийцу»? Настоящего? Где? – задохнулся он, не замечая, что его одеяло свалилось с койки на пол.
– Тут. – Лодя отвечал с трудом, странно уставившись на узор обоев. – В городке. Под тем дубом, где ты тогда тот негатив посеял. . . У него все руки в крови; он сам сказал.
– Лодечка, да как же?.. Ты давно его увидел?
– Давно, – подумав, проговорил Лодя Вересов. – Вечером. Уже темновато стало. Нет, он меня не мог заметить, потому что я плашмя на суке лежал. Я играл в ручную пантеру. Меня абиссинцы приучили с деревьев бросаться на врагов. А он пришел и сел спиной к дубу, прямо на траву.
– Этот дядька?
– Да. Мне показалось, дядя Сеня, шофер... который у Зайкина папы на «Зисе» ездит. Ну, который с татуировкой, ты знаешь. Он совсем пьяный был, а пьяные наверх не смотрят. Он меня не заметил, я думаю. Я хотел скорее слезть, но потом забоялся.
– Забоялся? Почему?
– Он плакать начал...
Если до этого Макс Слепень еще не вполне отдавал себе отчет в необычности происшествия, то тут и его проняло.
Живое воображение мигом нарисовало перед ним совсем уж жуткое: крепкий человек, взрослый, шофер, с татуированными кистями больших рук, с выдающимися желваками мускулов на скулах, с синим после бритья подбородком сидит на траве под деревом, всхлипывает и утирает глаза масляной ветошкой. Испугаться было чего!
– Ну так... потому что он же пьяный... – растерянно предположил Макс.
– Нет, не потому! – решительно затряс головой Лодя. – Он сначала забранился на кого-то, а потом махнул рукой и заплакал... Он не хотел, чтобы кто-нибудь это услышал. Он сам себе рот рукой зажимал! Я видел.
Воцарилось долгое молчание. Максик, крайне озадаченный, смотрел на Лодю, а Лодя попрежнему на стену. Этот Лодя мог бы, пожалуй, просидеть так до завтра, о чем-то думая; но Макс на это был совершенно не способен: когда страшно, так надо хоть узнавать что-то, хоть говорить, если уж ничего другого нельзя!
– Лодечка! – вне себя, не находя себе места, завертелся он на койке. – А я не понимаю: кого же он убил? И как ты узнал это, Лодя, а? Ну, плакал, плакал, а потом?..
– Плакал... А потом упал на землю и даже стал так... мычать... А потом приехал другой человек...
– Как приехал? В парк? На чем?
– Я думаю, на байдарке... Мне не рассмотреть было, только он от берега пришел. Ты знаешь, я даже не заметил, как он вдруг очутился. Стал около и трогает ботинком... этого...
– А этот плачет?
– Плачет! Только не громко. И тот тоже не очень громко сказал: «Эх, ворона шестнадцатого года рождения! Шесть человек, как миленький, угробил, а нюнишь! Тюпа ты, вот ты кто!» Я такого слова даже в энциклопедии не нашел: тюпа. Я его не понял.
– Я тоже! – торопливо согласился Макс. – Ну, а этот?
– Этот сразу сел... И сказал... (видимо, слышанное прочно застряло в Лодиной памяти). Он сказал: «Я с тобой, Яков Яковлевич, не спорщик – шесть их было или пять... Сколько ни будь, всё одно руки по локоть в крови! А я больше жить не хочу убийцем! И ты меня лучше не доводи до худого, а то вот сейчас...»
– А тот? – Максика прямо лихорадка ломала.
– Он к нему нагнулся и так, знаешь, как злющий...
– Свистящим топотом? – подсказал Слепень.
– «Свистящим»? Не знаю, может быть... «Кукла тряпочная! Нашел место каяться... Не сегодня-завтра чорт знает что начнется, а он... Ну, алё! Живо куда-нибудь! Дело есть; утопиться успеешь!»
– Ну?
– Ну... и они ушли.
– Совсем? А байдарка?
– Я про байдарку не вспомнил. Я заторопился очень, даже колено ободрал. И... мне как-то неприятно стало... Я скорее домой пошел.
Последовала еще одна долгая пауза. Максик в синих трусах сидел уже, спустив ноги с раскладушки, и его непоседливые глаза метали пламя: «Эх, мол, что ж ты так?!» Лодя казался несколько подавленным, хотя известное облегчение отразилось всё же на его лице: как-никак, с одной близкой душой он поделился своей тайной.
Однако долго молчать и бездействовать Макс решительно не умел.
– Лодя... А ты... А может быть, тебе это всё... во сне приснилось? Может быть, ты тяжелого поел и заснул преспокойно на суку?
Лодя Вересов поднял голову. Неожиданность такого предположения удивила его, но, как всегда, он готов был и его рассмотреть беспристрастно.
– Ты думаешь?.. Хотя, пожалуй, нет... Ой, нет: какой же сон! Я же на другой день туда ходил. Там трава примята, и потом он там какой-то свой ножичек оставил, вроде перочинного, только побольше... Он его в землю втыкал и забыл.
– Ты взял?
– Нет, что ты! Разве можно? Я же не милиционер!
– Не милиционер, не милиционер! – возмутился Макс. – Всё равно надо было... По ножику всё узнать можно! Что же, он и до сих пор там торчит? Эх ты...
– Не знаю, – проговорил Лодя, напряженно что-то додумывая. – Может быть, и торчит... Ты знаешь, Максик? Может, я и взял бы его, ножик... Но я вдруг очень забоялся чего-то. У меня даже вот здесь похолодело.
И он вздрогнул.
Макс Слепень с сердитым сожалением покосился на Лодину спину, словно желая удостовериться, что она и на самом деле тогда похолодела.
– И ты так до конца и не понял, – дядя Сеня он?
– Этот человек? – уже рассеянно переспросил Лодя. – Нет. По-моему, не понял. Может быть, это двойник какой-нибудь?
Максик решительно вскочил на коврике.
– Так, слушай... Так надо сейчас же пойти туда! И взять этот ножичек... Как завтра? Никогда не оставляют еще на один день! Может быть, до завтра преступление уже совершится. Надо на него хоть посмотреть... Только, – ой, Лоденька, это прямо «Баскервилльская собака»! – только не может быть, чтобы это правда была! Разве убийцы тут бывают? Они бывают в тайге, около границы... Тут им паспортов не дали бы! Правда? Лодя, давай сбегаем за ножиком, а? Дак светло же ведь совсем, а? Дак в трусах; пять минут, и готово! А не пойдешь, – я один...
Лодя Вересов был очень дисциплинированным и рассудительным мальчиком: уж это-то Милица воспитала в нем. Но он никогда не мог сопротивляться бешеному напору маленького «истребителёнка» (так звал Макса сам Евгений Максимович Слепень, его отец). Когда доходило до надобности принять решение, тринадцатилетний чаще всего уступал десятилетнему. Так и теперь; хотя и мама Мика со своего финского валуна и «Три-те булгарски прасенца» с клееночки, казалось, неодобрительно косятся на него, он, поколебавшись, вскочил с кровати. В конце концов, это была его тайна. Он сам хотел показать место действия Максу...
Три минуты спустя оба они, в трусах и сандалиях, выскочили во двор.
На улице всякая жуть и таинственность мигом рассеялась; а пожалуй, это и впрямь был сон? Уж очень просто, ясно и спокойно шла над городом самая обычная, мирная летняя ночь. Всё было как всегда. Многие окна городка еще светились. У Гамалеев на балкончике кто-то сидел. От Коротковых, из первого этажа, доносились негромкие стоны баяна. За садом Дзержинского на том берегу высоко в небе чуть брезжили четыре красных фонаря на радиомачтах Пермской улицы; можно было подумать, – четверо великанов стали там в полумраке над самой Малой Невкой и, молчаливо глядя вниз, покуривают на досуге четыре великанские папиросы.
Мир и покой были разлиты во всем: в неподвижных купах деревьев, в уютном свете последних, еще не потушенных огней, в зубчатых очертаниях заводов на Выборгской набережной, на фоне слабо светлеющего восточного горизонта. Гулко и протяжно вскрикивали деловитые буксиры на реке. С ближней Финляндской дороги тоже доносились, точно приглашая куда-то очень далеко, могучие голоса маневровых паровозов. Одни люди всё еще спокойно трудились, другие уже безмятежно спали. Никак не хотелось верить, что в это самое время может где-то жить, расти, клубиться какая-нибудь тревожная тайна, какой-нибудь злой и кровавый умысел. Убийство!.. Нет, наверное, просто глупый сон!
Как мышата, мальчики прошмыгнули в узкий проход за углом первого корпуса. Тут им показалось менее уютно. Тени здесь ложились гуще и подозрительней. Из-под крыши выгребной ямы порскнула, иноходью пошла в Кимкину «мастерскую» большая, старая крыса.
Держась за шершавый кирпич забора, ребята двинулись было к воротам в парк и вдруг, едва заглянув в них, отпрянули назад.
Старый дуб, стоящий на бугре над берегом, был четко виден отсюда. Ствол его с юго-запада серел еще в слабой тени, но с северо-востока и на нем, и на земле вокруг лежали уже прозрачные алые отблески новой зари. И в этих отблесках по земле на четвереньках ползал, видимо, стараясь найти в траве что-то маленькое, человек, мужчина...
Собственно говоря, ничего особенно страшного в этом не было: ну, потерял человек нож, ну, спохватился... И тем не менее оба они испугались, как никогда в жизни. Какой-то холод внезапно повеял на них оттуда, от дуба. «Максик! Ой!»
Схватив за холодную руку своего двоюродного брата, Лодя с силой рванул его назад, за забор. Не чуя под собой ног, они умчались.
Ночью оба они спали кое-как, мальчики. Макс Слепень и вообще отличался беспокойным сном: по ночам он буйно переживал дневные приключения, обычно довольно разнообразные, – скрежетал зубами, вскакивал, сжимал кулаки. И сегодня он то переворачивался одним рывком на постели, то садился, не открывая глаз... «А ну, подойди! А ну, попробуй!» – люто бормотал он.
За Лодей ничего подобного никогда не водилось. Зато в эту ночь он и впрямь увидел сон. Сон был страшен тем, что никакого особенного страха в нем не было, а вместе с тем он был.
Просто они с Кимом Соломиным плыли на какой-то лодке по заливу. Ким вскочил на борт и, сжав руки над головой, кинулся в воду... А вынырнул уже не Ким, – шофер Жендецких. В зубах он держал нож; только не тот, который там, а хлебную пилку; ею нарезала торты мама Мика. Обеими руками он вцепился в уключины, а по их кистям потекли зеленые чернила. И он всё перехватывал этими руками дальше к носу, и всё бормотал: «Ничего, ничего! Бывает и зеленая!»... А Ким-то где же? Где же Ким?