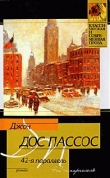Текст книги "60-я параллель(изд.1955)"
Автор книги: Лев Успенский
Соавторы: Георгий Караев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 52 страниц)
И вдруг на него обрушился целый, так сказать, вещевой склад. Шкафы полны одежды; в ящиках письменных столов его – учебные еще – записки; их теперь никак нельзя оставлять на произвол судьбы. Там и сям валялись пачки фотографий. Разве просмотришь их все? А попади иной, самый, казалось бы, мирный семейный снимочек во вражеские руки... Нет, этого нельзя допустить!
Чихая от комодно-чемоданной пыли, подполковник рылся в вещах, рвал, жег... И вот внезапно из-под древнего газетного листа, разостланного по дну старого чемодана, вывалилась карта. Обычнейшая десятиверстка, лист номер двенадцать – сорок один, издание 1917 года. Место от Финского залива и южнее, до реки Плюссы, что за Лугой...
Увидев карту, Василий Григорьевич не поверил глазам своим. Как? Каким образом она сохранилась?
Двадцать два года назад – и почти день в день! – в июне девятнадцатого года семнадцатилетний безусый пулеметчик Вася Федченко, впервые в жизни попав во вражеский тыл, вел по лесам, от Ямбурга на Копорье и дальше к берегу моря, десяток испуганных, растерянных, доверившихся его познаниям и его мужеству людей. В кармане его шинели, на их счастье, лежал тогда хороший светящийся «андриановский» компас, а за обшлагом – карта десятиверстка, лист двенадцать – сорок один. Вот эта самая!
На зеленой поверхности карты пестрели сохранившиеся с тех пор пометки, красные и черные. И на подполковника Федченко вдруг пахнуло давно забытыми запахами. Навсегда, казалось бы, ушедшие в прошлое образы закружились и поплыли перед ним.
Черненький кружочек... Да, это деревня Ламоха. Пахнет папоротником, сыростью, лесным болотом... И он, Вася Федченко, совсем еще юнец, положив на пень эту вот карту, определяет по ней направление.
Две синие стрелы, как клешни краба, охватили надпись «Копорье». Яркий свет огромной «поповской» керосиновой лампы-«молнии»; жара, налощенный крашеный пол... Как было имя того, кто провел тогда вот эти черты, приказывая взводу Федченки оборонять до пределов возможности Копорскую крепость? Комбат?.. комбат?.. Авраменко! Ну как же!
Северо-восточнее, у речки Коваши, стоит синий крест. Да, тут они вышли из окружения. Здесь высокая девушка с пышными бронзовыми волосами, с милым широким носом на тронутом веснушками лице – Муся Урболайнен, конфузясь, сунула ему в руку розовый обмылок. А он потом, смущенный во сто раз более, растерянно глядел на свое неясное отражение в покрытой мыльной пеной воде.
Всё было ясно, совершенно ясно! Та девушка – его Маруся, Муся, жена – не могла она, понятно, ни потерять, ни забыть эту карту. Карта эта не только вывела ее из окружения к своим, к красным... Она привела ее к нему, к Васе, к долгой и дружной жизни, к любви, к счастью... Разве может женщина забыть такое?!.
Вот как она заботливо подклеила карту старенькой наволочкой, свернула, аккуратно перевязала тесемкой, спрятала в чемодан.
Но ведь надо же, чтобы именно сегодня, через двадцать два мирных года, как раз в тот день, когда тогдашний красноармеец Вася Федченко, а ныне широкоплечий пожилой командир полка с тронутыми уже сединой висками собирался в новый поход, – чтобы именно сегодня она появилась перед ним! Надо же так!
Аккуратно сложив подклеенный материей лист, Василий Григорьевич, покачивая головой, спрятал его в полевую сумку.
Эх, какие-то на этот раз придется разворачивать подполковнику Федченко карты? По каким дорогам проляжет теперь путь его полка? Где, на каком листе карты суждено будет ему встретить неведомую судьбу воина, – может быть, шумную славу, а может быть, быстрый конец? Ну, что ж! Пусть старая карта лежит в полевой сумке, на память и счастье. Спасла, как-никак, когда-то!.. И хорошо, что теперь-то она не понадобится. Ведь на этом же листе – Ленинград.
Этот случай показался многим еще более удивительным две или три недели спустя, когда встретились лицом к лицу две враждебные друг другу силы – двести шестьдесят девятая стрелковая дивизия Красной Армии и тридцатая авиадесантная Гитлера.
Двести шестьдесят девятой командовал в те дни старый бакинский рабочий, участник гражданской войны, член партии с 1912 года, генерал-майор Михаил Терентьевич Дулов.
Тридцатой авиадесантной – генерал-лейтенант граф Кристоф-Карл Дона-Шлодиен.
В составе двести шестьдесят девятой дивизии шел в числе других и восемьсот сорок первый стрелковый полк, с командиром подполковником Федченко во главе. К тридцатой была приписана с недавних пор «Зондеркоманда Полярштерн», а в ней, приказом командующего дивизией, числился его офицер для особых поручений Вильгельм фон дер Варт.
В обеих этих дивизиях, если сосчитать вместе, значилось около тридцати тысяч человек списочного состава, множество орудий, запасов, средств транспорта, складского оборудования. В течение долгих дней эти две людские массы, ничего не зная друг о друге, двигались по сложным путям войны, чтобы вдруг оказаться лицом к лицу среди лесистых холмов и полей, где-то на неизмеримых пространствах России. И вот тут-то карта Василия Федченко опять появилась на свет.
Шестого числа в Леменке полк попал впервые под бомбежку. Сразу выяснились мелкие недочеты в наблюдении, в расстановке средств ПВО, в санитарной службе. Пришлось кое-что менять на ходу, переучивать людей, применяясь к новой обстановке. Кое-чего достигли, а всё же четырнадцать человек было убито, двадцать восемь ранено... Эх...
Дня через три, уже на месте, разыгралась ложная тревога по поводу парашютного десанта; сутки спустя – еще, и понапрасну. Паника – только и всего. А приходилось гонять машины, поднимать спящих людей. Наконец около полудня девятого случилось три события. К Федченке доставили девушку – самую обычную, казалось бы, «служащую», с нормальным паспортом, с профсоюзным билетом, с родственниками, живущими тут же, в станционном поселке Сольцы. Увидев ее и услышав слово «диверсантка», Федченко устало подумал: «Ну вот! Что за чушь опять! Не видят люди, что ли, кого забирают?»
Девушке этой недавно минуло двадцать лет; у нее были мелкие черты довольно смазливого личика, светлосерые глаза, пышная сумочка из поддельной красной кожи в руках. Было у нее и то же имя, что у его жены: Муся. А вот оказалось, что ее поймали, когда она хотела бросить ампулку с ядом или с микробами в главный городской колодец на базарной площади.
– Это что, – правда? – прямо, без всяких обиняков спросил он ее в упор.
Она стояла потупясь, потом подняла на минуту на него пустые, неумные глаза и без особого смущения снова опустила их. Носком коричневой туфельки она вырыла маленькую ямку в песке и продолжала сверлить ее однообразным, равнодушным, круговым движением. И вдруг ему стало холодно. Он поверил!
– Слушайте, вы, девчонка... Да как же ты на такое пошла, негодяйка?! – теряя контроль над собой, закричал он.
Она снова подняла глаза. Бессмысленно-дерзкие глаза самой обыкновенной мелкой подлой дряни.
– А чего вы на меня орете? – ее голос звучал какой-то заученной привычной наглостью. – Нужно мне было, вот и пошла!..
Тогда задохнувшись, побледнев, как если бы ему, а не ей предстояла немедленная смерть, Василий Федченко впервые в жизни приказал тут же, за домом, в огороде, без всякого суда расстрелять эту гадину.
Его колотила дрожь, он долго не мог успокоиться.
А через какой-нибудь час после этого им привезли в санитарном вагоне тоже совсем молоденькую женщину: врача, хирурга. Она была тяжело контужена часа три назад, на соседнем полустанке. Бомба замедленного действия упала рядом с тем вагоном, где помещалась операционная. Женщина делала очень сложную операцию ноги раненому красноармейцу; сосуды были уже перерезаны, – перерыв в работе грозил больному гибелью. Передвижение вагона тоже исключалось: падение бомбы разбило путь.
И вот, выслушав, что ей сообщил бледный, как смерть, начальник поезда, она не отошла от стола. Сорок три бесконечные минуты, ни на миг не оторвавшись от раненого, она продолжала свое дело. В первые же десять минут всех остальных раненых по приказу начальника унесли из поезда на носилках. В следующие десять минут начальник, по одному, отправил в безопасное место и весь персонал операционной. Вдвоем с ним, с начальником, они наложили последние повязки.
Начальник с единственным санитаром торопливо унесли оперированного. Она пошла за ними, отстав на двадцать шагов. Они успели спуститься уже с насыпи, а она только подошла к скату, когда бомбу рвануло... На сорок седьмой минуте!
Так как же, как же могли существовать, жить одновременно в мире и эта и та?
В тот день он разнервничался не на шутку, подполковник. А вечером его вызвал к себе генерал-майор.
– А, это ты, Василий Григорьевич? – как всегда прямо и без околичностей, встретил он его. – Хорошо, что не задержался. Знаменитая твоя карта при тебе? Клади-ка ее вот тут, на стол. Хочу взглянуть... Зачем? Для злости, Федченко, для злости! Сейчас сам поймешь, почему.
Он прошелся по комнате, снова подошел к столу. Суровое, обветренное его лицо подергивалось.
– Эх, подполковник, подполковник! Наконец-то мы с тобой получаем боевую работу. Приказано занять любой ценой оборонительный рубеж, приготовиться к тому, чтобы сдержать на нем до подхода подкреплений наступающего противника... «Хорошо», говоришь? Сам скажу, – хорошо! Одна беда: где этот рубеж проходит? Не знаешь? Ну, а я вот, как это ни печально, знаю.
Он сделал маленькую паузу, видимо выжидая, не догадается ли подполковник сам, потом резким движением развернул на столе, поверх своих новых карт, его, Федченки, десятиверстку. Тот самый лист: двенадцать – сорок один. От Финского залива и несколько южнее...
– Рубеж этот, подполковник, проходит – полюбуйся где! – по северному берегу реки Плюссы! Вот она, вот, в сорока километрах южнее города Луги! Накаркал ты мне горя на голову со своей картой, Федченко! Чего хочешь ожидал, только не этого!
Глава XIV. ДОЛГ И СОВЕСТЬ
Еще в самом начале войны, на второй ее день, Фотий Соколов пошел к Марии Петровне Фофановой проститься: «Что поделать, Мария Петровна, голубушка?..» Не об этом, конечно, думал старый моряк... Да ведь разве усидишь в тылу в такое время?
Шел он к ней уже несколько озадаченный: начальство МОИПа признало уместным, «за убытием на флот добровольцем т. Соколова», назначить комендантом городка вовсе не Василия Спиридоновича Кокушкина, как предполагал Фотий, а как раз это самое, нуждающееся в опеке существо, – паспортистку жилмассива Фофанову. Как так? Что за выдумка? На такую ответственную работу – и вдруг Машеньку?
Придя же к своей нежданной заместительнице, Фотий наткнулся на сцену, которой никак не ожидал. Новый комендант встретила его с заплаканными глазами. Из комнаты доносилось какое-то горькое бормотанье, плач. И виной всему, оказывается, был Ким Соломин.
Ким, как объяснила паспортистка Фофанова, устроил совсем незаконное дело. Он прибавил себе год в паспорте, пошел в военкомат и был зачислен в Балтфлот. Завтра в восемнадцать ноль-ноль, «имея при себе смену белья, кружку и ложку», ему надлежало уже явиться во флотский экипаж.
Когда? В восемнадцать ноль-ноль? Так ведь точно в это же время туда должен был явиться и старый матрос Фотий Соколов!
Ланэ плакала так много и так искренно, что Кимушка был и польщен и смущен до чрезвычайности. Он никак не думал, что Ланэ так тяжело будет с ним расставаться.
Он неловко гладил девушку по голове, бормотал неуверенные и пустые слова: «Ну, Лучик! Ну что ты! Да ничего же страшного. Погоди вот, вернусь...»
Хуже было с мамой. Мама, узнав, очень побледнела, но не сказала ни слова. Она только быстро ушла на кухню, долго гремела там посудой, а потом вернулась, спросила чуть суховато, как всегда, и уже заранее зная ответ: «И ты думаешь, Ким, что это было действительно необходимо?»
Она обняла его на один только миг. Но это как раз и было трудно выдержать.
Вечером двадцать четвертого июня Ланэ, ее мама, дядя Вася Кокушкин и Наталья Матвеевна Соломина долго стояли под густыми тополями, против ворот флотского экипажа, после того, как оба «новобранца», старый и малый, махнув в последний раз на прощанье руками, скрылись за их створами. Надолго ли?
Только после того, как ворота закрылись за ними, Мария Петровна отняла платок от глаз. Ланэ, бессильно прислонившись плечиком к корявому стволу дерева, плакала не скрываясь. Молодые матросы высовывались из окон экипажа. Сочувственно, но и смешливо они кричали ей что-то, но она не слышала их.
«Кимушка! Ким! Кимка!»
Наталья Матвеевна вдруг подошла к ней и, в первый раз, порывисто обняла. Красивое лицо ее под седыми волосами стало строгим и даже вдохновенным.
– Девочка, милая, не надо плакать! – сказала она. – Теперь давайте уж... ждать его вместе. Придет он... наш!.. Придет!
И Ланэ, прижавшись к ней, разрыдалась еще сильнее. Снисходя к мнимой «женской слабости», дядя Вася Кокушкин, впервые может быть на своем веку, впал в подлинно мужскую неправду. Он говорил совсем не то, что думал. Он долго убеждал трех своих спутниц, будто безопаснее, чем корабль, во время войны просто нет в целом свете места. «Постоят где-нибудь в тихом порту – только и работы. Ну, постреляют иногда... Так ведь броня же кругом!»
Женщины не поверили старому моряку; они насквозь видели его нехитрые уловки. Кто знал, кто мог сказать что-нибудь сейчас о завтрашнем дне? Кто мог предугадать, где ждет человека опасность?.. Да и не такие, конечно, они люди – Фотий и Ким, – чтобы прятаться в спокойный порт.
Однако им жаль было огорчать дядю Васю своими возражениями; они сделали вид, что принимают его вымыслы за успокоительную истину.
И, конечно, правы были они, не он.
Четыре дня спустя от Кимушки прибыла первая открытка: без марки и со штемпелем полевой почты. Из нее стало ясно: Ким и Фотий получили назначение в морскую пехоту. Их будут обучать на берегу. Писем ждать, повидимому, не приходится: пока идет строевая учеба, много не распишешься!
Так оно и вышло. Только «ждать» Кимушку, по-старинке, тоскуя и вздыхая, как когда-то ждала Игоря его Ярославна, ни у Натальи Матвеевны, ни у Ланэ скоро не оказалось времени. И к лучшему!
Наталью Матвеевну, опытного чертежника-конструктора, командование МОИПа еще в начале июля перебросило в группу инженера Гамалея. На группу эту легло особое, экстренное задание. Соломиной выдали новый пропуск для прохода в обвалованное выше крыш землей помещение «группы». При входе туда у нее тщательно отбирали не только зажигалки и спички, но и все металлические предметы. О ней стали говорить, как и о других, с почтением и опаской: «Да, знаете, она ведь в группе Гамалея»; и это звучало ничуть не менее серьезно, чем «она на фронте».
Такова уж была «ГР» – «Гамалея ракетная». Старшему конструктору Соломиной скоро пришлось, как и ее начальнику, поселиться за городом, «перейти на казарменное положение», – так спешно, днем и ночью, шла у них работа. До слез ли, до вздохов ли было ей?
Не больше времени на тоску и сетование осталось вскоре и у Ланэ.
Правда, в первые дни, до середины июля, она часто ходила с красными глазами, с распухшим от слез лицом.
Тринадцатого числа ее послали в первый раз на окопные работы.
Восемнадцатого числа их отряд рыл противотанковый ров под Гатчиной, возле деревни Салюзи.
Было странно, даже смешно немного; лопата тяжеленная, мокрая земля поддается с таким трудом. Прокопалась целый день, – смотреть стало досадно: наработала!.. А всё тело гудит; поясницу ломит, – не разогнуться; руки висят, как плети... Эх, работница! А еще комсомолка, – должна подбадривать других.
То же, повидимому, испытывали и все ее новые сотоварки: труд адский, а сделанного не видать.
Но вечером, уходя, она поднялась на пригорок и остановилась в изумлении. Ров, настоящий ров, прямой, как струна, тянулся на километры вдаль, через поемный луг, мимо реки, и уходил за лес. Откуда он взялся? Неужели это их рук дело?
Вот в этот-то миг ей внезапно, по-новому и подумалось про Кима.
Да, он – мальчик, Ким! Да, один он ничего не может поделать, почти ничем не может помочь Родине, даже всей своей жизнью. Но их ведь много таких, как Ким! А если так, то они могут всё.
Два или три дня спустя окопников завезли под Веймарн, к самому Кингисеппу. Тут они сразу же точно попали в другой мир.
Всё здесь было уже полно военных. За избами стояли зеленые машины, закрытые ветками. По дороге, хмурые, усталые, молча шли на восток беженцы; так много измученных людей! Далеко впереди, на горизонте виднелись высокие столбы коричневого дыма, и Ланэ не сразу поняла, когда при ней сказали, что это горят деревни, те деревни, которые уже «у него».
Вечером, когда они готовились грузиться в поезд, ехать домой, из вокзала вдруг вынесли пять или шесть носилок.
И вот на один миг Ланэ впервые в жизни увидела страшно бледное лицо совсем еще молодого бойца, почти мальчика; лицо тяжело раненного.
Губы его были сжаты, руки аккуратно сложены на сереньком байковом одеяле; невидящий взгляд скользнул по ней... На раненом была синяя флотская форменка; ноги, сверх одеяла, покрыты бушлатом, а на бушлате лежала бескозырка с золотой надписью: «Стойкий». «Это – Вешняков? – спрашивала сестра. – Скорее, сюда! Вот в этот вагон!»
Ланэ ничего не успела подумать в тот миг. Она просто задохнулась от жалости, от боли, от всего. До ее слуха, точно за тридевять земель, дошли слова: «Вторая бригада... Да, и морская пехота; это же, знаете, орлы... Ну, да, за Ямбургом, за Кингисеппом. Хорошо дрались, но потери тяжелые...»
Поезд миновал Волосово, Кикерино, Гатчину. За окном плыла задумчиво светлая, тихая белая ночь; неведомые леса, широкие влажные поляны...
Окопницы, прислонясь друг к другу натруженными плечами, почти все спали – самые разные женщины и девушки, сведенные вместе войной, студентка рядом с пожилой дворничихой, тоненькая хрупкая девчурка на плече у могучей «чужой мамы»...
Ланэ не заснула. Она безмолвно сидела в углу вагона, смотря в запотевающее окно. Тяжелое горе, нахлынувшее на Родину, физической болью, грузным комом поворачивалось и у нее в груди. Нет, не могла она спать! Мало было ей этой работы. Она хотела делать больше, делать лучше и для своего Кима, и для всех, для всех...
В Ленинграде ее ожидала неожиданность. На столике у кровати она нашла повестку из райкома: комсомол перебрасывал Людмилу (Ланэ) Фофанову на новую работу – в МПВО. Ей предстояло теперь дежурить на одном из наблюдательных пунктов противовоздушной обороны и одновременно обучаться на специальных курсах.
Людочка обрадовалась почетному поручению; смутила ее только неприкрытая радость Марии Петровны: «Вот и хорошо! – пришла в восторг мать, – по крайней мере, ближе к дому. А то ждешь-ждешь, душа изболится!»
Вышло так, как будто ее вдруг перевели на тихую должность, застраховали от опасностей: другие едут, попадают даже под бомбежку, под обстрелы с воздуха, а она – сиди около мамы!
В некотором смущении она побежала в райком: протестовать. Она не слабее прочих. Она тоже может ездить!
Она не узнала своего райкома: всё было по-новому.
Никого из старых знакомых... Таблички со многих дверей сняты. Множество молодых парнишек в военном сидят на окнах, курят на лестницах. «А где же Лавров?» – «Лавров ушел на фронт...» – «А Вадим Горенко?» – «В летной школе?» – «А Катя Болдырева где?» – «Катя Болдырева, Людочка? – глаза девушки, которая с ней говорила, вдруг наполнились слезами. – Катя Болдырева... Нет, Людочка, больше нашей Катеньки... Погибла смертью храбрых...»
Очень смущенная всем этим, Ланэ шла по нижнему коридору к той комнате, где должен был сидеть нужный ей товарищ: про него ей сказали, что он тут. Она шла и удивлялась: странное нежное звяканье, какой-то шелестящий шум доносился до нее, растекаясь по пустым переходам... Подойдя, она распахнула белую дверь и чуть не отшатнулась. Именно отсюда несся шум, лязг стекла, звон. Полкомнаты занимала гигантская груда стеклянной посуды, наваленной прямо на полу.
Зеленовато-прозрачные, коричневые, бесцветные, разнообразные бутылки лежали беспорядочной кучей, и от преломляющихся в их стеклянных стенках лучей всю остальную часть комнаты заполнял какой-то неверный, как бы подводный полумрак.
Перед этой горой стоял длинный стол. Три или четыре серьезные девчурки-пионерки двигались за ним, быстро и и ловко принимая бутылки, которые из матерчатых мешков, из корзин и сумок вынимали по другую сторону стола такие же сосредоточенные мальчуганы. Еще три девочки укладывали бутылки в огромную корзину. Одна, в самом конце стола, сердито пререкалась с мальчиком:
– Да что ты мне, в общем, говоришь, мальчишка?! Разве это нормальная бутылка? Ты, мальчик, со мной, в общем, не спорь, потому что у меня – инструкция! В общем, такая бутылка до танка не долетит: у нее горлышко может отломиться при броске!.. Ты знаешь, у нас задание на район: сто тысяч штук к четвергу. Вот! А мы хотим сто двадцать. Вот! А у нас только восемьдесят тысяч... А сегодня уже понедельник... Вот! В общем, – иди и носи, только настоящие, тонкостенные...
Удивившись, Ланэ прикрыла дверь и только теперь прочитала на ее створке красным карандашом вырисованную надпись: «Пионеры! Сдача противотанковых бутылок ЗДЕСЬ».
– С ума сойти! – пробормотала она. – Сто тысяч на район? И восемьдесят уже собрали! Это – ребята?!
Инструктора Петра Лапина – того, который был на месте, – она знала очень хорошо. Петя был хром от рождения, носил с детства ортопедическую обувь и даже «ограниченно» не годился в армию. Вот потому-то он и сидел теперь в огромной полутемной комнате «сам один». Он так закричал на Ланэ, как только она начала «протестовать», что на большой люстре над его головой тоненько зазвенели хрустальные подвески.
– Да ты что? Да ты понимаешь, куда тебя ставят? – возмущался Петя Лапин. – Ты знаешь, что такое МПВО в военном время? Ты представляешь себе, что у тебя будет за работа?
Нет, Люда по-настоящему поняла это только месяц спустя. В те же дни не только она, даже сам Петя Лапин, большой знаток военных дел, не очень-то еще ясно понимал, на какой пост он ставил эту милую, такую мирную, такую невоинственную девочку, с чудесными чуть-чуть раскосыми глазами. Зато Люда отлично поняла другое: не слишком ловко она сделала, так резко отказываясь перед Петей от тыловой работы, пороча ее. У Пети в глазах замелькало такое... Он-то ведь невольно должен был навсегда оставаться тыловиком. Нехорошо вышло!
Поэтому она не стала спорить. И, кроме того, – в строгой суровости и деловитом оживлении райкомовских комнат, в поминутных телефонных звонках, в стоящих у подъезда военных машинах, да может быть даже и в легком, до второго этажа доносящемся звоне бутылок, со всех сторон стаскиваемых сюда пионерами, – во всем этом, во всех мелочах было что-то такое, что сказало ей: «Люда! Не суди о том, чего не знаешь! Комсомолу лучше тебя известно, где ты теперь нужна! Комсомолом руководит партия! Иди, куда посылают!»
Притихшая Ланэ вернулась к себе в городок и в тот же вечер, впервые и надолго, поднялась по гулкой лестнице на бурокрасную, еще совсем теплую от дневных лучей крышу дома номер семьдесят три – семьдесят пять по Кировскому проспекту, на свой «пост»...
Людина мать в тот самый вечер, наоборот, окончательно спустилась в подвал корпуса номер четыре, туда, где Фотий Соколов еще до войны соорудил свою гордость: образцовое бомбоубежище и показательный «пункт МПВО».
В бомбоубежище она перенесла из квартиры Фотия и его узкую железную койку. Ее собственная кровать была слишком громоздкой для тесного помещения; Фотий же Дмитриевич, уходя, оставил весь свой немудрящий скарб в полное ее распоряжение.
Маша Фофанова отлично понимала, как непривычно и тоскливо будет ее Людочке ночевать одной в пустой квартирке без матери. Никто не приказывал Фофановой переходить на казарменное положение. И тем не менее ей казалось, что ни единой ночи отныне она не может провести вдали от комендантского телефона, от шкафчика с ключами, от ящика с домовой сиреной... Не может – и всё тут.
Василий Спиридонович Кокушкин в эти дни тоже вступил в новую почетную должность. Его, как старого большевика с дореволюционным стажем, вызвали в райком партии, проинструктировали и назначили «политорганизатором жилмассива». Партии потребовалось установить на тревожное время новые, дополнительные линии связи с народной массой; такое же назначение получили тогда многие старые партийцы города.
Не приходится скрывать: когда кандидатура отставного моряка обсуждалась в райкоме, некоторым товарищам показалось, что, может быть, такое назначение чересчур обременит Кокушкина. «Человеку уже седьмой десяток пошел, – говорили они. – Такого ветерана можно и поберечь: найдутся люди помоложе...»
А сам Василий Спиридонович принял задание партии как высокую награду. У него даже спина распрямилась от сознания собственной необходимости, от радости, которую он тщетно старался скрыть. Уже много дней, – может быть именно с того момента, как Маша Фофанова стала комендантом вместо Фотия, его мучило сознание своей стариковской бесполезности: все при делах, а Василий Кокушкин числился отставным комендантом бывшей морской пионерской станции. Чем же он виноват, что родился шестьдесят два года назад, а не тридцать?.. Горько! И вдруг – понадобился!
Он немедленно созвал первое совещание городковского актива, в том же пункте МПВО под четвертым корпусом. Сидя на одеяле Марии Фофановой, застланном на койке Фотия Соколова, он со всей тщательностью и точностью передавал гражданам жилмассива всё, что ему самому сказали в райкоме партии.
«Наступают нелегкие дни, друзья! Родной наш дом в черной беде, в большой опасности. Этот враг, друзья, он ни перед чем не остановится: где нахрапом нельзя пройти, змеей поползет; знаем! Мы уже не первой молодости люди: вспомним девятнадцатый год: как тогда тут большевики стояли? Никакой паники не было, ни единой лазеечки для врага... А нынче война, тем более, такая: на фронте – фронт и тут в тылу – фронт. Там у него – танки; здесь – шептуны, лазутчики... Там – рвы да окопы, а тут мы должны перегородить ему путь нашей большевистской бдительностью, которая покрепче любого бетона».
Лодя Вересов, тринадцатилетний мальчуган, тоже присутствовал на собрании. В первый раз и он, и девочки Немазанниковы, дочери дворника, Ира, Маня, Зоя и Нина, видели дядю Васю Кокушкина в таком состоянии. Он точно помолодел лет на двадцать. Голос его громко разносился под сводами бомбоубежища; глаза смотрели строго и твердо; длинные и всё еще черные усы, похожие на корабельные выстрела, [19]
[Закрыть]не забавляли сегодня, как всегда, а казались важными и грозными.
Когда собравшиеся встали и запели «Интернационал», у Лоди на сердце похолодело и горло сжалось... «Дядя Вася! – спросил он потом, стоя рядом со старым моряком во дворе и смотря, как тот навешивает огромный замок на вторую, запасную дверь убежища, – дядя Вася... – голос его дрогнул. – А вот я хотел у вас узнать... А вот ребятам... Со скольких лет им можно большевиками становиться?»
Дядя Вася сначала удивился немного, потом поглядел искоса на стоявшего у его локтя маленького человека и серьезно проговорил, возясь с замком: «Как это со скольких? Да хоть с твоих, с пионерских. Думать надо, ты у меня не первый день уже большевик в душе. Потому что у тебя, Вересов-младший, как я погляжу, совесть у тебя большевистская и долг свой ты выполнишь на все сто».