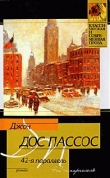Текст книги "60-я параллель(изд.1955)"
Автор книги: Лев Успенский
Соавторы: Георгий Караев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 52 страниц)
И вот солдаты небрежно перебрасываются короткими фразами. Это особый немецкий язык, не тот, по которому она имела круглое «пять» в школе. Но если бы они могли предположить, что горбатая русская ведьма хоть из пятого в десятое понимает их баварский говор...
Возвращаясь к Вариводе, она всё подробнее и точнее рассказывала ему о виденном. И к исходу первой недели старший лейтенант, потирая небритый подбородок, задумчиво сказал ей:
– Да, Лизонька... А ведь из тебя, если так оно пойдет, классная разведчица получиться может... Память у тебя определенно цепкая; соображение, как я замечаю, много выше нормы... А это, как ни говори, большое дело...
Она так и вспыхнула вся – до того радостными показались ей эти скупые слова похвалы. «Степочка, голубчик...» Нет, конечно, она не сказала этого вслух: как же можно!
Шли еще самые первые месяцы войны. Народы Советского Союза, захваченные ее вихрем, не успели приспособиться к новым условиям существования. Мудрый, глубоко продуманный партией и советской властью план развертывания партизанской работы в тылу у противника едва начинал приводиться в действие. Живой гнев самого оскорбленного народа тоже еще не успел наполнить его раскаленной лавой мщения. Люди наши, оставшиеся за спиной у врага, еще не знали и не умели многого, очень многого. И двум таким одиноким путникам, как Лиза и Варивода, казалось бесконечно трудным, почти немыслимым в темноте, в смуте и опасной злой неразберихе взбаламученного непонятного подполья найти начало ниточки, которая привела бы их к своим.
Они были уверены, что эти свои должны жить и дышать где-то тут же рядом. Да, но где? Каковы их приметы? Какие волшебные слова надо знать, чтобы не ошибиться, разыскивая их? Ведь никогда до войны ни девушке-комсомолке, ни молодому партийцу-командиру в голову не могло прийти, что понадобится советским людям на двадцать четвертом году революции среди родных полей и лесов уйти в подполье. В подполье! Сказать страшно!
Двадцать шестого октября они прошли через обугленное пожарище Смердей, ночью пересекли над озерком Лукомо тщательно охраняемую немцами Варшавскую дорогу (как раз там, где четыре месяца назад на ранней заре Клавдия Слепень увидела первый фашистский самолет), и, миновав деревню Заполье на холме, по кустистым пустошам вышли на Гдовское шоссе, полевее Корпова и Ведрова. «Светлое» было совсем недалеко: вон за тем леском!
Здесь девушка снова ушла вперед. Степан Трофимович остался в соснячке над лесным болотом, подождать результатов ее разведки. Остался пасмурный и сердитый на самого себя.
Часа два он неподвижно сидел на пне в нескольких десятках метров от пустошной дорожки. Поставив у самых ног кузовок с дюжиной грибов-маслят на донышке (какие уж там грибы в октябре!), он с независимым видом вырезывал фигурки на можжевеловой палочке... А что? Бородатый оборванный дядька, который, посвистывая, ковыряет перочинным ножиком смолистую древесину, даже у самого придирчивого фашистского патруля не вызовет никаких подозрений. «Гриби? Ди пильце? Дизе? .. Вайст ду вас, Грета: эти русские жрут здесь такие сопливые ядовитые грибы, на которые цивилизованный человек и смотреть не станет! Тьфу!»
Варивода посвистывал и думал. Мысли его были невеселыми. Видимо, надо иметь совсем уж железную душу, чтобы испытать всё это и не потерять веры в себя. В свое!
Танки урчат за каждым холмом. Чьи танки? Самолеты с утра до ночи висят в осеннем небе. Чьи самолеты? По нашим рельсам бесчисленные эшелоны везут их снаряды, их броневики, их солдат... Так как же голыми руками пытаться сломить эту силу? Где те, кто еще может бороться с нею? Да осталось ли на всей этой горемычной земле хоть что-нибудь живое, несломленное, что способно снова поднять голову? А может быть, кроме них двоих – никого нет?
Варивода знал: этого быть не может. Но знать – это одно, а видеть, слышать, чувствовать – другое. Лизе легче! Лиза каждый день заходила хоть в какие-то деревни, смотрела в глаза местным людям, слушала, пусть шепотные, пусть опасливые, приглушенные, но всё же людские голоса. А он? Он был лишен и этого!
Вот уже месяц, как он не видел ни одной души, кроме спутницы-девушки, ни с кем, кроме нее, не перемолвился словом. Ему начинало порой казаться, что в этом всё дело. Может быть, мы, советские люди, так же не способны уже жить в одиночку, как рожденная в улье пчела? Может быть, не следует более бороться по-волчьи, порознь, каждому за свою, ставшую бессмысленной, жизнь, а? Ручные гранаты есть? Патронов хватает? Так чего же еще ждать?
Минуту спустя, однако, ему становилось стыдно до тошноты. «Тряпка! – с отвращением цедил он сквозь зубы, впиваясь ногтями в собственные ладони. – Раскис... Не крутись хоть перед собой, мов тот гадюченок на угольях! А как же люди годами в одиночках гнили и держались? А как сейчас товарищ Тельман – не в таком грибном гайку, в Моабитской тюрьме! – держится? Эх, Степан, Степан...»
Можжевеловые стружки сердитым дождем сыпались на лесной мошок. Дятел долбил где-то сухоподстойную сосну. И никого кругом...
Да, держаться надо! Держаться было легко, пока впереди, далеко, была приманка, цель, таинственное и незнаемое «Светлое».
А теперь – вот оно. Добрались. И что же?
Вот вернется сейчас эта девочка, со слабым телом и такими правдивыми глазами, что даже жутковато порой заглянуть в их чистую глубину. Осторожно, крадучись, придет и принесет великие дары: корочки хлеба, добытые ценой смертельной опасности; луковку, из-за которой она могла десять раз погибнуть, соль в клочке бумаги...
Он бережно разгладит обрывок газеты, спрячет в сумку, чтобы потом прочитать... Старая газета, десятого апреля или седьмого марта, но ведь «Правда!» В Москве напечатано!
Потом они поедят. Лиза расскажет, что и в этой деревне немцев нет (да и из наших только старики да дети). Помолчав, она виновато добавит, как каждый день, что и тут слышно: где-то, совсем недалеко, в лесах, скрываются советские люди, наши... У них есть пулеметы, даже орудие. «Наверное, это правда: ведь мы столько раз про них слышали!»
Да, слышали... Да, может быть, и правда. Ну, и что ж? Он промолчит. А она... Нет, она не заплачет, не пожалуется, эта девушка. Но ведь видно, как она тает с каждым днем!
Она вздохнет, встанет, и они пойдут дальше... А куда?
Стругая палочку, старший лейтенант Варивода нет-нет, да поглядывал на небо. Ох, не нравилось оно ему! Тучи, уже совсем зимние, шли низко, набрякшие, переполненные. Кто знает, почему они еще удерживали в себе тяжкий груз снега? Выйдет им приказ из небесного интендантства: «Разгружай!», и...
Значит, что же? Опять ночевать в сенных стогах, в лесных шалашах? Нет, видно, чего-то они не додумали, чего-то еще не умеют сделать... Э, да при чем тут «они»? Он за всё ответственен! Он во всем виноват! Эх, Лиза, Лиза!..
Старший лейтенант вздрогнул: голоса! Лиза? Почему не одна? Почему говорит так громко?
Привычным движением он воткнул в мох посошок, положил руку на рукоять нагана. Лиза, ты?
Говоря по правде, он не верил в счастливый исход их поисков. Найти теперь, на заранее загаданном старом месте знакомого человека? Да весь же мир перекинулся вверх дном! Он даже не очень внимательно слушал Лизины рассказы: какая-то девушка, учительница, комсомолка. Ладно, пусть так, узнаем потом, что за человек...
Вот почему он даже протер глаза рукой, когда увидел... К нему через полянку, с дороги, раздвигая руками молодые рябинки и можжевеловые елочки, торопливо, путаясь в траве, шли две маленькие женские фигурки.
Первое, что ему бросилось в глаза, было Лизино лицо. Разрумянившееся, радостное, точно даже несколько пополневшее, оно не только сияло настоящим счастьем, оно было так чисто умыто, что у самого Вариводы сразу зазудели и щеки, и уши, и виски.
– Товарищ старший лейтенант! Степан Трофимович! – почти не умеряя голоса, говорила Лиза еще на расстоянии. – Нашли! Вот! Это она, Леночка! Нашла я ее! И как всё чудесно! В Лескове «их» нет: они боятся сюда показываться. Степан Трофимович! Скорее же! Мы сначала – к ней, а потом... куда мы с вами хотели.
Поздно вечером они сидели в теплой и чистой избе Масеевых, в том самом Лескове, в которое он только что не очень верил.
Окна Лена занавесила плотно. Кроме них, в доме не было никого, а Степан Варивода всё не рисковал спросить у молодой хозяйки, где же остальные члены семьи: по вещам можно было понять, что живет тут не одна учительница.
На их долю выпала редкостная удача. Из сдержанных слов девушки можно было понять, что совсем близко, в лесу, расположился небольшой, но крепкий партизанский отряд. Может быть, ядро будущего большого отряда... Во главе – два замечательных человека: учитель одной из ближних школ, коммунист с большим партийным стажем, и кузнец соседнего колхоза, человек беспартийный, но очень талантливый и смелый командир. Командует он; учитель – вроде как комиссар отряда... Так... И что же они – одни?
– Одни? Нет... как одни? – не очень еще охотно, раздумывая над каждым словом, говорила Лена Масеева. – Ясно, не одни! Есть и еще наши люди... только... Вы меня простите, товарищ Варивода... Я Лизу Мигай уже пять лет знаю, еще девчуркой совсем; я и вам всем сердцем верю, но... Подождите немного. Вот я к утру оповещу товарищей, тогда встретитесь... Им командиры из армии вот как нужны!
Время было далеко не раннее, а прерывать разговор всё не хотелось: своих нашли! Своих! Какое это слово! И Лиза с Вариводой и Лена Масеева, вместе с деревней Лёсково, пережили так много!
Керосиновая коптилка еле светила. В доме, правда, свешивались с потолка пузырики электрических лампочек; у двери даже был выключатель. Варивода, шагая по комнате, машинально повернул его. Учительница, заметив это, только горько махнула рукой: «Был у нас свет, товарищ старший лейтенант, – сказала она. – Везде он был... Теперь всё погасло. Надолго ли?»
Когда коптилка догорела окончательно, Степану показалось, что девушка нет-нет, да прислушивается напряженно к чему-то за окном. Ему подумалось: может быть, их присутствие мешает ей? А может статься, она всё еще их боится? «А, да будь она проклята, эта лихая жизнь! – с сердцем поморщился он. – Люди встретились. Одного хотят, об одном думают. А она мне не верит, я – ей... Слушает... Что она слушает? Но ничего не поделаешь; остается рискнуть».
– Ну, Елена Ивановна! – проговорил он, поднимаясь со скамейки, на которую присел было в полутьме. – Не соснуть ли малость? Храбрись как хочешь, а по-честному, устали мы.
Он не притворялся: заснуть им обоим было давно пора. Но как этого не хотелось!
Всё, что окружало их теперь, было такой драгоценностью, таким негаданным подарком... Можно было смотреть на печку и знать, что это действительно печка, а не сон. Можно было верить и в кошку: вот, кошка! Сидит, тощенькая, сгорбатившись, на скамейке, и иногда, приоткрыв золотистые глаза, многозначительно взглядывает на Лизу.
Бревенчатые стены потрескивали уютно, как никогда. От печных кирпичей дышало сухим теплом. По полу, от двери к красному углу, тянулся чистый половичок: сухой, теплый... И всё это было не воображаемое, настоящее – протяни руку и трогай! Так можно ли отказаться от такого богатства? Добровольно закрыть глаза и опять ничего этого не видеть? Нет, еще хоть минутку, хоть две.
Лене Масеевой тоже не хотелось расставаться с гостями. Ее очень взволновало всё, что случилось за день. Внезапно из густого, мокрого, уже почти зимнего леса, из октябрьской мокропогодицы вышли прямо на нее два человека, два наших человека, и попросили у нее помощи. Это одно потрясло ее. А кроме того, Лизонька... Столько сразу нахлынуло на Лену, совсем недавнего и до того уж забытого, что казалось опасным спорить, – было это или не было?
Лагерь в «Светлом», за горой. Лодочка на вечернем озере. Тени от лиственниц на озаренной луной дорожке. «Лизонька, а вы не знаете случаем, куда девался Валентин Сергеевич? Ну, физрук-то ваш? Ой, смешной до чего...»
Нет, Лене тоже хотелось протянуть этот вечер, хотелось внести в него нотку близости, откровенности, тепла. Ну, не этой, не опасной откровенности, а другой, – личной. Личной-то можно? Кроме того, она всё приглядывалась к Вариводе.
Стоя посредине избы, Варивода почти упирался головой в потолочные слеги. Светлая борода на его, теперь тоже умытом, лице уже не казалась накладной бороденкой под русского мужичка (а сначала именно это насторожило Лену). Карие глаза смотрели спокойно и прямо, не так, как там, в лесу. Теперь не оставалось сомнений: это не отсталый солдатишко, пробирающийся невесть куда, не растерявшийся местный житель. Нет, глупости, как можно думать! Это здоровый крепкий человек: советский командир. Военный.
Учительница вглядывалась в Вариводу почти не скрываясь. Только когда он прямо обращался к ней, она отводила глаза, но сейчас же опять поворачивалась в ту сторону, где он стоял или ходил. Потом невольно она переводила взгляд на Лизу. Что думает, что знает эта маленькая болезненная школьница Лиза Мигай о своем спутнике, о человеке, которого она спасла от неизбежной гибели? А он? Что он думает про нее?
– Да... как это странно на свете получается, – неожиданно глубоко вздохнув, проговорила она с прорвавшейся искренностью. – Жили-были себе в разных концах страны два человека. Где бы им, казалось, встретиться? Потом целый месяц один без другого – ни на шаг. Целый месяц! А потом... Вот и кончился ваш совместный путь, Лизонька...
Она запнулась на полуслове: старший лейтенант Варивода выпрямился бы еще выше, да потолок не пустил.
– Ох, и нет, товарищ Масеева! – с неожиданной пылкостью прервал он ее, весь вспыхнув под своей бородой. – Вот уж это неправда! Я... понятно, ничего не могу за товарища Мигай говорить. Но мне, – голос его внезапно и звонко дрогнул, – мне Лизавета Константиновна, если так можно сказать, второй раз жизнь дала! И коли вы меня теперь спросите, ну, так я вам прямо скажу: мне от этого дня и до конца моего без нее никакого пути не видно!
Он задохнулся. Леночка Масеева, учительница, ласково и грустно смотрела на него. А Лиза?
А Лиза Мигай, прижав к груди худенькие руки, еще более беспомощные, чем всегда, потому что на ней была широкая Леночкина кофточка, что-то хотела сказать и не смогла...
В следующий же миг она закрыла лицо руками, точно человек, которому в упор брызнул яркий свет, и кинулась за дверь в сени.
Глава LV. «СВЕТЛОЕ» ВО МРАКЕ
Странная вещь произошла с Лизой в первые дни после того, как она прибыла в партизанский отряд Архипова.
Началось с того, что она внезапно прихворнула.
Впрочем, «внезапно», пожалуй, здесь не точное слово. Очень возможно, что больна была она уже много раньше; еще там, в сыром лесу, между Чащей и Вырицей; еще на страшных топких берегах Велья-озера.
Да, но там у нее не было крыши над головой. Не было там ни сухой соломы под боком, ни расписанной замысловатым узором камуфляжа зеленой плащ-палатки на ней. Никто не мог там заварить для Лизы малинового чая, подать кружку кислого, как уксус, морса из только что собранной клюквы.
«От того Велья – не видать жилья!» А когда нет жилья, люди как-то совсем не болеют.
Зато здесь – другое дело. Лишь только громадная красивая женщина Аксинья Павловна Комлякова, с недоверчивым и опасливым выражением лица, передала Лизе свое самое драгоценное сокровище, единственное оборудование медицинской части отряда, – три заслуженных, видавших виды максимальных термометра, девушка сразу почувствовала, что еле стоит на ногах. Щеки ее запылали, ноги начали томно гудеть, голова точно налилась горячей ртутью. Ей стало очень неприятно, тяжело. Комлякова и без того смотрит на нее с сомнением: «Щупленькая, слабая... Ну, какая из тебя «начальница»? А тут еще – болеть!»
Всё же она поставила себе градусник. Да, так и есть: грипп. Тридцать восемь и два!
Она никому не сказала ни слова об этом, и хорошо сделала. Не прошло трех часов, как она забыла про свой «грипп» надолго.
Пригревшись, она вздремнула было. Ее разбудили плач, возбужденные гневные голоса.
На хуторе Полянка, километрах в семи от них, ефрейтор-фашист из команды, охраняющей Гдовскую дорогу, вздумал «пошутить». Обедая, он поманил к себе пятилетнюю дочку хозяйки, дал ей кубик сахара, а когда она, обрадованная, побежала прочь, плеснул ей на спинку миску горячего, хуже всякого кипятка, жирного супа.
Аксинья Комлякова не плакала и не кричала. Бледная, с крепко сжатыми губами, она принесла девочку, как перышко, на одну из коек. В тот же миг Лиза, позабыв всё на свете, кинулась на борьбу за эту маленькую жизнь. Грипп! Она со стыда сгорела бы, узнай кто-нибудь, что час назад ей самой хотелось полежать в постели на правах «больной»...
Так, не успев начаться, кончилась ее болезнь. Она была «купирована», как говорится в учебниках. Гораздо труднее оказалось вылечиться от другого, очень странного недуга.
Лиза никогда не думала, что так может случиться. Именно теперь, когда ее окружали крепкие, смелые, радушно принявшие их в свою среду люди, она вдруг почувствовала себя обидно и непонятно одинокой.
Первые дни, полные рукопожатий, расспросов, взаимной радости и любопытства, пролетели. Для населения лагеря вновь прибывшие перестали быть волнующей новинкой. И про Лизу, как показалось ей, просто забыли. Это понятно: все были заняты, у каждого – свое дело. Ведь даже Степа Варивода (и в этом заключалось, конечно, самое трудное!) с первого же вечера оторвался от нее совершенно.
Лиза отлично сознавала, – иначе не может и быть: старший лейтенант с хода вошел в напряженную работу; он принял на себя обязанности помощника командира отряда. Занят он был теперь выше головы. Именно для этого она и вела его сюда; именно этим и жила все последние недели. Вздумай он пренебречь делом ради нее, она же первая возмутилась бы. А всё-таки!
После того вечера в Лескове, после слов, которые навсегда остались в ее сердце, неужели не мог он найти нескольких минут хоть для самого короткого разговора? «Ой, Лизонька, родная... Ну как ты? Понимаешь... Еду в одно место... Я постараюсь завтра... Или на днях...»
Да, на днях. А может быть, через месяц! Или никогда... Всё понятно; всё верно. Но от того, что оно верно, легче на сердце не становится.
Что говорить? Там, в лесу, они были куда более одиноки. Но одиноки тогда они были вдвоем. Каждый писк зяблика в еловых ветках, каждое содрогание сучка над тропой тревожило и радовало о б о и х! А тут?
Тут были люди, товарищи. Ее, Лизу, почти все уже знали; ей без расспросов отпускали порцию каши в обед. На ее койку никто другой не ложился. Но она-то не знала еще никого и ничего. И ей стало чудиться, что партизаны относятся к ней несколько равнодушно. Ну, да, живет с ними в этих пещерах такая вот слабенькая девушка... Ну и пусть живет; ведь ей больше деться некуда.
Она поняла, в чем дело, лишь после того, как всё резко и наглядно перевернулось.
В этом суровом мире были свои мерки и свои законы. Здесь человек больше, чем где-либо, ценился по его делам и поступкам. А ведь видимых окружающим, нужных для отряда дел за Лизой пока еще не числилось никаких. Вот как только они появились, – всё стало другим.
В начале ноября здоровье маленькой обваренной Зоеньки почти чудом быстро пошло на улучшение. Добиться этого было нелегко. Лиза знала, как полагается лечить ожоги, но так лечить их было тут нельзя: ни марганцовки, ни стерильных бинтов, ничего... И всё-таки больная начала выздоравливать. Лиза не видела в этом своих заслуг.
Но едва перелом в Зоенькиной болезни определился, Аксинья Комлякова перестала звать свою «начальницу»: товарищ Мигай. Она стала говорить ей: «Лизавета».
Когда же девочка начала тихонько играть на своей коечке, Комлякова вдруг вечером сама принесла Лизе чай в котелке, напоила ее, заставила лечь, накрыла своим теплым, приятно и чисто пахнущим полушубком и, присев на край топчана, смотря в стенку перед собою, нз останавливаясь, рассказала всё, что у нее накипело на сердце.
Аксинья Павловна была вдовой: ее муж пять лет назад утонул на Чудском озере во время зимней рыбной ловли. В оставшемся на нее хозяйстве она, бездетная бобылка, управлялась сама: «работала за полного рыбака». Вторично замуж она пока что не собиралась. «Видать, еще Гриню моего Нарова в море не горазд далеко унесла...», но на жизнь свою не жаловалась: «Люди жили, и я жила!» И только в последние месяцы с ней случилась большая беда.
Сидя на Лизином топчанке, громадная темнобровая женщина с некоторым недоумением смотрела на свои сильные руки.
– И никогда я, Лиза, того не думала, – размышляя вслух, говорила она, – что придется этими вот руками за винтовку браться...
Я, Лиза, хоть робка никогда не была – мы у бати все три девки смелые рожены! – но, бывало, курёнка зарезать, так я видеть этого не могу. Снесу соседу, подам, а сама за ворота выйду. От нашей, Лизонька, сестры, жизнь на свете идет; нам, бабам, смерть по миру сеять не приходится.
А тут подержали меня в фашистской тюрьме шесть дён и надумали зачем-то во Гдов переправить. И пущают меня, бабу, туда пешим ходом. И дают мне в конвойные своего солдатишку, подсвинка такого белоглазого. Ну, ведет он меня Борковским лесом. И встречается нам дедка Родион с Выселок; слепой такой дедка: плохо видит совсем. Встретились и разминулись, как надо. Дед отошел шагов сто, руку козырьком поставил, да и дай поглядеть, куда это Ксюшку Рыбакову повели. А этот гадёныш сощурился, кидь автомат на руку: «Тах-тах-тах...» И кончился мой дедка. Сунулся на дорожинку и лежит... Маленький такой лежит, как дитёнок; только что голова седая...
Ну, Лиза... Что тут со мной стало, этого я тебе пояснить не могу. Сжало вот в этом месте, что закруткой. Заплакать хочу – не дает заплакать: больно! Иду деревянными ногами, смотрю на землю: «Советская, – думаю, – ты земля! Что же теперь с тобой станет? Научи хоть ты меня, бабу: как же мне теперь быть?»
Дошли до Рубеженки, до речки, а там – овраг такой темный: кусты, олешняк; хмель вьется. Вижу: фашист мой озирается туда-сюда; страшно! «А, – думаю, – ты там, в кустах, свою смерть ищешь, а она – вот она, с тобой рядом идет...»
И не скажу тебе, как мне помогло, – на самом на мосту... Как волчиха его сзади за шею схватила. Тиснула – у него и автомат на пол...
Правду скажу, жалко потом было. «Эх, – думаю, – молокосос, молокосос!.. Из-за такого праха честные свои мужицкие руки опоганила!
Не тебя бы, – думаю, – дурака фашистского, а фюрера твоего мне сюда дали...»
Ну, вот. Взяла автомат его. Сошла повыше моста к воде...
Долго руки мыла, пока дочиста... Потом заплакала, что дедка Родион на дороге так лежать остался, мне ж его никак прибрать нельзя; взяла полевее и ушла прочь.
Говорить нечего – идти трудновато было: битая я была, спина вся синяя, в левом плече вывих... Ничего, хватило бабьего терпения, – ушла! Вот, Лизонька, как жизнь моя сложилась... Ну, ложись, поспи хоть немного: теперь, видать, жива наша с тобой девчонка останется! Радость-то нам какая!
С этого дня у Лизы появился в отряде первый, не считая Вариводы, близкий человек.
Едва ли не на следующее утро ее неожиданно (всё здесь случалось неожиданно, вдруг) вызвали в Корпово к «самому», к Ивану Архиповичу. Там она получила первое свое разведывательное задание: пройти в Лугу, пробыть там целый день под видом убогой нищенки и выяснить расположение постов охраны возле бывшего Дома крестьянина; в этом доме теперь останавливались проезжающие фашистские начальники.
– Ну, как, дочка? – пристально поглядел на нее чернобородый смуглолицый Архипов. – Посильное это для тебя задание? Мне интересно, когда у них развод бывает, как они сменяются, всё. Да ты больно не робей, воробей: страшнее смерти ничего не будет. Скажу тебе прямо: другого послать не могу, у меня ныне людей подходящих нет... А послать – необходимое дело!
Она гораздо меньше взволновалась теперь, чем в час, когда Аксинья внесла в пещеры обожженную Зою. Какая же разница между Лугой и теми деревнями, в которых она уже побывала столько раз?
Без всяких приключений Лиза не только выполнила задание: ей удалось сделать больше. Она ночевала в деревянном вокзальчике «Луга вторая» и слушала, как разговаривают между собою два немца, два ефрейтора, совершенно уверенные, что их не понимает и не может понять никто. Диалект, на котором они говорили, был действительно плохо понятен ей; но всё же, напрягая все свои способности, всю память, она кое в чем разобралась.
На дороге из Плюссы, на речке Пагуба сломан мост. Что-то случилось с танком; видимо, наскочив на мину, он развернулся и перегородил дорогу среди болот. Образовалась пробка машин семьдесят шестой дивизии; разобрать ее нелегко. Всё это стоит в болоте почти без охраны, а господин оберст думает только о переброске трофеев из Гатчины в адрес господина Геринга и в свой собственный... В общем чорт знает что! Хорошо еще, что в этой богом забытой глуши как будто ничего не слышно о партизанах. Если бы тут было так же весело, как дальше к югу... Санта-Мариа!
Иван Архипов и Варивода очень благодарили Лизу за эти сведения.
Двое суток спустя после ее возвращения в «медпункт» заглянула юношеская физиономия – парнишка в серой солдатской ушанке, с торчащим из-за плеча рыльцем автомата.
– Мигай, ты тут? – торопливо окликнул ее. – Тебя, что ли, Елизаветой звать? Тебе сколько лет-то? Осьмнадцать? Подходя! Член ВЛКСМ, думать надо? Так что же ты столько времени на учет не становишься? Как так: «разве есть»? Крупнейшая ячейка: ты восьмая будешь! Билет сохранила? Порядочек! Запиши себе (а на чем записать?!): завтра пойдешь в деревню, заходи ко мне... Там каждый знает: амбарушка за штабом. Как это «некогда в деревню идти?» А разве тебе Гаврилов не передавал, что тебя на одиннадцать ноль-ноль военком вызывает? Как нет? Ладно, я из него компот сделаю! Приказанье не выполнять, а? Так в одиннадцать ноль-ноль! Засекла? И сейчас же ко мне: нам с тобой есть о чем поговорить. Ты – культурная сила. Моя фамилия Фомичев. У меня – всё.
Лиза растерялась.
Самые слова эти: «стать на учет», «культурная сила» противоречили всему, что окружало ее последние два месяца. Как? Комсомольский учет тут, в этой норе, во мраке, в пещере каменного века? Ячейка ВЛКСМ в десяти километрах от той Луги, где она побывала только что, где по перрону, козыряя друг другу, гуляют «лойтнанты» и «оберсты», где вдоль всех стен жирно выведено анилином: «Фойер аусгелёшт!» – «Гаси свет!», где на углах белеют новенькие стандартные вывески: «Гитлерштрассе», «Герингштрассе»? Может ли это быть? Не послышалось ли ей это?
Ее подбородок вдруг задрожал; да как же смела она подумать, что о ней забудут, что ее...
И вот она уже сидит в корповской избе под большой березой, может быть, в той самой избе, где года два или три назад покупала молоко, пережидала дождь. Корпово!
Окно выходит на дорогу. Снег. Видно гумно или сарай под горкой, колодец на лужку внизу.
В избе – чистый стол. На нем – глиняная чашка с солеными огурцами, банка консервов с надписью: «Дэнэмарк. Шлезиен. А. Г. Педерсен», полевой бинокль и карта, придавленная, как пресс-папье, большим черным пистолетом. А за столом, против Лизы, сидит и пристально смотрит на нее, стараясь припомнить, директор Ильжовской школы – Алексей Иванович Родных. Тот самый, который угощал ее однажды огурцами с медом там, в своем Ильже, в далекий-далекий день, когда ребята из лагеря ездили вместе с Марией Михайловной в гости к ильжовским пионерам. Это и есть душа Архиповского отряда коммунист Родных; как она сама только что читала в Луге на заборах, – за доставленного в комендатуру коммуниста Родных, живого или мертвого, «будет произведён оплат в размере пяти тысяч окупационных марок».
Лиза впервые в жизни видит перед собою человека, голова которого оценена. И эта оцененная голова уголками рта улыбается ей, Лизе...
Они не сразу узнали друг друга, да и как узнать? Алексей Родных не был теперь директором школы; он был политическим руководителем партизан. Лиза Мигай тоже не осталась девочкой-пионеркой – она стала разведчицей и бойцом. Желтый школьный дом в Верхнем Ильжо превратился в груду занесенного снегом угля и пережженных, посиневших кирпичей. Шумливый пионерский лагерь в «Светлом», правда, не сгорел; фашисты обнесли его проволокой, поставили вокруг часовых. В «Светлом» и сейчас «лагерь», только какой? И на верхнюю перекладину той арки у поворота с шоссе, с которой каждый год смотрели на ребят дружелюбные слова: «Добро пожаловать», они ввернули теперь три зловещих железных крюка.
– Ну, как же, товарищ Мигай! – сказал, наконец, Родных. – Припоминаю! Помилуйте! Мария Михайловна! Да я же ее отлично знал и уважал чрезвычайно. Где она теперь?
Он опустил на минуту голову, услыхав о том, что произошло в августе в Луге.
– А, чтоб им... – коротко пробормотал он. – Но вы каким молодчиной оказались! Да что уж, рассказал нам старший лейтенант! Митюрникова была бы горда за вас, очень горда... Теперь я уже хорошо помню: вы были чем-то вроде помощника лагерного врача вашего. В такой зеленой палатке около родничка... Верно? А вечером вас заставили стихи читать. Очень милые, искренние стихи: что-то про жизнь пионеров... Это ваше было творчество? Садитесь-ка тогда вот тут, рядом со мной, дорогая девушка: мне нужна ваша помощь. Надо нам с вами совместно кое-что обдумать.
В этот день Лиза Мигай так окунулась в самую гущу жизни партизанского мирка, что все мысли об одиночестве отлетели от нее, как если бы их никогда и не было. Помимо того, что на ней до сих пор лежало, Алексей Родных сделал ее еще и «летописцем отряда».
Родных по специальности был историком, и историком отнюдь не рядовым. Знание славянских, русских древностей нашего северо-запада делало его неоценимым консультантом самых известных ученых. Археологи, интересующиеся Лужским и Ильменским районами, древней Водьской и Шелонской пятиной господина Великого Новгорода, постоянно прибегали к нему за советами. Теперь он сам, разумеется, великолепно понимал, свидетелем и участником каких грандиозных событий сделала его жизнь.
Но Алексей Родных был не просто историком, а историком-коммунистом. С первых дней войны он отдавал себе отчет в том значении, какое партия придает партизанскому движению в тылу у врага. Он понимал, к чему неизбежно должно привести это могучее движение народного гнева. И вот, оставшись по приказу партии в тылу у немцев, он получил возможность присутствовать при рождении одного из партизанских отрядов, стать во главе его...
Кто мог сказать, что случится в будущем? Очень может быть, Архиповский отряд обречен на неудачи и скорую гибель. А может статься, смелые люди добьются своего – и из малого зерна проглянут на этой древней земле первые ростки великого народного сопротивления...