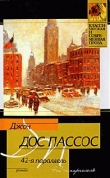Текст книги "60-я параллель(изд.1955)"
Автор книги: Лев Успенский
Соавторы: Георгий Караев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 52 страниц)
Глава XXII. ПИСЬМА, КОТОРЫЕ ЛОДЯ НЕ ПОСЛАЛ
« 7 августа.
Милый Максик!
Вот прошел уже один месяц и два дня, как вы уехали, и теперь у меня уже нет друзей. Может быть, потом они будут, но пока еще нет никого.
С папой моим, наверное, всё благополучно; только плохо, что от него нет никаких писем с 1 июля. И мне грустно читать сводки, пока мы еще не перешли в наступление; конечно, если бы мы наступали, было бы другое дело. Но я не огорчаюсь, потому что папа всегда говорит, что никому Советский Союз победить не удастся.
Максик! Если бы ты был здесь, ты бы с ума сошел от удивления. Теперь все двери на чердаки открыты и ребят посылают даже на крыши. На крышах от солнца горячо, даже сквозь сандалии; с нашего дома всё видно, – от Кировского проспекта до Новой деревни. Я дежурю часто, и тревог сколько угодно; только настоящих еще не было, – еще ни одной бомбы не бросили.
Очень глупо делает Лева Браиловский: он, как только завоет сирена, прячется в бомбоубежище и боится. Его папа за него краснеет; он мне это сам сказал. Потому что, кроме Левы, никто у нас труса не празднует. Почему он такой нервный?
Милый Максик! Я решил, что буду тебе писать часто, пока не кончится вся тетрадь, потому что каждый день всё новое, и никак не успеешь про всё написать сразу.
Теперь я всё делаю сам. Мика очень занята. Она говорит, что я стал как беспризорник; но меня это не убивает. Она, кроме того, сердится, что я так скучаю по папе, и говорит: «Как никак, май дир, [26]
[Закрыть]а у тебя есть я!» Но, по-моему это – не противоречит.Я хотел сразу, как только все уехали, записаться в пионеры, но опять не получилось. Мика сказала, будто пионерские отряды все эвакуированы. Меня очень огорчило, что даже сейчас нельзя.
Теперь я езжу на трамваях, куда захочу, с утра до ночи; туда, где даже никогда не бывал, – до самой петли. На концах маршрутов бывают зенитные батареи и танки.
В одном месте я обнаружил прожектор и видел в первый раз противотанковые надолбы. Они ростом больше меня.
Вчера я доехал на двадцатом номере до Шувалова. Там был сосновый лес и стояли старые грузовики. Красноармейцы учились бросать в них противотанковые бутылки из-под лимонада. Как только бутылка попадала в машину, машина загоралась; никто ее не жалел. Командир даже радовался, что они горят, как свечки. Вдруг он дал мне бутылку и сказал: «А ну-ка, хлопчик! Попытай счастье!» Тут я пополз, будто это действительно немецкий танк, и так залепил в самый мотор, что еле потушили песком. Командир засмеялся и сказал: «Из тебя, брат, будет толк!»
Максик! Я теперь полюбил Зеленый Луч. Она часто дежурит на доме семьдесят три – семьдесят пять в стеклянной будке. С ее крыши видно лучше, чем с нашей; даже видны Пулково и Дудергоф.
9 августа.
Максик! Я вчера тебе ничего не написал, потому что был страшно занят. Дядя Володя Гамалей дал мне письмо свезти на Нарвский проспект к их бабушке Евдокии Дмитриевне. Я ехал-ехал и на берегу Обводного канала застрял. Там через рельсы переходила целая толпа. Ехали телеги; за ними шли на привязи коровы, ребята деревенские бежали босиком. Одна девчонка с косичкой ехала верхом на лошади и ела морковь, а ноги поставила на оглобли. На другой телеге спала старушка, а рядом с ней на сене лежала маленькая коза... Коза посмотрела на меня и вдруг сказала: «Мэ-э?», точно спрашивала: что это за город? Мне стало смешно, но вожатая сняла ключ с контроллера, стукнула меня пальцем по тюбетейке и сказала: «Большой, а глупый! Чего смеешься? Это мука человеческая едет! Это же беженцы! Их Гитлер из домов выгнал!»
Тогда мне стало очень грустно и даже страшновато; я о беженцах и не подумал.
На обратном пути, уже на Кировском, против Игорева дома, встретилось целое стадо, но без пастухов. Все трамваи стали. Овцы бежали даже по панелям, как в степях. Потом пошли коровы; они стали щипать траву на самом углу Карповки. И даже был бык; у него была доска на рогах, а морда привязана к ноге. Я очень удивился, что такой бык запросто идет по городу.
12 августа.
Милый Максик! Вот так штука! Я пишу тебе уже третий раз! Это прямо вроде дневника. И я хочу описать тебе одну удивительную вещь.
Теперь я сижу на крышах, пожалуй, даже чаще, чем на земле. Все теперь прямо поселились на крышах! Ведь сейчас и ночью совсем светло. Все сидят, разговаривают, а на доме семьдесят пять кто-то даже играет на скрипке.
Дядя Вася Кокушкин сказал нам, что надо выявлять шептунов и паникеров, которые будут уверять, что фашисты непременно сюда придут. Но я еще ни одного шептуна не нашел. Все на крыше говорят очень громко и считают, что Ленинград никогда не сдастся. Я думаю, что у нас в доме никаких шептунов и нет. Мне очень нравится сидеть на слуховом окне и слушать разные новости.
А главное, – я придумал удивительную игру. Ты, может быть, уже потерял дяди Женин телескоп, который он привез из Москвы, а у меня он еще цел и я в него наблюдаю.
Я в него рассматриваю, что захочу: то ангела, который вертится на шпиле на крепости, то чужие крыши. Но всего интереснее, когда попадешь на далекие окна. Тогда тебе, вдруг становится видно, что делается в каких-то квартирах, а где они, – неизвестно. Может быть, около Тучкова моста. Точно смотришь на планету Марс!
В одном доме я недавно нашел двух ребят, которые почему-то дрались. В другом – каждый вечер какая-то девочка с косами, вроде нашей Аси Лепечевой, сидит на подоконнике, играет на гитаре, а потом о чем-то плачет. Мне ее очень жалко; может быть, у нее кто-нибудь на фронте ранен или убит?
Некоторых окон во второй раз никак не найдешь, точно куда-то они проваливаются; зато другие всегда тут как тут. А одно окно оказалось особенное. Его легко найти: там на доме такая башенка, и в ней комната. Когда вечер, – солнце светит насквозь, и внутри всё видно: вся комната горит, как фонарик.
И вот я там сначала увидел обыкновенные вещи: стол, стулья, диванчик вроде кровати. Кроме этого, там висел еще план какого-то города, вроде Ленинграда, только название куда длинней и в два слова, вроде «Буэнос-Айрес» или «Сан-Франциско»... Но букв не разобрать. И сначала там никто не жил, только какие-то люди раза два или три пробегали.
Потом, откуда ни возьмись, появился человек. Он лежал на диване и читал газеты. Иногда он разглядывал что-то на плане, – мерил даже циркулем, чертил. Я бы на него и смотреть не стал, но одна вещь меня насмешила: по нему всё время бегал какой-то маленький зверек. Я долго не мог разглядеть, но потом оказалось, что это у него за пазухой живет белая крыса. Тогда он мне понравился, и я стал его изучать.
Я его видел раз десять; и он делал всё разные странности. Один раз он поил белую крысу лимонадом или, может быть, вином из бутылки и очень над ней смеялся. Другой раз к нему пришли люди, и он им вроде как давал урок; но я этих людей не разглядел. Кроме того, он почти каждый день подходил к окну прямо против меня и подолгу говорил в окно. Станет, смотрит прямо на меня и говорит, говорит что-то, хотя слушать его некому. Даже страшно станет, покуда не вспомнишь, что он-то невесть где, и меня ему совсем не видно. Ведь мне-то его лица не рассмотреть никак!
А вчера он прямо сошел с ума: он поел, вытер губы платком, приколол к стене, около плана, бумажку и стал не то целиться, не то стрелять в нее из пистолета... Может быть, он и стрелял; только огня не было, а выстрелов мне, конечно, не слышно. Потом он снял бумажку со стены и долго разглядывал около лампы. И вдруг шторы на его окне задернулись и всё скрылось.
До этого дня я ничего особенного про него не думал; он мне даже нравился из-за белой крысы. Но после этого я начал думать, что, может быть, про него надо кому-нибудь рассказать. Может быть, он – шептун, и тогда его надо выявить.
Если бы тут был ты или папа, или Ким Соломин, я бы взял и посоветовался с вами. А теперь никого нет. А сразу идти к дяде Васе мне неудобно: вдруг это самый простой охотник или зверолов?
Я уж чуть было не пошел к Зеленому Лучу, но потом раздумал. Ведь она всё-таки девочка: она просто начнет смеяться и скажет: «Глупости какие!» У них, как только что-нибудь удивительное, так – «глупости». Я думал-думал и решил показать этого человека хоть нашей Мике или рассказать про него; только боюсь, – она сразу же разозлится. Я всё-таки хочу позвать ее завтра на крышу, а то опять всё пропустишь...»
Он не докончил своего длинного письма, этот тихий мальчик, Лодя Вересов. Он не показал его своей мачехе и ничего не сказал ей про то, что открылось ему в загадочном мире, видном сквозь стекла его подзорной трубы.
Утром на следующий день Лоде вздумалось еще раз поглядеть на места, которых он не мог не вспомнить, как только сел за письмо к Максу: на прибрежную часть парка, на дуб, на суку которого он еще так недавно лежал, играя в детскую, воображаемую войну... Делать в последнее время ему стало действительно нечего: школа эвакуировалась «за кольцо», товарищи – тоже.
Он поболтался по двору, поглазел, как саперы дружно строят кирпичный дот на углу Кировского, напротив моста, поговорил очень почтительно с их пожилым уже, но чрезвычайно подвижным и словоохотливым старшиной. «Не журись, парень! – бодро сказал старшина, отечески похлопав Лодю по плечу. – Перебедуем, – обратно заживем что надо! Всё выдюжим: советский народ! Сила!»
Лоде очень понравился этот старшина. Повеселев от такого его хорошего разговора, он прошел по бережку в парк.
Тут на первый взгляд всё осталось таким, каким было «тогда». Крепко пахло от крапивы и бузины, нагретых августовским солнцем. Дуб, про который папа говорил, что он не моложе, чем екатерининский, попрежнему простирал над суховатой теперь травой могучие руки своих сучьев. Он так невозмутимо взирал на воду и на небо, этот кряжистый старец, точно не очень верил и в тревоги, и в бомбежки, и в самую войну. «Подумаешь! – словно бы хотел сказать он, – невидаль! Разную пакость переживали, а... где она теперь?»
При взгляде на морщинистый, добродушный, хоть и очень твердый ствол этого дуба, Лодя почувствовал себя еще бодрее. Дуб показался ему тоже старшиной, – не человеческим, конечно, а их, древесным. Ему от всего сердца захотелось поверить им двоим. «Вон они какие сильные, большие; как хорошо, как крепко выдюживают они, каждый на своем месте! И папа выдюживает вместе с ними! Надо гордиться тем, что живешь теперь, а не нюнить».
Новые слова, впервые услышанные от сапера, очень пришлись Лоде по душе.
Стоя под дубом, мальчик некоторое время смотрел вокруг, охваченный непередаваемым чувством. Да, нюнить не надо! Но всё-таки как недавно еще было это всё и вместе с тем как давно! Можно подумать, – он во сне видел те спокойные легкие дни, когда еще ничего теперешнего никто не знал: ни дзотов на углах улиц, ни синих лампочек в мертвенно бледных лестничных клетках по вечерам, ни надоедного, – изводящего, а ведь необходимого! – никогда не прекращающегося, слышного везде стука метронома по радио... Всё тогда было другим; совсем другим. Хотели уже ехать в «Светлое», и вдруг...
И вдруг... Лодя как будто слегка вздрогнул. Ему показалось, – кто-то взглянул на него из-под ног, снизу, как змея. Но никто на него не глядел; это он сам, наоборот, не веря своим глазам, пристально смотрел сквозь желтую траву... на ножик!
Ножик торчал там, где хозяин воткнул его в дерн, забыл про него в тот теплый и тихий июньский вечер, в мирный вечер накануне войны.
Лодя невольно оглянулся. Нигде никого. Осторожно, опасаясь, сам не зная чего, он присел на корточки над своей находкой. Да, никто его не взял. Его стальные части слегка поржавели; пластмассовый черенок покоробило и свело. Но он торчал там, куда его вонзили, – когда? «Кукла тряпочная! – сказал здесь в тот миг один неизвестный человек другому. – Не сегодня-завтра чорт знает что начнется, а ты...» Откуда он знал?! Как мог он предсказать, что это начнется?
Странная мысль так поразила Лодю, что он снова почувствовал тот самый знакомый холодок между лопатками. Как же быть? Ведь если это не глупая выдумка, так тогда... Тогда, может быть, его, Лодина, тайна, детская «тайна», которой он так хотел поразить Максика, на самом деле была вовсе не «детской» и вовсе «не его»? Она могла быть, наоборот, очень важной тайной совсем других, ничуть на него не похожих людей.
Было бы просто неестественно, если бы тринадцатилетний подросток не рванулся тотчас же поделиться тем, что ему пришло в голову, с кем-либо взрослым; ведь тогда, с Максом, они еще не знали, что «не сегодня – завтра начнется война».
В первый миг ему показалось, что очень просто – пойти и сейчас же рассказать всё тому старшине. Но тотчас затем он смутился: старшина был человеком военным, бывалым. А вдруг он рассмеется презрительно! А вдруг скажет: «Делать тебе нечего, хлопец, а?» Пожалуй, лучше прежде поговорить всё-таки с Микой. Ну, да, пол десятого; она уже ждет его завтракать.
Он торопился, но всё же опоздал, – правда, совсем немного. Мама Мика только что попила чай и писала, улыбаясь сама себе, за своей кукольной секретеркой у окна. Но как только Лодя дошел до сердитых слов, сказанных тогда при нем тем, вторым человеком у дуба, она положила вставочку на чернильницу и повернулась к мальчику так резко, что он даже запнулся. Выражение ее красивого лица стало внезапно каменным, и Лодя испугался. Он, несомненно, сделал какую-то неловкость; но в чем именно она состояла?
– Ну? – проговорила мачеха, поднимая брови. – Дальше?
Очень трудно отвечать, когда на тебя так смотрят, а ты не знаешь: за что? Сбиваясь и путаясь, Лодя с трудом договорил до конца.
– Дальше? – еще раз произнесла Мика, и Лодя подумал быстро, с отчаянием: «И папы нет!» – Ты узнал, кто были эти... типы? Тот, с ножиком, и другой?
– Нет, темно уже было, – смутясь окончательно, пробормотал мальчик. – Я... я их не разглядел. Но мне показалось, а если это – шпионы? Я хотел у тебя спросить; что ты думаешь?
Протянув свою, всё еще полную и мягкую руку, мама Мика взяла со стопки книг бронзовый разрезальный ножик и крепко приложила его сначала к одной щеке, потом к другой. Глаза ее очень пристально глядели в упор на Лодю. Потом она так же резко отвернулась к окну; Лодя не удивился. Отчитывая его, Мика всегда смотрела куда-нибудь в сторону.
– Я думаю, что ошибалась, считая тебя уже взрослым, май бой! Сотни раз тебе говорили... и я и отец: нет ничего постыднее, чем подслушивать чужие разговоры. Я думала, ты это усвоил. Теперь я не думаю этого. Шэйм! Стыдись! В такие дни забивать себе голову подобным ребячеством! Ступай – и чтоб больше это не повторялось! Погоди! Ты кому-нибудь уже успел раззвонить... весь этот идиотский бред?
Лодя покорно встал со стула. Он весь залился краской. Если бы его спросили, он ни за что не ответил бы, почему, но в этот миг он сразу понял. Нет, это не бред и не чушь. В этом есть что-то очень плохое и очень страшное. А она не хочет ему объяснить. Говорит ему неправду. Зачем?
– Нет, никому, – глухо выговорил он через силу: лгать он не умел никогда и ни в чем. – Кому же мне рассказывать, если никого нет?
Он даже не заикнулся мачехе о человеке с белой крысой. Какой смысл был теперь в разговорах с Микой?
Глава XXIII. «ВОЛНА» ДОКАТИЛАСЬ ДО БЕРЕГА
Двенадцатого августа один из наших бронепоездов, действовавших на южном берегу Финского залива, вышел на позиции к станции Веймарн с особым заданием.
Передвижная тяжелая пушка крепостного типа, мощное огромное чудище, поставленное на колеса, била отсюда, за десятки километров, по немецким танковым частям, сосредоточившимся для перехода через реку Лугу выше Кингисеппа. Снаряды ее ложились точно. Тридцатитонные танки рассыпались в прах, словно детские игрушки. Вражеские штабы пришли в волнение: каким образом русским удалось здесь, в полусотне километров от моря, ввести в действие корабельную артиллерию? Их авиация кинулась разыскивать позиции гигантского орудия. Бронепоезду было приказано своим огнем охранять этот важнейший «объект» от воздушной разведки и на походе и на позиции.
Бронепоезд, состоявший под командой капитана Стрекалова, был недавно сформирован: его построили и снарядили совсем на днях, и притом – с особым назначением.
Враг рвался к берегу, в район крепостных сооружений Кронштадта. Со дня на день ожидали танковых налетов. Для их отражения нужно было иметь в руках мощное оружие, а предназначенный специально для этого бронепоезд «Волна Балтики», как считалось установленным, погиб вместе со своим экипажем далеко в тылу у немцев.
Тогда из подручных платформ, забронировав их бетоном и поставив на них такие же пушки, какими на «Волне» командовал Андрей Вересов, добавив вооружение более мелких калибров, собрали и ввели в строй импровизированную боевую единицу: «Бронепоезд № 2».
Экипаж бронепоезда был спешно набран с фортов. В распоряжение капитана Стрекалова и комиссара Зяблина штаб флота прислал командиров батарей – Камского и Залетова.
Двенадцатого числа «Бронепоезд № 2» был в деле с семи ноль-ноль до девяти двадцати; стомиллиметровки старшего лейтенанта Камского, помогая пехотному полку, били по деревне Мануйлово, у станции Веймарн. С десяти тридцати поезд начал операции по прикрытию подвижной дальнобойной пушки. В течение дня трижды на бронепоезд налетали немецкие бомбардировщики. Очевидно, они принимали именно его за то, что они разыскивали, – за самую пушку. Трижды он выдерживал их удары, отводя их от своего могучего собрата. К вечеру пушка ушла на станцию Котлы, и бронепоезд Стрекалова последовал за ней.
Первый боевой день всегда напрягает и возбуждает души людей, независимо даже от важности его результатов.
Мало кто спал в Котлах в эту ночь. Да и положение на фронте было достаточно тревожным. До сна ли!
Форсировать Лугу у Кингисеппа немцам, правда, всё еще не удавалось никак, но это не было для них теперь острой необходимостью. Перейдя реку у Сабека, гораздо выше по течению, они уже прорвались к железной дороге восточнее Кингисеппа и Веймарна. Наша кингисеппская группировка попадала теперь под угрозу окружения. У Веймарна бои шли в полукилометре от железнодорожного полотна... Было совершенно ясно, что дальнейший отход к северу, как это ни тяжело, неизбежен: с юга Стрекаловский поезд и тяжелую батарею прикрывала теперь лишь тоненькая и всё слабеющая пленочка одной из дивизий народного ополчения; дальше за ней не было уже никого и ничего.
В командирской «каюте» Стрекалова засиделись далеко за полночь. Ночь за окнами была теплая и не очень светлая. Низкие тучи на юге то и дело освещались розоватыми вспышками. Нет-нет, снова и снова до ушей доходил всё тот же, ставший за последее время привычным, гул.
Около двух часов позвонил дежурный по соседней станции, Кихтолке; с ним была установлена связь.
Стрекалов устало взял трубку.
– Ну, да, я... Ну, давайте... давайте... Кихтолка? Дежурный? Слушаю. Что нового, доброго?.. Да не знаю; до утра – здесь... Ну, это как начальство прикажет... А, что? Погодите, плохо слышу, что еще!?. Откуда? Из Веймарна? Что за чушь! Да нет, это дело невозможное... – Он отнял трубку от уха.
– Комиссар, слышишь? – сказал он, пожимая плечами и прикрывая трубку рукой... – Дежурный звонит; говорит: из Веймарна по диспетчерской запрашивается бронепоезд... Сообщает, что идет сюда, на Кихтолку – Котлы!
Комиссар Зяблин широко открыл глаза.
– Позволь, Володя... Какой бронепоезд? Чей? Армейский?
– У армии на этом фронте никаких бронепоездов нет.
– Ну, так, значит, – ошибка! Что они зря трезвонят? Пусть раньше выяснят... И как он может пройти через Веймарн? В Веймарне немцы у полотна!
– Дежурный! Эй, дежурный! – закричал Стрекалов. – Это блажь какая-то. Никаких бронепоездов у нас тут нет. Выясните и доложите.
Через десять минут Кихтолка позвонила снова. Дежурный связался с Веймарном, хотя слышимость была отвратительная. Нет, действительно: чей-то бронепоезд стоит под обстрелом, у границы станции, требует путевки. Пропустить или нет? Они грозятся, что пойдут сами!
– Слушай, Зяблин, – хмурясь проговорил Стрекалов. – Как хочешь, но на свой риск я не имею права... Какой бронепоезд, ко всем чертям? Надо запросить генерала. Чорт его знает, что там такое! Хорошо, если просто ошибка, а...
Телефонисты очень быстро связались со штабом. Вероятно, последовал лихорадочный обмен запросов.
В два пятнадцать штаб Берегового укрепленного района позвонил Стрекалову. Телефонограмма:
«Б/П № 2 Стрекалову Нахождение в Веймарне какого-либо армейского бронепоезда исключено. Нашими частями ст. Веймарн с минуты на минуту может быть оставлена. Армейское командование допускает возможность провокации со стороны противника. Приказываю: на запрос Веймарна ответить разрешением; вам немедленно выйти на перегон Кихтолка – Веймарн и, расположившись на удобной позиции, вести разведку железнодорожного полотна. При появлении подозрительного состава без предупреждения уничтожить артогнем».
(Подписи)
В два двадцать Кихтолка разрешила Веймарну выпустить таинственный поезд в ее направлении. В два тридцать две бронепоезд Стрекалова отцепился от своего тылового эшелона и малым ходом, стараясь не бросать на низкие тучи отблеска топки, пошел к югу.
Примерно в три часа он стал на разъезде, на закруглении тотчас за Кихтолкой. Дальше к Веймарну шел покатый скат. Было целесообразно, выдвинув разведку, ожидать противника здесь: бронепоезд был прикрыт склонами выемки.
Тот, кто при этом присутствовал, надолго запомнил это первое для них с начала войны таинственное событие. Такие вещи до мельчайших деталей врезаются в память.
Тучи расходились, ночь светлела. Как почти всегда бывает к утру, фронт затих там вдали; пахло мирно и счастливо: утренней природой, влагой, духом оцепеневших во сне трав.
Стрекалов и Зяблин, крайне заинтересованные, оба поднялись на откос; их обдало росой с высоких, выше пояса, зарослей кипрея.
Сверху ясно виднелась уходящая вдаль дорога. Изгибаясь, она сбегала вниз, то теряясь в перелесках, то снова выныривая из них. Равнина была залита белым озером тумана. Далеко на горизонте над этой пеленой вторым слоем плавал коричневый дым пожара; виднелась водокачка и крыши станции Веймарн. Стояла необыкновенная тишина.
Пел, поднимаясь в небо, первый жаворонок... Клеветой на нежную прелесть зарождающегося утра казалось тяжелое слово «война».
Сначала всё оставалось тихим и неподвижным. Потом, далеко за свежими лиственными перелесками, послышалось редкое нелегкое дыхание. Где-то там, между березовыми рощицами, осторожно, стараясь не выдать себя султаном пара, пробирался паровоз... «Идет!»
Камский заранее рассчитал первый залп по маленькому мосту за горой. Залетов был готов открыть кинжальный огонь по врагу, как только его площадки выйдут из-за прикрытия. Вражескому бронепоезду как будто неоткуда было пройти к Веймарну. Но немцы могли несколько вагонов нагрузить взрывчаткой и пустить их навстречу нам. Могли они сделать и еще что-либо иное... Так или иначе, это загадочное «нечто» надлежало допустить самое большее до речки и моста и затем расстрелять беспощадно и внезапно.
Первым увидел неведомый состав Семенов, дальномерщик.
– Товарищ старший лейтенант, вижу!.. Вон из лесу, из леска вытягивается...
Сотня глаз впилась в этот лесок.
Там, где полотно терялось в лесных зарослях, показалась низкая и серая задняя платформа. Медленно выдвигалась она из-за деревьев... Нет, теперь можно было рассмотреть, что, во-первых, сюда действительно идет какой-то бронепоезд, что, во-вторых, сзади за ним следует еще один состав...
Напряжение нарастало с минуты на минуту.
«Как они могли перебросить сюда такую штуку? Ветку, что ли, проложили?» – хмурясь думал Стрекалов.
Из-за бетона стенок, сквозь смотровые щели броневого колпака, в окошечки будки смотрели десятки глаз.
Чужак вытянулся из лесу окончательно. В тот же момент Басов, механик Стрекалова, не выдержал:
– Товарищ капитан! Да это ж наш бронепоезд!
– Что? Что за дьявольщина! – изумился и Стрекалов. – Володя! Смотри... В самом деле!
Очень медленно, шаг за шагом подползает странный состав к стрелкам разъезда. Все люки на его башнях наглухо задраены. В его облупленных, обитых, порыжевших бортах видно несколько пробоин. Машина работает с надсадом, с трудом. Впереди, на носу паровоза, тоже избитая и покоробленная, издали заметная пятиконечная красная звезда. Вот он проходит стрелку, вот, извиваясь, сворачивает на запасной путь. Тормоз! Визжат колодки... Остановился!
Несколько минут неверного, выжидательного обоюдного молчания. Смотрят друг на друга: и эти, и те...
Потом бронированная дверь на том, вновь прибывшем, паровозе отодвигается не без труда. Небольшой человек в морском, – в нашем! – кителе натруженно, со ступеньки на ступеньку, сходит на песок.
Еще мгновение – и капитан Стрекалов тоже откидывает свою дверь, тоже выскакивает на полотно. Не веря глазам своим, он всё быстрее и быстрее идет, почти бежит навстречу...
Тот офицер, у того поезда, подносит руку козырьком к глазам, всматривается...
– Во... Владимир... Стрекалов! Капитан! – спрашивает он неизвестно кого, может быть сам себя, и вдруг, прихрамывая, бросается вперед.
– Белобородов! – вскрикивает тогда и Стрекалов неистово. – Да откуда же ты? Да ведь ты же... ты же погиб, говорили?..
Но это действительно капитан Белобородов. Он довел свой поезд до места. «Волна Балтики» выплеснулась, наконец, на родной берег. И капитан Белобородов, закрыв глаза, на минуту опирается плечом о броню своей первой площадки.
– Ну вот, прибыли... – с облегчением говорит он. – Две тысячи семьсот семьдесят два километра и четыре десятых. И комбатар мой ранен, Вересов, Андрей Андреевич. Вчера только в партию приняли, а вот... Врача бы ему, Стрекалов... А всё-таки... пришли!