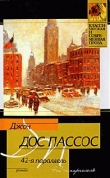Текст книги "60-я параллель(изд.1955)"
Автор книги: Лев Успенский
Соавторы: Георгий Караев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 52 страниц)
Глава XXXVI. «ВЧЕРА И ЗАВТРА»
Ранним сентябрьским утром начальник ракетной группы МОИПа инженер Гамалей получил от командования срочное распоряжение: выехать к Пулкову для участия в испытании в бою нового вида вооружения. Оно только что прибыло оттуда, из-за «кольца», из Москвы. Страна спешила, чем только можно, помочь Ленинграду.
В первой половине дня Гамалей был на месте.
Солнце стояло уже высоко. Оно светило слева, от Колпина. На пригородной равнине, между железными дорогами, стлался туман. Очки Владимира Петровича Гамалея поблескивали на солнце и мешали смотреть; но, слегка поворачивая голову, он всё-таки видел свое, давнее, родное: Пулковский холм, закрытый с этой стороны парком, купол обсерватории, чуть намечающийся между вершинами дубов и лип, и большое облако дыма, от которого на значительном протяжении сама синева осеннего неба стала какой-то нечистой, серой... Противник вчера разбомбил обсерваторию. Пулково горело... Пулково! А за Пулковом, дальше к югу гремело всё, полыхало всё. Там шел бой.
Пулково! Здесь проходило детство Володи Гамалея... А теперь, как двадцать два года тому назад, в этих дорогих сердцу местах снова протянулась линия фронта.
– Вот, товарищ военинженер второго ранга... И вы, товарищи командиры. Чтобы у вас сложилось более правильное представление о том, что вы увидите, начарт приказал мне предварительно осведомить вас о положении дел на этом участке фронта.
Высокий подполковник-артиллерист поднял полевую сумку слюдяным окошечком кверху. Человек пять командиров (Владимир Гамалей в том числе) окружили его плотным кольцом. В той складке местности, где они находились, было сыровато с ночи; на бурьяне лежало что-то вроде росы, радужно сияла паутина бабьего лета. Отгулы недалекого боя, как это часто случается, почти не долетали сюда. В этой лощине царствовал мир. Зато впереди, за горой, не умолкая гремело.
– Вот, пожалуйста! – сказал подполковник, щурясь против солнца. – Вам хорошо известно всем, что противник начал решительный штурм Ленинграда. Да, по всему фронту... То, что мы слышим сейчас, есть если не сама атака, то по меньшей мере ее подготовка. Точка зрения нашего командования такова: этот штурм должен стать не началом нашего конца, как хочет враг, а концом вражеского начала.
Он сделал паузу, вглядываясь в пять или шесть шрапнельных дымков, вдруг всплывших там, над пулковскими деревьями.
– От Виттолова бьет! – пробормотал он. – Хороша там позиция у него! Ну так вот... Мы с вами сейчас здесь, в этой вот ложбинке (он ткнул спичкой в карту), километрах в пяти от Нижнего Панова. Противник двенадцатого числа захватил Русское и Финское Койерово, Сосновку и Константиновку. Это создает серьезнейшую угрозу и для самого Пулковского рубежа. Приказано в восемь часов сорок минут начать мощную артиллерийскую подготовку и перейти в наступление. У других частей – другая задача там, на Красносельском направлении. Здесь же, перед нами – дивизия, которая должна восстановить положение и в течение дня вновь овладеть Финским Койеровым – Константиновкой. Атаку поручено поддерживать нам. – Он вдруг радостно улыбнулся. – Да, нам. В самом опасном месте! Вы уже видели там, за горкой наши машинки... Не мне и не вам объяснять, что это такое, товарищи военинженеры. Но, как видите, оценивают их хорошо, раз нам оказывают такое доверие.
В других местах они действовали не плохо. И тут я выбрал прекрасный наблюдательный пункт: эффект нашего огня мы увидим, как на ладони, как на макете, товарищи. А теперь остается ждать...
Да, они видели за горкой «машинки», о которых говорил подполковник: тяжелые грузовые автомобили, несущие на себе нечто вроде пожарных лестниц или понтонов, укутанных брезентом. Они хорошо знали, что это такое; это были первые в военной практике XX века ракетные минометы, рожденные к жизни дарованием ученого коллектива советских инженеров.
Инженер Гамалей сам работал над задачами такого типа. Он отлично понимал, что будет значить, если эти странные пожарные лестницы оправдают надежды, которые на них возлагались. Это будет значить, что эпоха обычных войн и привычного всем нам оружия заканчивается. Начинается время фантастических боев, такой техники, о которой мы читали только в романах. Чтобы создание таких орудий стало возможным, – какой громадный путь с тех дней, с семнадцатого года, должна была пройти страна!
– Ну, что ж, друзья мои, – по-домашнему сказал подполковник, взглянув еще раз на часы, – четверть девятого. Тронемся, пожалуй.
Холм, на который они поднялись, Владимир Гамалей знал и помнил еще с детства. Тогда холм был гол; теперь за несколько лет до войны пригородный совхоз засадил его, как и многие другие, шиповником; хотели добывать тут витамин «С». Шиповник разросся; «витамин» мог теперь служить надежным укрытием для войск.
С холма действительно открылась широкая панорама. Видна была та, укрытая с юга низким гребнем, горизонтальная площадка дороги, которую проводивший испытания дивизион избрал для своей огневой позиции; виден был в профиль сам гребень и равнина за ним, в кустарниках которой отсюда было заметно смутное движение. Там, в этих зарослях, накапливались перед атакой части дивизии народного ополчения.
Дальше тянулся пологий склон уже не наш, – контролируемый противником. Группа полуразрушенных построек на нем, украшенная двумя-тремя обгоревшими деревьями, и была деревней Койерово. Скопившиеся за ней немецкие части, по сведениям разведки, разворачивались фронтом на северо-восток, намереваясь, повидимому, атаковать во фланг наши, последние перед городом, Пулковские позиции. Всё поле предстоящего боя было видно сбоку, то есть в «профиль», и действительно – как на ладони.
Около восьми часов тридцати минут первая странная машина появилась на пригородном шоссе, там внизу; вторая шла за нею. Маленькие на этом расстоянии, непривычно покачивая на ухабах диковинными, теперь уже не закрытыми, надстройками своих кузовов, они очень быстро дошли до места, развернулись...
Команды не было слышно, людей не было видно. Казалось, – пустые машины дошли сами по себе до назначенного пункта, сами, потоптавшись, выбрали, как им поудобней стать.
То, что раньше походило на пожарные лестницы, – решетчатые сооружения над ними, – расположилось наклонно, очевидно, под заданным заранее углом... Всё замерло. Странная картина!
Два небольших, непонятного назначения грузовика стояли вдали на пыльном шоссе, как-то слегка осев на задние колеса, подняв головы, точно два допотопных «завра», ящера, приготовившиеся к резкому броску через холм. Так, за минуту до старта, приседают спринтеры-бегуны на стадионе.
– Поздно как позиции занимают! – проговорил кто– то рядом тем преувеличенно приглушенным голосом, которым говорят на передовой люди тыла, точно боясь, что противник может услышать их.
– В этом наше преимущество! – с удовольствием громко возразил подполковник, очевидно ждавший этого неизбежного замечания. – За десять минут до боя возможна разведка, аэросъемка со стороны врага... И ничего подозрительного... Две минуты после конца – опять. Ну, прошли грузовички по дороге, оставили колеи... Только и всего! Блестящая штука, товарищи!
В восемь часов сорок минут (часы Владимира Петровича оказались на две минуты вперед) сразу грянуло со всех сторон. Мертвая, казалось, до этого местность была, как видится, заселена племенем грохочущих чудовищ: даже от самой дороги, по которой они сюда только что приехали, била незамеченная ими полубатарея.
Минуту спустя что-то случилось и там, внизу: машины вдруг окутала легкая дымка. Удивительные, ни на что доселе виденное не похожие языки огня, внезапно сорвавшись с их поднятых кверху носов, понеслись над холмом, точно в воздух вылетела стая небывалых огненных рыб. Почти в тот же миг по ушам ударил не выстрел, не взрыв, – нет... Низкое гневное, продолжительное рыканье; раскат львиного рева, гром. Обе машины сразу, не теряя ни секунды, тронулись с места туда, за пологий отрог холма; но по дороге сзади уже подходили две следующие.
– На Койерово, на Койерово смотрите! – крикнул подполковник, выпрямляясь во весь рост.
Тяжелый раскат повторился теперь на юге. Огненный смерч возник на несколько мгновений над развалинами деревни на холме. Видно было, как она запылала – вдруг вся сразу. Донеслось – один за другим – пять или шесть взрывов; послышалась беспорядочная винтовочная стрельба, стрекот автоматов. А две новые машины, развернувшись внизу на шоссе, уже гремели повторным огненным залпом.
Потом, уже в штабе начарта, вечером Владимир Гамалей узнал о результатах того, что он видел. Деревня Койерово сгорела дотла, – полопались и рассыпались в прах даже кирпичи печей. Потрясенные немцы не смогли сопротивляться яростной атаке нашей пехоты. Одним ударом она захватила огромное черное пожарище. Враги начали быстро отходить к югу, на рубежи за Пулковом, оставив нам Венерязи и большое Виттолово. Мы захватили в Койерове обожженную, закопченную бронемашину, полурасплавленное противотанковое орудие. Непосредственная опасность для Пулкова была снята одним ударом.
Но это узналось вечером. Там, за холмами, восточнее Старо-Панова, инженер Гамалей еще не видел и не мог знать всего. Но и он и окружающие его своими глазами наблюдали, как огонь в несколько мгновений пожрал две деревни; как во вражеском фронте сразу образовалась пустота; как по полю к Койерову наша пехота пошла сначала мелкой строчкой, а потом, обнаружив отсутствие противника, уже не укрываясь, – целыми взводами.
Спустившись со своего холма, они прошли туда, где сосредоточились теперь удивительные машины. Высокий подполковник торжествовал; видно было, что у него слезы к горлу подступают от гордости и умиления. Вытирая потное лицо платком, он радовался, как ребенок.
– Да что там! Я сам – артиллерист! – кричал он. – Это же один человек делает работу за четыре батареи. Со всей их, к чортовой бабушке, прислугой! Это же надо такое придумать! Побольше стройте нам таких, инженеры! Вот подойдем к Берлину к этому да по нему как ахнем такими. За всё! За всё!
Примерно два часа они провозились, осматривая только что отгремевшие минометы. На этот раз их водили в бой средние командиры – два капитана, старший лейтенант и инженер-лейтенант. Но было нетрудно убедиться: вся машина настолько проста, что с ней управится любой толковый шофер. «А какая тут особая хитрость? – пожимал сейчас плечами один из таких шоферов. – Это – что по градусам-то расчет? Да я погляжу, товарищ военинженер, – не намного это хитрее, чем на поливочной машине по Невскому ездить! Комбайны у нас – куда сложнее; ничего, освоим! Побольше бы таких поливочных... Смыли бы дерьмо фашистское, чтобы не воняло по свету!»
Около полудня приказание начальства было инженером Гамалеем выполнено.
Он сел в люльку моиповского мотоцикла и направился обратно в город. В ту же минуту радостное возбуждение, созданное всем, что он видел, внезапно схлынуло с него.
Минометы? да, хорошо: минометы! Но разве они будут сейчас решать дело? Отличные минометы; а вон Пулково всё же горит! Пулково! Минометы, а вчера или третьего дня орудия Ленинграда стреляли уже не по Тосно, по Ям-Ижоре!
Как и все честные советские люди в те дни, Владимир Петрович горько тревожился за судьбу страны, за всё начатое и недоделанное, за всё пустившее ростки и еще не расцветшее; за всё, что он видел вокруг себя, к чему привык, с чем сроднился. А наряду с этим боялся он, конечно, и за своих самых близких: за детей, за жену.
Он холодея смотрел каждый вечер на карту; так огромна была расплывшаяся клякса немецкой оккупации, таким ничтожным казалось чистое пятнышко возле Финского залива! И оно всё уменьшалось, всё сжималось.
«Временно-оккупированные немцами области!» – с болью в душе думал он порой. – Ужасные слова! Да это же всё равно, что сказать: временно затопленный водой край».
Обыкновенно, когда его одолевали тяжелые мысли, он ехал на вечер к тестю, к Евдокии Дмитриевне. Григорий Николаевич действовал на него, как кислород на больного. Этот кремень ничего не преувеличивал и ничего не преуменьшал. Он даже не удостоивал доказывать, что Ленинград выстоит, что немцы его не возьмут. Он просто вел себя так, как если бы и вопроса об этом не поднималось: уезжал с утра на свой завод, оттуда перебирался в Райсовет, возвращался домой к позднему ужину и работал, работал... Работал старик сейчас в десять раз больше, чем всегда.
Переночевав у него, Владимир Гамалей чувствовал себя всякий раз как после купанья, хотя старый Федченко и говорил-то совсем немного. Но теперь у него на заводе налаживалось новое производство (кажется, автоматов), и Григорий Николаевич уже с неделю только звонил оттуда домой. Без общения со старым коммунистом инженер Гамалей чувствовал, как тоска и щемящая сердце тревога с удвоенной силой нападают на него.
Теперь, когда мотоцикл, увозивший его из-под Старо-Панова, старенький «Харлей», нырял колесом люльки в осенние лужи, он еще раз ощутил один из таких припадков внезапного уныния. Малодушие? Да, конечно...
Вскинув голову, он тоскливо оглянулся вокруг.
Они добрались как раз до поворота на Ленинградское шоссе. Слева виднелся гранитный полуразрушенный фонтан, со сфинксами по углам цоколя. Справа, поднимаясь прямо вверх, на холм, белела знаменитая лестница Пулкова, проложенная точно по пулковскому нулевому меридиану. По шоссе двигались – сюда и туда – бесчисленные зеленые фурманки, шли воинские подразделения. Около фонтана работала небольшая радиостанция, видимо, дивизионная, рокотал ее движок. Дальше белел флаг с красным крестом: наверное, там был медпункт.
Владимир Петрович взглянул на это всё и вдруг вздрогнул: флаг! Флаг с красным крестиком на фоне гранитной беседки фонтанчика... Постойте!.. Когда же и где – точно в давнем-давнем фильме – он уже всё это видел? И этот флаг, и это влажное шоссе, и воинские части, идущие по нему, и розовую выпуклость гранита на точно таком же куполке?
Он резко остановил своего водителя. Он приказал ему отъехать с дороги в сторону, в проулок между двумя домами, и подождать минут двадцать, – он сейчас!
Никто, конечно, не обратил внимания на военного моряка, на инженера в очках, почти бегом поднимавшегося вверх по бесконечной пулковской лестнице, навстречу грому орудий и запаху гари.
Достигнув вершины холма, он, задохнувшись, встал и обернулся. Ох, да, да! Так и есть, конечно....
Как мог он не сразу понять это, как мог не вспомнить сразу?
Двадцать один год и одиннадцать месяцев тому назад, в середине октября девятнадцатого года – да, числа четырнадцатого или пятнадцатого – он стоял точно на этом вот месте: он – Вова Гамалей, смешной очкастый тринадцатилетний мальчик с тоненькой шейкой и белыми нежнопушистыми волосами.
Так же, как сейчас, он смотрел на это шоссе. Так же, как теперь, по нему двигались сюда, к Пулкову, люди и машины. Только тогда людей было столько же, а машин гораздо меньше, чем теперь. И, так же как сегодня, там внизу, у старого фонтана стояли палатки. И такой же белый флажок с красным крестом метался по ветру. И тогда тоже сзади был враг, внизу, под ногами – свои, а в душе, в наивной ребяческой душе, – смешанное чувство страха и восторга, преклонения и жалости. И в этот миг, тогда, двадцать с лишним лет назад...
Инженер Гамалей еще раз резко вздрогнул; он чуть было не посторонился. Ему почудилось до галлюцинации ясно, что с ним рядом кто-то стоит.
Ну, да!.. Это правда! Кто-то маленький, взъерошенный, сердитый и родной и впрямь стоял тогда совсем рядом с ним, нахлобучив на упрямый высокий лоб широкополую шляпу, опираясь на толстую палку, вглядываясь из-под белых бровей зоркими глазами астронома – туда, вниз, на идущие по шоссе части. Это был его дед, Петр Гамалей, «генерал от астрономии». Он стоял вот тут, вот у того камня; только не сейчас, а более двадцати лет тому назад! Он стоял, этот старик, которому он, мальчишка, тогда помог переломить свою гордость, которого он, сам того не замечая, научил, как из «его превосходительства» стать просто «человеком», гражданином. Он научил, он!
А под ними внизу шли в тот вечер люди, приготовившиеся умереть за Родину, может быть сегодня, может быть завтра; вот тут же, за этим Пулковским холмом или в другом месте, – не всё ли равно? Они шли и шли; петербургские и московские, тверские и новгородские рабочие, от Лесснера и Гужона, из Сормова и Колпина; все вместе, плечом к плечу. И из их рядов рвалась к небу замечательная песня тех дней:
«Вихри враждебные веют над нами...» – пели они. – «В бой роковой мы вступили с врагами...»
Многие из них, и верно, умерли тут, тогда, в том самом «роковом бою» в октябре девятнадцатого года. Они умерли за Родину. Но – и как это явно, как неоспоримо теперь! – их смерть стала жизнью для нее. Родина осталась жить ценой их крови, их боли, их отречения от своего собственного бытия. Родина росла и крепла и вот дожила до сегодня. Переживет она и этот сегодняшний день!
Переживет, потому что и нынче есть среди ее сынов такие же благородные души; потому что ей указывает путь в будущее тот же великий компас, ведет та же закаленная в борьбе Коммунистическая партия; потому что цели ее так же ясны, и дело попрежнему чисто и справедливо.
С усилием оторвавшись от подвижной картины внизу, Владимир Петрович Гамалей решительно пошел влево по знакомым дорожкам парка, к своему мотоциклу. Да, конечно. Всё будет хорошо. Работать надо!
Глава XXXVII. ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ АКТРИСЫ ВЕРЕСОВОЙ
Лодя проснулся, и сердце его упало:
«А телеграмма? Неужели приснилось?»
Он совершенно не помнил, как оказался вечером в своей кровати. Да, был налет, очень страшный налет. Потом было это... еще хуже. И потом вдруг – такая радость: папа! Папочка!
Руки его дрожали, когда он доставал со стула свою курточку. Нет, всё хорошо, всё отлично: «Буду субботу тринадцатого целую и Лодю папа». Жив, приедет! Всё неправда. Всё будет хорошо!
Он чуть было не взвизгнул от счастья: «Мама Мика!» Но в этот самый миг, пряча бумажку в карман, он наткнулся на металлический круглый предмет. Гильза! Он ничего не крикнул. Как же быть? Что же теперь делать?
В прихожей – чемоданы. Их два. Незнакомый ему человек привез их сюда и сказал, что они «для папы». Это неправда: папе не нужны патроны для немецких ракет.
Теперь другое: ночью, во время бомбежки кто-то выпускает ракеты отсюда, из этого двора. Потом стреляная гильза оказывается на полу у них в запертой квартире. Значит, «он» входил сюда. Как?
Нахмурив лоб, Лодя смотрел прямо перед собою. Вчера он никак не мог понять этого, теперь понимал. «Он» мог войти! Есть железная пожарная лестница прямо с крыши к забору парка. От нее до кухонного окна – один метр. Окно вчера было открыто, и «он» наверняка знал, что в квартире пусто. «Он» зажег огонь, чтобы достать патроны; значит, он знал, где они лежат. А в это время Лодя позвонил; очень не вовремя. «Он» испугался, не успел закрыть чемодан, не успел поднять уроненную гильзу (она упала на ковер; он, наверное, не услышал падения) и удрал через окно. Но тогда что же? Тогда Мика, вернувшись, должна была уже увидеть, что находится в чемоданах, должна была понять, как ее страшно обманули. Почему же тогда она спокойно спит?
Босиком он пробежал в прихожую. Дверь в ту комнату была открыта. Кровать пуста. Никого. А чемоданы?
О! Чемоданов в передней тоже уже не было. Сердце мальчика радостно забилось: фу, как хорошо! Наверно, Мика увидела, что в них, перепугалась, конечно, до полусмерти и кинулась к дяде Васе... Наверное, уже милицию вызвали... А он всё проспал!
Не попадая в рукава, Лодя торопливо одевался. Его лихорадило; он должен был узнать всё сейчас же. Всё до конца!
Он не удивился тому, что в передней щелкнул замок. Но голос мачехи поразил его до предела; совсем спокойный, веселый, смеющийся голос, точно такой, как всегда. Смеясь, она вошла в квартиру, и не одна, а с кем-то, кто, глухо покашливая и тоже посмеиваясь, отвечал ей.
– Какие глупости, Эдуард Александрович! Чем вы мне можете помешать? Лодя! Ду ю слип, май бой? Пора вставать! Попробуй сбегать за хлебом.
Быстро умывшись и одевшись, мальчик вышел в столовую. Высокий худощавый человек, светловолосый, с начинающейся лысинкой, почтительно сидел у стола, постукивая папиросой по деревянному портсигару, но не закуривая. Лодя никогда не видел его, и тем не менее какое-то мимолетное воспоминание задержало на миг его глаза на спокойном лице, на больших розовых ушах, на слишком светлых ресницах сидящего...
Да, он его не видел как будто, а вместе с тем на кого-то он был похож... Может быть, на иллюстрацию к Жюлю Верну? Не то на майора Олифэнта, не то на капитана Гаттераса... Впрочем, мало ли на свете таких, смутно кого-то напоминающих людей?
Милица Владимировна, видимо, не собиралась надолго задерживать гостя; Лодя хорошо знал такое ее слишком уж любезное выражение. Все ее движения значили одно: я рада вас видеть, но, к сожалению, у меня – считанные минуты!
– Я надеюсь, вы не можете быть недовольны мною, мой друг! – говорила она, поигрывая светлыми перчатками и не пряча их. – Я делала всё, что возможно, и я обязана действовать так; но всё это... весьма мало приятно. Да вот, пожалуйста... мальчик, поздоровайся. Это Эдуард Александрович Лавровский, мой сослуживец! Вот вам последний номер. Как раз в день объявления войны приезжает с Урала сотрудник бедного Андрея Андреевича и привозит два чемодана с каким-то геологическим снаряжением. Я велела сложить их тут, в передней. Правда, он предупредил меня, что там есть что-то взрывчатое, но ведь я же думала, что Андрюша вот-вот приедет... Вчера, после этого ужаса, врываюсь в квартиру, нахожу ребенка на крыше заснувшим... У меня весь день на душе кошки скребут: а вдруг пожар? А там какой-то порох или пистоны, не знаю что... Уложила мальчика (удивляюсь, Всеволод, как ты мог заснуть на крыше, между трубами!), вскрываю верхний чемодан... Вообразите мое положение: ракетные патроны! Знаете, там, в горах, на изысканиях, они дают друг другу какие-то сигналы ракетами. Лезу в другие укладки, – боже ты мой! Карты, планы, чертежи, бог знает что! Всё понятно; но хороша была бы я со всем этим во время бомбежки, при панике!
Гость вежливо улыбнулся.
– Но, Милица Владимировна, это не столь уж опасная вещь... Не тонна же их, этих ракет?
– Я понимаю, – не столь! Но теперь, когда кругом только и разговоров, что о каких-то ракетчиках (вот уж во что не верю), у меня в доме – целый чемодан с ракетами! Поди доказывай, что это геология. Хорошо, что у меня остался телефон представителя их треста. Я сейчас же позвонила, и, слава богу, утром они всё уже забрали. Бедный Андрей может как угодно сердиться, если нам с ним еще суждено свидеться, но иначе я поступить не могла. Лодя! Ты слышал, кстати, как всё это утром выносили?
Нет, Лодя не слышал этого. Но он очень хорошо слышал каждое микино слово. И звук за звуком они точно иглами впивались в его сознание. Что это может значить? Как же это так?
Ну да, было бы прекрасно, если бы то были на самом деле папины изыскательские ракеты. Но ведь это же неправда: на них немецкие надписи! Она только не знает, что одна гильза – только что выстрелянная гильза! – лежит у него в кармане. И даже нельзя подумать, что ее обманули. Она сама хочет обмануть, – только кого? Лодю? Зачем? Зачем рассказывать, будто она распаковала чемодан, когда вернулась? Он был уже распакован вчера! Зачем спрашивать, слышал ли он, как всё это уносили? И потом, – зачем, для чего она так плохо, так страшно, с такой равнодушной улыбкой говорит про папу: «Бедный Андрей!»? Вот пусть только уйдет этот чужой, и он сразу же покажет ей телеграмму...
Этот чужой, наконец, стал прощаться. Было действительно что-то старомодное во всей его фигуре; в том, как, раскланиваясь, прижимая к груди мягкую поношенную шляпу, он почтительно улыбался, как подносил к губам узкую, такую слабенькую на вид, руку Милицы... Кто он такой? Учитель танцев? Неудавшийся музыкант? У Милицы Вересовой всегда были непонятные, не папины знакомые.
– Позвольте мне, уважаемая Милица Владимировна, всё-таки удалиться! Я опаздываю. Бесконечно признателен вам. Маленький Вересов, – до свидания! Будущий геолог? Ах, нет? А почему же? Прекрасная профессия!.. Всего, всего хорошего, Милица Владимировна! От души желаю всяческих удач.
Отлично воспитанный мальчик, глядя гостю прямо в глаза, по всем правилам шаркнул каблуком. В ту же секунду, однако, он весь вспыхнул и глаза его округлились, стали большими и растерянными. Неизвестно, что мог бы он от неожиданности сказать или сделать, если бы не возмущенный возглас Мики:
– Эдуард Александрович! – брезгливо вскрикнула она. – Ну что это? Фи! опять вы с вашей дрянью! Старый собиратель всякой нечисти! Смотрите, даже мальчишка испугался!
Из-под бортика пиджака гостя высунулась острая и усатая белая мордочка с красными, как рубины, глазами. Крыса уставилась на Лодю, точно хотела сказать: «А! Да ведь мы уже знакомы!» – быстренько пожевала губами и снова, видимо чем-то неудовлетворенная, нырнула под серое сукно.
Эдуард Александрович еще раз натянуто улыбнулся.
– Мальчики не должны пугаться белых крыс! – назидательно сказал он. – Не так ли, Вересов-младший?
Но надо признаться, что на этот раз это было именно «не так».
Лодя Вересов явно испугался. Он не вынул отцовской телеграммы из кармана. Может быть, он сделал плохо, но он утаил ее. Он ничего не сказал о ней мачехе. Не мог он сделать этого. Теперь он уже решительно ничего не понимал. «Приезжал бы ты скорей, папа!»
Капитан Вересов – звание это ему присвоили только неделю назад, когда он лежал еще в госпитале, – выехал из Лебяжьего в Ленинград на случайной машине, шедшей до Рамбова – Ораниенбаума. Перед этим он закусил «в каюте» гарнизона, выпил даже сто граммов водки.
День был серенький, но кое-где облака прорывало, и свинцовый залив, сквозивший между сосновых стволов, казался прекрасным, несмотря ни на что.
В шесть вечера обычнейший дачный поезд отошел от Ораниенбаумского вокзала.
Странная вещь: чем дальше поезд отъезжал от фронта, от Лукоморья, в тыл, к Ленинграду, тем ближе и громче доносилась до Вересова артиллерийская стрельба.
Поезд вышел из леса, – и тотчас на зеркале залива Вересов увидел два миноносца. Неспешно, очевидно по секундомеру, они били из своих орудий с залива сюда, на сушу. Снаряды летели через крыши вагонов, а артиллерийский опыт капитана подсказал ему непререкаемую истину: немцы были где-то не дальше, чем в двадцати километрах от этих судов, – значит, в пятнадцати от него самого.
Около семи часов дотащились до Володарской. Поезд простоял тут десять, пятнадцать, двадцать минут... «Скоро ли двинемся?»
За окнами послышался громкий разговор, восклицания. Человек пять красноармейцев с перевязанными руками стояли на пути; на носилках лежал еще один, очевидно, раненный в ногу. «Эй, где ранили?» – спросил проводник. «Где? – хмуро ответил один из красноармейцев. – Вон там, за поселком». Вересов и проводник переглянулись было, но в эту минуту поезд рывком тронул с места.
Теперь Андрей Андреевич не отрываясь смотрел в окно. Да! Дело было серьезным, он сам это видел: впереди и южнее Лигова, к Горелову, по желтым осенним полям там и сям вставали бурочерные фестоны взрывов, доносились глухие удары. «От Красного бьет, ирод!» – пробормотал проводник.
В Лигове остановились так, что Вересову стало ясно: надолго! Он прислушался: сзади, в стороне Володарского уже гремело... Как только проскочили, чорт возьми!
Он взял на всякий случай чемоданчик и вышел на знакомый дебаркадер. Здесь на улице Карла Маркса жила Симочка, его двоюродная сестра, с детьми. Он нередко ездил к ней, пока не женился на Мике. Первый же взгляд вокруг заставил Андрея Андреевича нахмуриться. Чорт возьми, как хорошо он знал всё это!
Перед ним было сегодня не знакомое дачное Лигово: перед ним была одна из бесчисленных «угрожаемых противником» станций, которую вот-вот придется оставить и уходить. Он их видел десятки, и всюду царила та же – ни с чем не спутаешь ее – невнятная тревога, та же суета; мелькали те же озабоченные лица... И этот пушечный гул со всех сторон... И – будь ты проклят – пулемет где-то близко работает! Это в Лигове! В Лигове! Что же делать?
Стоя на деревянной платформе, он огляделся. Гм! не лучше ли отсюда перейти пешком на шоссе? Там же должен ходить трамвай!
Вересов заколебался было. Но в эту самую минуту гулкий удар хлопнул прямо впереди. За паровозом вырос высокий дымовой султан. Донеслись невнятные крики. Отчаянно загудела станционная «овечка».
Не раздумывая больше, капитан Вересов прошел в калитку дебаркадера, вышел на шоссе и, не задерживаясь ни минуты, зашагал через Лигово.
Смеркалось. Небо было за тучами. Оглядываясь, он видел за собой целую толпу спешащих вслед за ним людей. Второй снаряд ахнул сзади, несколько правее. Просвистал и не разорвался третий...
Улица Карла Маркса в Лигове, тогдашнем Урицком, необыкновенно длинна. Вот Симочкин дом. Но дверь на замке, в садике никого не видно. Мимо!
Вот пошли какие-то пустыри, пруды, разломанные заборы... Мимо!
Раненый отпускник Вересов, списанный «на берег», торопливо миновал желтые здания, где у машин копошились сестры и санитары, где лежал на земле аэростат, чуть светлевший в сумерках.
Шоссе. Трамвайные пути. Множество народу двигалось по влажному асфальту пешком: и направо – к городу, и налево – в Лигово и в Стрельно! Трамваи? Да что вы, товарищ командир! Какие тут, к чорту, трамваи? Тут видите, что делается!
Видеть-то он видел, но, должно быть, еще не понимал этого с окончательной ясностью.
Метрах в шестистах по шоссе был контрольно-пропускной пункт: стояли в очереди автомобили. Какая-то полуторатонка забрала его в кузов: «Пожалуйста, товарищ капитан!»
Шофер, младший сержант, был слегка навеселе. Он ехал не задерживаясь, но Андрей Андреевич был готов колотить кулаком по крыше кабины: «Скорей!»
Красный Кабачок. Пробка машин: огромный закопченный танк буксирует куда-то второй, подбитый, с развороченной снарядом башней. Мимо, мимо...
Большой новый дом по правой руке, первый на улице Стачек. Он стоял весь без стекол, точно ослепший. Бомба, что ли? Эх, и это мимо!
У Обводного – вторая руина. В густевшей тьме можно было различить уродливый пролом, причудливую линию осыпавшейся стены. Все стекла на всех углах выбиты. Ох, скорей! Что-то там, дома?
Но люди шли по улицам без всякой особенной спешки, почти как всегда. У моста в квасном ларьке горела синяя лампочка; несколько девушек, пересмеиваясь, пили там воду... Никто никуда не бежал, никто не кричал, никто не плакал. Как всё это могло одновременно быть?