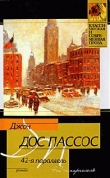Текст книги "60-я параллель(изд.1955)"
Автор книги: Лев Успенский
Соавторы: Георгий Караев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 52 страниц)
Обдумав всё, они договорились уже точно: назавтра, едва видимость станет удовлетворительной, начштаба на своем «фанероплане» может отправиться в задуманный полет.
Глава XXX. НА МАЛОЙ СКОРОСТИ
В смутный, с редкими прояснениями, прохладный денек в самом начале сентября, около одиннадцати часов, летчик Евгений Максимович Слепень поднялся с Лукоморского аэродрома. Настроение его было превосходным: вчера поздно вечером он получил первую телеграмму от жены. Уже с места, откуда-то из-под Молотова, из деревни со странным, но милым названием – «Оверята».
ПРОЧЛИ СТАТЬЮ КРАСНОМ ФЛОТЕ СЧАСТЛИВЫ ТЕБЯ ЛЮБИМ БЕСКОНЕЧНО КЛАВА ДЕТИ.
– А что, милая! – немного смущенно, но с удовольствием пробормотал тогда под нос себе Слепень, ложась спать. – Любить и следует! – Он очень хорошо рассмеялся и еще того лучше заснул.
Статья, подписанная «В. Рудный», была о том, как он выручил Ноя Мамулашвили.
Сегодня, вылетев, Евгений Слепень лег на курс вдоль берега. Несколько минут спустя он был уже возле устья реки Воронки. Немецкие солдаты автоматными залпами тщетно обстреливали его с земли.
Да, здесь фронт упирался в море. Германская армия, форсировавшая за два года Луару и Рону, Маас и Дунай, Шельду и Вислу, подошла, наконец, к берегу этой реки. И такая «могучая» преграда должна была теперь ее остановить?
Летчик Слепень, покачав головой, взял над Воронкой влево. Он резко изменил курс.
Самолет пронесся над самой этой роковой водной артерией. Река была – курице в брод перейти. Южнее, в треугольнике Елизаветино – Готобужи – Слобода-фабричная, немцы уже кое-где форсировали ее или готовы были с часу на час осуществить это. Во всяком случае наши последние эшелоны, устало огрызаясь, отходили на север от болотистого берега. Только севернее, в районе Калища, замечалось встречное движение; да у железной дороги на ветке Слепень успел заметить два бронепоезда, стоявших почти рядом на закамуфлированной позиции. Дальше фронт как бы расплывался: противник здесь еще не рискнул спуститься с возвышенностей Копорского плато в топь вокруг Лубенского озера; наши, повидимому, укреплялись по речке Рудице. Зеленое болото между теми и другими было еще пусто, безмолвно, мертво.
Потом «У-2» пронес своего пилота над полями и перелесками, которые тянулись юго-восточнее, между границей лесов и шоссейной дорогой из Красного Села в Кингисепп. Гостилицы горели. Порожки горели. От Порожков сильно била наша артиллерия. Слепню пришлось совсем прижаться к лесу: с юга подходило соединение «юнкерсов», эскортируемых «мессерами». Но, в общем, никто не помешал его разведке: его если и замечали, то слишком поздно.
На всех дорогах немецкого тыла было бурное движение. Опытный глаз Слепня прочно запечатлел в памяти эту картину.
Ясно обозначались два потока: один направлялся прямо на восток, южнее Красного Села, туда к Пушкину; другой шел к самому Красному Селу. Там он заворачивал влево. Да, Лукоморье окружали.
В Высоцком била артиллерия. Коломенское горело. Точно обтекая район Кронштадтских фортов, противник, видимо, намеревался вбить клин между ними и Ленинградом.
То, что делалось на фронте восточнее Красного Села, имело для Слепня по существу второстепенный интерес. Но он всё же прошел над Дудергофом.
Чуть севернее его, на Пулковских высотах, виднелось скопление людей, стояли машины.
На болотистых пространствах между Кирхгофом и Варшавской железной дорогой трудно было понять что-либо. Во всяком случае Пушкин был еще, видимо, в наших руках. Передовые позиции врага проходили где-то вдоль реки Ижоры, тянулись к Лисину, южнее Тосно.
Вырица, казалось, была захвачена немцами; но, странное дело, бои шли, насколько можно было судить с воздуха, и значительно севернее ее, над рекой Суйдой, и несколько южнее, в лесах за станцией. Похоже было на то, что там засели наши отставшие части, продвигающиеся по немецкому тылу к Павловску. Они двигались на север, на соединение со своими, основные же силы врага явно стремились к Тосно, на перерез Октябрьской дороги, а следовательно, и путей отхода тех, окруженных.
Дальше, опять-таки «насколько можно было судить», фронт уходил большим извивом, широкой подковой к югу, затем снова поднимался к Неве. И здесь Евгений Слепень еще раз покачал головой.
Да, теперь он увидел это своими глазами: станция Мга была оставлена нами. Линия противника уже упиралась в Ладогу. Радостные слухи о том, что немцам нанесли удар с востока, что снова образован коридор вдоль берега озера, были очевидно неверными. Ох, это было очень плохо, совсем плохо! Отрезали-таки! Остаются, значит, только Ладога и воздух над нею!
По ряду соображений летчику Слепню не следовало заходить сегодня на Ленинградский аэродром; так было условлено и с командиром полка.
Он развернулся над Шлиссельбургом и, имея в баках достаточно горючего, лег на такой обратный курс, чтобы, выйдя прямо на Стрельну, следовать дальше над береговой чертой. Здесь был уже свой тыл, было тихо.
Очень далекий от счастливого утреннего настроения, Евгений Слепень вел машину точно и прямо на запад-северо-запад, к себе. Чорт знает, что делалось у него на душе. Блокада, а? Ленинград в блокаде... Ленинград! А как же... как же будет он, Ленинград, теперь помогать Родине? Как Москва сможет оказывать помощь ему самому?
...Почему старый истребитель Слепень не заметил заблаговременно в воздухе противника? Или он потерял ориентировку? Или всё виденное так подействовало на него?
Он опомнился, когда, собственно говоря, было уже поздно.
Ему повезло только в одном: фашист, очевидно, не сразу сообразил, с кем имеет дело: взял чрезмерное упреждение, выпуская первую очередь, и проскочил на добрые два километра вперед, видимо, принял «У-2» за скоростную машину!
Это оказалось спасением. Неси его на себе не тихоход «У-2», а хотя бы обычная «Чайка» – истребитель, – песенка Слепня была бы спета. Прозевал!
Евгений Максимович позднее говорил, что никогда ему не случалось «сыпаться» от врага вниз с такой непомерной поспешностью. Но зато теперь он уже сделал сразу всё нужное для своего спасения, В какую-то долю секунды Слепень сообразил всё.
Вправо под ним было море, влево – берег, покрытый лесом, высокой мачтовой сосной. Километрах в двух от залива в этом лесу была вырезана, точно по циркулю, поляна – метров пятьсот в поперечнике, если не меньше. Поляна с невысоким деревянным строением (старой церковью, что ли) посредине.
Как подстреленный, он спикировал к этой поляне, к самой земле, и сразу же, метрах в десяти-пятнадцати над пашней, никак не выше, вошел в крутой, почти вертикальный вираж
Не летчику трудно без чертежей и схем оценить по достоинству то, что случилось затем.
Вообразите себе полый, невысокий цилиндр, чашу, двадцатиметровые края которой состоят из соснового сплошного леса. Внутри этой чаши, почти стоя на боку, с плоскостями, косвенно направленными к земле, несется, наподобие мотоциклиста в цирке, по ее стенке маленький самолет «У-2». Скорость его сравнительно не велика – каких-нибудь сто двадцать километров! Радиус виража мал. Круги без труда вписываются внутрь этой лесной чаши.
А его страшный враг, скоростной немецкий истребитель, мчится по огромной окружности где-то там, за сосновыми вершинами. Его летчик – в ярости. Он упустил жертву, промазал по этой воздушной черепахе! Где же она теперь? Куда ее унесли черти?
Фашист, конечно, тоже видит поляну в лесу. Сверху она выглядит как лунный кратер; имеется даже центральный пик, в виде какой-то деревянной дурацкой башни... «Эге! Вон он где! Он спрятался в эту странную яму, болван!»
«Ei, du! Dumme Schildkröte! Hol-la!» [28]
[Закрыть]
Немцу кажется, что дело сделано. Но в следующий миг он понимает, что это далеко не так! Черепаха вовсе не глупа; напротив.
Чтобы срезать на лету чудака, дерзнувшего залететь в боевую зону на фанерной дряни, ему, немцу, конечно, достаточно было бы на единое мгновение оказаться в одной плоскости с ним.
Да, но как это сделать?
Скорость «мессершмита» в шесть раз превышает скорость того, нелепого в боевой обстановке, самолетика. Радиус самого крутого виража, который способен заложить истребитель, – много сотен метров. Он не может «вписаться» внутрь такого лесного кольца. Кроме того, русский вертится там над самой землей; это возможно для него, ползущего, как улитка. Скоростной самолет не способен виражить на десятиметровой высоте: это безумный риск; идти на это нельзя.
Фашистский летчик проносится с яростным ревом, пересекая лесную поляну и так и этак. Он делает горку за горкой. Он пикирует по направлению к проклятой норе, выпуская бесприцельные пулеметные очереди. Так, на всякий случай. Еще раз, еще раз... А, чорт!
Его драгоценные минуты уходят; мотор жадно жрет горючее. Предельная длительность полета у него около часа, а русский летчик на своем парусиновом сооружении может болтаться так, по кругу, часами. Свинство! Позор! Хорошо еще, что этого не видит никто из «фуксов». [29]
[Закрыть]
«Мессершмит», очевидно, выведенный из терпения, дал последнюю злобную очередь поперек поляны. Потом, круто взмыв вверх, он стремительно ушел на юг: столько же шансов сбить этого русского, сколько у ястреба изловить берегового стрижа, который успел юркнуть в свою земляную норку.
Несколько минут спустя Евгений Слепень вышел – можно сказать, вылез – из чуть ли не получасового виража. Ручку на себя – он заскользил над вершинами к аэродрому. Лоб его был влажен; из-под шлема капал пот, но всё-таки он широко улыбался.
В любом другом случае он скрипел бы зубами: удирать от противника. Этого с ним в жизни еще не случалось!
Но сейчас он был очень доволен и собой и своей забавной маленькой машиной. Она еще раз подтвердила ему то, что давно засело у него в голове: не всегда скорость является абсолютным преимуществом. Да, да! Очень медленный, очень продуманно сконструированный, тяжело вооруженный и крепко защищенный самолет имеет все права на существование наряду с современными скоростными чудовищами. Они будут действовать в двух разных мирах: практически им редко когда придется встречаться... Да, да!
Под ним уже мелькали сосновые и еловые маковки «пятачка», «Лукоморской республики», а перед его глазами неторопливо плыл по воздуху призрак большой, уверенной в себе машины, с двумя моторами, с могучим вооружением, способной почти не считаться с зенитками земли и опасаться неистового воздушного врага не больше, чем танк, грохочущий где-нибудь по сухопутью. Да, да!
Около четырнадцати часов он сел у себя в Лукоморье.
Глава XXXI. ДЗОТ НА ШОССЕ
Чтобы правильно оценить всё то, что случилось седьмого сентября 1941 года с краснофлотцем Соломиным и старшиной Соколовым на шоссе Калище – Копорье, надо было ясно и четко представить себе всю боевую обстановку на приморском участке Ленинградского фронта.
Сам Ким Соломин, молодой боец бригады морской пехоты, которая в первых числах сентября сосредоточилась в треугольнике Ракопежи – Ручьи – Калище у берега Копорского залива, не знал о ней почти ничего.
Он не видел того, что открылось летчику Слепню с высоты его разведочного полета.
Ему не было известно то, что каждый штабной работник мог легко прочитать на карте: вражеские части, дойдя до болотной речки Воронки, как бы в некотором замешательстве приостановились над ней.
Одни из них двинулись затем к востоку, обходя этот район, как бы скользя левым крылом своим по южному краю болотисто-лесистого пространства; другие же получили задание прорваться через Воронку и двигаться вдоль берега моря. Пройдя шоссейной дорогой на Долгое – Калище – Ручьи – Кандакюля, эти вражеские части должны были овладеть береговыми фортами Серая Лошадь и Красная Горка – стальными ключами Кронштадта.
Ким Соломин мысли не допускал, что где-то там, в Кингисеппе, в немецком штабе, и его самого, и те сотни здоровых крепких советских людей, которые вместе с ним стояли на побережье, всю их морскую бригаду, и соседние части, и даже весь «Береговой район» в целом, немецкие офицеры оценили как «ничтожную величину», которой можно пренебречь; в крайнем случае, они собирались оставить ее в своем тылу или на фланге, с тем, чтобы позднее одним легким нажимом растереть в порошок!
Ни Ким, ни Фотий не представляли себе, как, наподобие реки горячей грязи, хлынувшей из жерла вулкана, клубясь и волнуясь, накатывается на твердыню Ленинградского плацдарма вражеский поток, страшный именно своим поступательным движением. Им не было видно, как на всем его протяжении – там, здесь, в сотне других мест, изнутри образующегося кольца и извне его, – наше командование стремится задержать эту реку, бросая ей навстречу свежие части, отвлекая врага ударами соседних фронтов, настойчиво стараясь остановить ее растекающиеся вширь струи. Если бы удалось запрудить хоть один из рукавов, стало бы, вероятно, возможным соорудить и всю плотину. Но бурая вода фашистского потопа, даже мелея, даже оставляя за собой тысячи тысяч мертвых тел, всё еще рвалась вперед, затопляя последние клочки нашей Прибалтийской суши.
Фотий и Кимка не видели ничего этого. Они видели другое.
Рано утром их разбудили. Где-то за Калищами немец прорвал фронт на реке, левее железной дороги. Тесня наших, он движется сюда вдоль шоссе. Вот и всё. Значит, надо действовать.
В полумраке, почти бегом, они кинулись вперед за командирами.
На границе станции отряд погрузили в машины вместе с пулеметами и боезапасом.
Кругом мелькали во мраке неясные фигуры; царила тревога и таинственная ночная суета ближнего тыла. Всё стало непонятным.
Машина довезла их до того места, где к шоссе, справа и слева, подступали по лесу два топких лесных болота. Шоссе тянулось между ними, как по естественной гати. Здесь их и высадили всех.
Первая рота бегом кинулась по лесу к оконечности правого болота; вторая рассыпалась влево. Ким и Фотий, имея при себе дегтяревский пулемет, заняли, как им приказал командир роты, маленький дзотик над дорогой, сооруженный, очевидно, недели две тому назад на песчаном, усеянном валунами и поросшем лесом бугре.
Дзот был узкой щелью в песчаном грунту. Он был нов и чист, обложен внутри смолистыми пахучими бревнами, снаружи похож на кротовую кучу, совсем не похож на укрепление. И хорошо, что не похож!
Почти тотчас же вправо и влево в лесу началась стрельба. Здесь же, у дзота, пока что ничего не было заметно.
Белесоватое шоссе уходило примерно на километр вперед, потом заворачивало влево. Зеленой стеной стоял лес, всходило солнце.
Ровно в восемь тридцать, по Фотиевым старым часам, из-за поворота вылетели на прямую человек пятнадцать велосипедистов. Дальнозоркий Соколов увидел их раньше Кима. Не зря он долго был «впередсмотрящим». Он закричал: «Огонь!» Ким Соломин впервые в жизни по-настоящему нажал холодную гашетку.
Загрохотал пулемет; между стволами пробежало длинное суставчатое эхо. Ким не поверил: Фотий, осмотрев шоссе в бинокль, сказал, что на нем осталось три велосипеда и как будто человек пять убитых немцев. У Кима похолодела спина.
Как? Это – он? Сам?
Почти тотчас же, однако, и по ним был открыт огонь – оттуда. Первая пуля удивила Кимку; сочно чмокнув, она впилась в сосновый пень пониже смотровой щели; не укажи ему на нее Фотий, ему бы и в голову не пришло, что это стреляли в него. На следующие выстрелы он уже не обращал большого внимания. Стало не до них.
В восемь пятьдесят из тыла прикатил мотоцикл с добавочными патронами. Он остановился за поворотом; ящики носили по подлеску на руках. Комбат велел передать старшине Соколову его приказ и, кроме приказа, товарищескую просьбу: продержаться во что бы то ни стало до шести вечера. В этот миг Кимке (да может быть, и Фотию самому) еще казалось, что «продержаться» вовсе не трудно. Первый успех окрылил их. Озноб Кима прошел. Ким был счастлив.
Примерно до половины одиннадцатого всё шло как по плану; минут десять по ним били пулеметы и винтовки из лесу. Фотий не велел на это отвечать. Потом на дороге что-то мелькало. Фотий командовал: «Огонь!», – и Ким давал туда длинную очередь.
Влево – болото, вправо – болото. Кроме как по дороге, ему, немцу, сунуться было некуда. «Он, брат Кимка, не мы! Он лопнет, а в такую няшу [30]
[Закрыть]не полезет».
Наступала минутная тишина. Затем опять вверху начинали довольно мелодично посвистывать пули, состригая хвойные веточки. Слышался треск стрельбы там, впереди. Никак не укладывалось в сознании, что стреляют-то это в него, в Кима. «Отсидеться до шести» всё еще казалось вполне возможным.
Так повторялось пять или шесть раз. Если верить Фотию, за эти полтора часа на счету Кимки Соломина оказалось уже пятнадцать фашистских душ: сам Ким, честно говоря, не мог разглядеть впереди ничего, кроме серого полотна шоссе, каких-то кучек на нем, да белого столбика с автодорожным знаком, похожим на французское S.
С половины одиннадцатого немцы прекратили огонь и замолкли, точно вовсе ушли. Это очень не понравилось старшине Соколову.
Не понравилось ему и другое: в наступившей тишине вдруг стало слышно, что стрельба по флангам их дзота доносится теперь уже не справа и слева от них, а с обеих сторон несколько сзади. Неужели наши отходят?
Однако это беспокоило Фотия еще не очень. Куда больше встревожила его тишина впереди. Определенно, «они» что-то готовили.
И он оказался прав. В десять пятьдесят пять раздался первый отдаленный хлопок, потом омерзительнейший на свете визг, и мина рванула близко за ними в лесу. Запахло гарью. Зазвенело в ушах. Краска залила щеки Кима.
Ровно полчаса немец бил (Фотий говорил: «плевал») довольно точно по ним, минимум из четырех минометов. Разрывы ложились и в болотце, и в лесу, и на дороге. Эти были противнее всех: на виду, каждый осколок слышен отдельно.
На их холм, впрочем, легла только одна гадина – очевидно, дзот был замаскирован не плохо. Она оцарапала Фотию руку осколком.
– Ну, брат Ким! – пробормотал старый моряк, забинтовывая кисть руки... – Вот теперь я и сам вижу, что нам с тобой придется тут стоять насмерть... Уж ежели они по нам так садят, значит, им это место вот как нужно! Становимся мы с тобой у немцев знатными людьми. Выдержим такой почет, а?
Ким кивнул головой. Он был вполне уверен: выдержит.
Что-то около половины двенадцатого минометный огонь стих. Сейчас же на немецкой стороне появилось снова довольно много людей.
На этот раз дело было труднее. Ким дважды сменял диски, а там суета не прекращалась. Наконец всё еще раз замерло. «Забили!» – проговорил Фотий Дмитрич. Почти тотчас же мины полетели десятками.
Трудно сказать, что произошло бы, если бы Ким и Фотий действительно были одни со своим пулеметом, на виду у врага. Всего вернее, что гитлеровцы либо убили бы их обоих, либо выкурили огнем из дзотика и прорвались бы так или иначе сквозь эту преграду.
Но как раз в тот миг, когда, оглушенные, засыпанные землей, оба они, молодой и старый, готовы были уже проститься друг с другом, точно в этот миг, далеко сзади и справа, грохнул один тяжелый удар, за ним второй, третий, пятый. Они не думали, что этот далекий грохот связан с ними, что он хоть косвенно адресован им. Но несколько секунд спустя, за тем концом просеки, откуда рвались к ним фашистские солдаты, тяжело раскатились два, три, пять могучих, сотрясающих землю разрывов.
– Сотки! – поднял голову Соколов. – Кимка! Слышишь? Морские! Стомиллиметровки! По голосу слышу! Откуда! Неужто миноносец подошел к берегу?
Нет, миноносца в это время не было в Копорском заливе. Но Фотий Соколов определил калибр правильно: это били по минометной батарее противника «сотки» бронепоезда «Волна Балтики».
В середине дня капитану Белобородову позвонили из штаба укрепрайона. «Командир пятой просит «дать огонька» к месту прорыва немцев на Калище. Для уточнения целей надлежит связаться непосредственно со штабом батальона. Это рядом с вами; через «Свинчатку» просите «Лилию первую».
Белобородов попросил. Вынули карты. Пять минут спустя всё стало ясно: противник, силами около полка, с приданной ему веломоторотой рвется на Калище по шоссе. Вот здесь и вот тут ему удалось оттеснить наш заслон метров на двести, до склона холмов. В центре же, на самом шоссе, каким-то чудом держится один узелок с горсточкой бойцов. Дзот на шоссе... Сколько их? Неизвестно! Их глушат минами из квадрата восемьдесят три – тридцать пять.
«Сделай милость, капитан, дай по восемьдесят третьему дюжину флотских! Выручи парней. Всё дело в том, чтобы им продержаться до восемнадцати, сам понимаешь...»
Когда Белобородов связывался со штабом укрепрайона и с батальоном, в его «каюте», в вагонном купе, сидел корреспондент фронтовой газеты «Первый залп» Лев Жерве.
Он впервые видел подготовку к артиллерийскому бою. К его удивлению, она началась с вычислений, со сложных расчетов, выполненных отличным четким почерком техника на страницах белой, аккуратно разлинованной тетради.
Комбатар с необыкновенной скоростью листал страницы справочников, выписывал колонки цифр. Появилась на свет логарифмическая линейка. Лев Николаевич не знал, что воюют логарифмами; он их панически боялся со школьных лет. На карту лег желтоватый целлулоидный транспортир.
Потом математика пришла к концу. Вместе с комбатаром Жерве вышел на площадку. Послышались отрывистые слова: «Угломер сорок – сорок два... Прицел тридцать... Снаряд фугасный». «Есть угломер сорок – сорок два! Есть снаряд фугасный!»
Со стороны это походило на точную работу циркачей.
Закамуфлированный ветвями ствол орудия поднимается и движется вокруг, толстый и длинный, как поставленный наклонно трамвайный столб.
Несколько человек, не обращая никакого внимания друг на друга, вращают у казенной части каждый свое холодное металлическое колесико.
– Четвертое к бою готово!
– По минометной батарее противника!..
– За-алп!
В дыхательное горло входит столб воздуха, точно кто-то воткнул в тебя небольшой лом. С ушами тоже делается что-то неприятное. И – «вж-ж-жж-жж-жу!» – удаляющийся, слитный с многоголосым эхом, гул наверху. «Пошел!»
А бронепоезд стоит на «усу», на маленькой веточке, отведенной в сторону от главного пути. Стоит среди бора, на наспех обжитом лесном пространстве.
Сзади подошла из тыла автодрезина: это привезли обед. Дежурные бегут с бачками. Двое несут на жерди большой медный котел. Поодаль краснофлотец колет дрова. Механик заботливо вытирает броню паровоза... И это война?
– Второе к бою готово!
– Третье к бою готово!
– За-алп!
После стрельбы Жерве вернулся в купе. Тут царила тишина, вагонный уют. Мерцает графин с водой; висит на стенке очень красивый финский ножик. Около графина лежит заложенный ножом журнал. Белобородов, без кителя, сидит на лавке, курит. Где же война?
– Вот, что, младший лейтенант! – проговорил капитан Белобородов командиру батареи как раз в тот миг, когда Лев Жерве входил в его купе. – Положение, голубчик, у нас, сегодня не из завидных. Немец жмет на Калище; это в каких-нибудь трех километрах от нас. Будем надеяться: отобьют! Но проверить бы надо нашу круговую. Отряди туда, голубчик, самых... не столько отчаянных, сколько крепких. Особенно в блиндажи за колодцем. И сторожевое охранение к дороге выдвинь. Чуть что – сразу же... А впрочем, всё, надо быть, обойдется. И у нас к вечеру еще кое-какая работка будет.
Нет, это была война! Только война, она бывает разная, не всегда сразу узнаешь ее в лицо.
В штабе бригады, взглянув на карту, было легко отдать себе отчет в мере внезапно нависшей опасности.
На восемнадцать часов этого самого дня командование района наметило энергичный удар по противнику. При поддержке мощного артиллерийского огня части, отошедшие на реку Воронку, подкрепленные вновь прибывшими моряками, должны были перейти во встречное наступление против врага, готовившегося форсировать речку. Его надеждам надо было положить конец.
И вот противник на несколько часов опередил нас. Теперь по нашу сторону речки висел уже его клин, направленный острием против основания полуострова, заканчивающегося острым мысом, того полуострова, на котором стоят два южнобережные форта. Клин пока еще был мал и слаб; но он мог стать громадным, если бы немцам удалось сломить сопротивление первого эшелона морской бригады, еще утром брошенного на шоссе, с целью немедленно заткнуть прорыв. Продвижение противника грозило отрезать через несколько часов дальнобойную батарею Лагина, расположенную на самом берегу, а возможно, и оба бронепоезда, ушедшие за Калище, к железнодорожному мосту. Случись это, – задуманный нами план должен был немедленно сорваться.
С первыми же вестями о прорыве всё зашевелилось в нашем тылу. И вблизи и вдали всё пришло в движение. По срочным вызовам на помощь первому эшелону спешили части следующих. Торопливо маневрировали железнодорожные составы, подбрасывая артиллерию. В ночной тьме возле всех шоссе, всех железнодорожных веток уже копошились фигуры людей, роющих окопы, рвы, дзоты. Надо было остановить продвижение врага, не давая ему развить успеха первых часов. Но в то же время необходимо было удвоить, утроить, учетверить глубину полосы обороны, чтобы любой временный успех остался частным, временным, чтобы противник выдохся, не успев реализовать выгоды создавшегося положения, чтобы ему никак не удалось смести находившиеся перед ним препятствия и, как говорят военные, «выйти на оперативный простор».
То, что делалось в эти минуты и часы в тылу, должно было оказать помощь фронту. Но для того, чтобы тыл смог помочь, необходимо было время. Немного времени, но зато какого дорогого. И дать тылу это драгоценное время мог только он, фронт, – своей стойкостью. Бойцам передовой было приказано держаться во что бы то ни стало, – и они стали на смерть на старых дорогах Ингрии.
В штабе бригады картина представлялась величественной, хотя и тревожной. Наши части и на побережье и за болотами по сторонам шоссе, цепляясь зубами за каждый опорный пункт, медленно отходили под нажимом превосходящих сил врага. Он мог бы куда быстрее двинуться вперед по самой дороге, но она была заперта огнем удачно расположенного на ней укрепления – дзота на шоссе, нащупать который им никак не удавалось.
Фашистские командиры делали, что могли. Они приказали отсечь завесой минометных очередей место, где держался этот оборонительный пункт, от русского тыла. Они гнали в лобовые атаки на него новые и новые взводы своих солдат. Они били по нему с воздуха. Он срывал им весь план наступления.
В штабе нашей бригады знали: в «дзоте на шоссе» засели какие-то пулеметчики первого батальона. Конечно, сейчас было уже трудно установить, кого именно, сколько человек направили туда утром. Тем не менее, от них зависело многое. Маленький дзот получил значение пробки, которой заткнута бутыль со страшной едкой кислотой. Стенки бутыли были много прочнее горла; но стенки утратят свое значение, если из опрокинутого сосуда врагу удастся выбить пробку или если вражеская кислота переест ее.
В штабе видели, что в ходе боя совершенно неожиданно этот пункт и его крохотный гарнизон вдруг приобрели особое значение. Огромный конус вражеских расчетов вдруг как бы стал на вершину, на одну точку. В этой точке, не подозревая своего значения, сидели Фотий и Ким. На два или три часа вся тяжесть сложного равновесия боя пала на их плечи, как на балансир весов. Выдержат они или нет? Удастся ли выручить их до подхода танков противника? Если бы эти двое могли оценить свое положение, они бы похолодели.
Стало срочной необходимостью немедленно послать подкрепление неизвестным бойцам, державшим на себе натиск превосходящих сил немецкой пехоты. Счастье, что танков тут у него нет. Однако сделать это никак не удавалось; первый пулеметный расчет, повидимому, погиб под минным шквалом у самой цели. Второй расчет, не дойдя полкилометра до места, был вынужден залечь: минометный огонь по дороге был непреодолим.
Волнение в штабе бригады нарастало. С одной стороны, «дзот на шоссе», видимо, всё еще держался; более того, эта его упрямая стойкость замедлила отход наших флангов по сторонам дороги, у двух озерков-близнецов. Эх, если бы они устояли до восемнадцати! Ну, пусть хоть до семнадцати часов, до подхода ядра бригады. Ведь страшно подумать: стоило этому самому дзоту внезапно пасть, фашисты сразу же оказались бы глубоко в тылу у наших флангов.
«Дзот на шоссе» с каждой минутой всё больше попадал в центр внимания и притом по обе стороны фронта.
Комбриг седьмой звонил из Калища-Поселка: «Как там ваш «дзот на шоссе»? Немедленно дайте им подкрепление!»
Комбат-два запрашивал комбата-один, – нельзя ли наладить как-либо связь с этим «дзотом» на опушке леса?
Командующий немецкой ударной частью, в свою очередь, умолял тяжелую батарею у Копорья дать несколько выстрелов по «отлично замаскированной огневой точке, севернее маленького моста, у дороги Фабричная – Калище, в километре за крутым изгибом пути...» Батарея требовала уточнения цели. Но «точку» не удавалось найти.
Значение дзота было известно всем, кроме его гарнизона.
В начале первого часа Ким и Фотий, измученные, но всё еще бодрые, внезапно с восторгом увидели, что к ним с горки из-за поворота направляется помощь – пулеметный расчет с запасом лент. Три бойца – три матроса... Какое счастье!
Это было как раз во время передышки, наступившей после вступления в дело стомиллиметровок бронепоезда. Спугнутые минометы немцев замолчали, видимо спешно меняя позиции. На шоссе не было никого. Еще три минуты и...
В Кимкиной боевой жизни было потом множество тяжелых минут, но эта первая беда надолго запечатлелась в памяти ярче всего остального.
Чорт его ведает, как посчастливилось немцам бросить так точно три первые мины нового шквала. Они легли забором вдоль дороги, как раз возле людей, кативших за собой пулемет. Оглушительный треск, три дымных столба – и кончено... Пулемет сброшен в канаву, ящики с лентами раскиданы в стороны. Всех трех краснофлотцев убило.
И снова молчание со стороны противника. Точно он их увидел, прицелился и вот убил.
Позднее Киму Соломину много раз делалось задним числом страшно: а выдержал ли бы он это зрелище, сиди он в дзотике один или окажись с ним тогда не Фотий Соколов, а кто-либо другой, особенно его сверстник? В жизни своей Кимка Соломин, там, у себя, в городке № 7, удирая, бывало, мальчишкой по лестницам от коменданта Соколова или проскальзывая вместе с Ланэ мимо его бдительного ока, в жизни никогда не подозревал он, каким может оказаться в трудную минуту этот чудак-комендант.
Старшина Соколов приказал краснофлотцу Соломину ни на секунду не отрывать глаз от шоссе, там, впереди. Сам он бегом спустился с холмика в кювет, бегом добежал до страшного места. Кимка видел, как он наклонялся поочередно над всеми людьми, как он извлек пулемет «Максим» из канавы, бегло оглядел его и в открытую, прямо по дороге, докатил до кимкиного холма. Тут он установил его открыто в канаве, за двумя большими розовыми гранитными обломками.