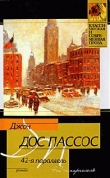Текст книги "60-я параллель(изд.1955)"
Автор книги: Лев Успенский
Соавторы: Георгий Караев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 52 страниц)
Глава XLIV. РОБИНЗОН И ПЯТНИЦА
« 23 сентября 1941 года. Перекюля, под Петербургом. № 67.
О моя Мушилайн!
Пишу тебе в крайнем волнении. Кристи Дона тяжело ранен. Обстоятельства, при которых произошла катастрофа, покажут тебе, какую войну и с каким противником мы тут ведем.
Слушай меня внимательно, моя радость!
Ты помнишь, конечно, нелепую идею, которая владела моим генералом два месяца назад? Получить в свое распоряжение юного русского или русскую и, так сказать, «приручить» это создание; приручить не грубым насилием, а более тонким способом, – вот чего он хотел. Его привлекала мысль купить совесть и душу свободного человека за ту самую ласку господина, которая сделала волка – собакой, верным слугой наших предков. Я подтрунивал слегка над этой «теорией Робинзона и Пятницы»: только истинному сыну старого иезуитского, да к тому же еще немецкого рода могла прийти в голову столь несовременная идея!
Очень долго, однако, он не находил «кролика», над которым мог бы начать свои опыты: не интересно ведь иметь дело со слишком легким материалом для эксперимента! Но вот с неделю назад ему удивительно повезло. Восемнадцатого числа, осматривая вместе со мною еще дымящиеся после боя руины русского Версаля «Тсарское Село», он отобрал у солдат танкового полка захваченную ими пленницу, почти совсем девочку.
Несчастная попала в наши руки едва живой: кто-то из головорезов генерала Реммеле оглушил ее ударом по голове, едва не причинив сотрясения мозга. Глаза ее почти не видели; волосы растрепались. Меня тогда же удивило что-то неуловимо привлекательное в ее некрасивой, но забавной мордочке.
Дона, оглядев дрожащее существо, обрушил громы и молнии на солдат и ефрейтора. (Они, разумеется, были крайне удивлены этим.) Затем он велел забрать жалкую добычу в одну из наших машин. Приказ был, само собою, немедленно выполнен.
И вот мы – снова в нашем Перекюлэ. Рассматриваем документы, взятые на будущем «подопытном кролике»... О удача: перед нами – член русского коммунистического союза молодежи!
– Великолепно, Варт! – радуется мой генерал. – Это именно то, что мне нужно! – И он потирает свои сухие руки.
Ее имя – Марта, фамилия, если верить документу, трудная – нечто вроде «Кристэллауф». Но на обороте маленького фотографического снимка написано карандашом: «Марта Габель» – фамилия как будто немецкая.
Сначала Дона слегка хмурится: немецкая кровь! Это меняет условия опыта! Но сейчас же он утешает себя: «О! Это в каком-нибудь десятом колене! Ты пригляделся к монгольскому разрезу ее глаз, Вилли? Забавная натура для твоих набросков, не так ли?»
Далее происходит следующее.
Сутки спустя генерал требует пленницу к себе. Она сносно говорит по-немецки. В моем присутствии он ставит перед ней вопрос: или она сейчас же отправится с нашим заданием в Ленинград, чтобы вести там нужную нам работу, или же подвергнется самым суровым карам.
Я не могу забыть отчаяния, растерянной и вместе с тем проникнутой фанатической решимостью физиономии этого подростка.
Бледная, как смерть, она так заколотилась вся, так закричала: «Нет! Никогда! Нет!», что Дона с удовольствием посмотрел на меня: ведь это снова было как раз то, что требовалось для него на этот раз: честный человек!
– Ты видишь, Варт?.. Ну, хорошо, фройлайн. Я не стану насиловать вашу волю. Я беру вас в мое личное распоряжение: я желаю, чтобы вы сами убедились в нашей немецкой правде. Мне неизвестно, на что вы способны, но, полагаю, – быть мне небесполезной в качестве резервной переводчицы вы всё же сможете... Как? И это вам не подходит? О, тогда пеняйте на себя, девчонка! Впрочем, так и быть: даю вам время на размышление. Можете взять себе все ваши документы и бумаги. Мне ни к чему эти детские игрушки...
Он приказал поместить ее в одной из комнат того дома, где расположился мой оберст, Эглофф, и его штаб. Штаб зондеркоманды! Ты можешь себе вообразить, что это значит?
Через ее помещение весь день и всю ночь проводили на допрос пленных русских. Ну и уносили их оттуда, конечно... Не удивляюсь, что на следующий день она не отважилась сопротивляться больше.
Далее всё пошло очень спокойно. Однако я попрошу тебя принять в расчет некоторые топографические подробности нашего расквартирования. Без них трудно будет что-либо понять в этой чудовищной истории.
Дом, где расположился штаб и где в верхнем этаже находится комната командира дивизии, стоит в лощине между двух холмов, за небольшим палисадничком. Окна его выходят именно в этот сад, в сторону грязной, узкой, размолотой колесами машин и гусеницами танков дороги, под ветви очень стройных лиственниц.
За дорогой, в двух-трех десятках метров от штаба, точно против него, стоит маленький дом с мезонином. В нижнем этаже квартира из двух комнат отведена тихому маньяку, нашему постоянному переводчику господину Трейфельду. Он недавно заболел гриппом и слег; лишний повод оставить запасную переводчицу при штабе.
При Трейфельде все последние дни дежурила сестра милосердия медицинской службы – почтенная пожилая мекленбуржка. В единственную же комнатенку мезонина с двумя окнами и крошечным балкончиком на столбах было приказано перевести на время испытания «личную переводчицу генерала».
Насколько я понимаю, Дона пожелал создать у этой девушки впечатление полной свободы, в то же время строго ограничив ее право передвижения. Балкончик ее комнаты приходился как раз против окон его кабинета: Кристоф, при желании, мог, не отрываясь от работы, оставаясь за своим письменным столом, видеть, что делает его «кролик» в те минуты и часы, на какие он сочтет нужным предоставить девушку самой себе.
При этом совершенно необходимо упомянуть вот еще о каком мелком, но важном обстоятельстве.
Мы соблюдаем здесь, как ты понимаешь, строгие правила затемнения. Правда, всеми признано, что наша авиация господствует в воздухе. Но дерзкие прорывы одиночных вражеских машин, к сожалению, далеко не редкость. Поэтому с наступлением темноты, удивительно черной и жуткой, явно враждебной нам здешней темноты, мы закупориваемся тут столь же тщательно, как и вы у себя на Рейне. Малейшее отклонение от этого, любая небрежность влечет за собой целый скандал.
Правило это, само собой, распространяется на всех. Но генерал – это генерал: то есть всегда и во всем исключение!
Дона, как ты помнишь, астматик; он с юности не выносит духоты, а прерывать работу и гасить свет на время проветривания не хочет. Поэтому, примерно один раз в час, он минут на десять открывает ярко освещенное окно кабинета и подходит к нему глотнуть чистого воздуха.
Правда, это совершенно безопасно: дом расположен в котловине; светлый луч окна за крышей соседней постройки упирается прямо в склон холма. Вряд ли какой-либо русский пилот разглядит нас в этой тесной щели. Да к тому же малейшая тревога будет, естественно, задолго до наступления прямой опасности передана в штаб: время потушить свет или спустить штору всегда найдется.
Так или иначе, генерал все эти темные вечера периодически появлялся на несколько минут у своего окна, у единственного, может статься, озаренного светом прямоугольника на ближайшие двести, пятьсот или даже тысячу километров!..
Ага! У тебя уже мурашки бегут по спине, жена! Ты рисуешь себе это распахнутое, ярко сияющее немецкое окно внизу и молчаливого русского пилота со свирепым выражением лица, мчащегося на своей машине, там, между темными облаками... Ах! Всё было гораздо проще и потому несравненно страшнее! Мы ожидали чего угодно, только не того, что стряслось.
Ты не должна, конечно, воображать, что в штабе все эти несколько дней только и думали, что о Дона и его нелепой переводчице: дел тут и без того много; самое большее, если в офицерской столовой то один, то другой смельчак осторожно посмеивался над воспитательными бреднями нашего шефа: над генералами не смеются вслух!
Маленькую русскую всё время бледную, всегда с заплаканными глазами, видели то один, то другой, но скоро все перестали обращать на нее внимание; ее унылый вид мог вывести из себя даже ангела. В ней не осталось уже ничего забавного!
В штаб ее, понятно, приводили только по вызову Дона. Раза два она кое-как переводила показания пленных при допросах, с вовсе непонятного нам русского, на довольно трудно понимаемый немецкий. Но нам-то что? Благо командир оставался вполне доволен!
Однажды она, по приказанию генерала, готовила ему кофе на спиртовке, всё с тем же своим несчастным выражением лица. Чаще же всего ее можно было видеть, на маленьком балкончике мезонина. Уронив лохматую голову на руки, она или сидела там, как запертый весной в клетку зверек, или по целым часам неподвижно и жадно смотрела над елями в это свое мутно-серое сентябрьское русское небо. Ей-богу, я несколько раз готов был поспорить, что она обязательно захиреет тут, точно птица в неволе: такое у нее было в эту минуту лицо.
Я даже сказал как-то об этом Кристофу. Он засмеялся в ответ, самонадеянный саксонец.
– Бросьте, Варт! Она уже начинает боготворить меня! Вот увидите!
И вдруг вчера ночью меня разбудил сам Эглофф в ярости и ужасе непередаваемом. Он был страшен. Его красноватые глаза альбиноса еще более налились кровью; кулаки, поросшие волосами, судорожно сжимались. Брызгая слюной, он выкрикивал страшные проклятия:
– Генерал-лейтенант... пусть будут прокляты эти аристократические штучки!.. Генерал-лейтенант тяжело ранен! А эта русская обезьяна исчезла из своего скворешника! В саду, под окнами ее комнаты, найдена гильза от мелкокалиберного патрона... Что я скажу теперь в свое оправдание? Что?
К утру картина выяснилась, хотя далеко не до конца.
В крапиве у ограды не без труда отыскали мелкокалиберную учебную винтовку, очевидно, с силой брошенную туда на бегу. Наткнулись на следы, ведшие к забору. А дальше? Дальше была дорожная грязь... Следы безнадежно терялись в ней.
Надо полагать, что Кристоф в этот вечер, как и всегда, около одиннадцати часов встал из-за стола, подошел к окну и распахнул его. Русская негодяйка, добывшая откуда-то винтовку (все ломают голову над этим – «откуда»!), явно ждала этого мгновения.
Она выстрелила и навылет пробила ему грудь. Никто не слышал выстрела, вероятно, очень слабого. Несомненно, всё было бы тотчас кончено с нашим Дона, если бы в этот самый миг начальник штаба дивизии, полковник Гагенбек, не приоткрыл совершенно случайно двери, ведущей в кабинет генерала.
Остальное ты можешь без труда представить себе: дикая тревога, мгновенный вызов врачей, переполох в зондеркоманде, беготня и глупая стрельба во мраке по всему местечку, получасовая полная растерянность и затем – призраки партизан за каждым темным углом...
Прошло не меньше часа, пока кому-то проникла в голову мысль о русской девушке.
Вероятно, на самый крайний случай, только для очистки совести, поднялись в ее мезонин. И лишь упершись в запертую дверь и гробовое молчание за нею, стали постигать истину.
Дверь, конечно, вышибли. Пустота. Окно на балкон открыто. Там тоже никого. Вокруг непроглядная ночь и непролазная грязь, низкие тучи, шорох дождя, похожего на туман... Что предпринять?
Утром наши шерлоки-холмсы восстановили почти точно всё, что случилось.
Меланхолическая переводчица подстерегла миг, когда Дона приблизился к окну; она выстрелила из глубины своей комнаты через улицу с поразительной меткостью, бросила с балкона в бурьян какое-то странное полуигрушечное ружье, добежала до пролома в тыльной части садового забора и...
В непосредственной близости отсюда, лежит, как я уже сказал, дорога – полоса вязкой черной глины. И до и после выстрела по ней прошло несчетное множество машин. Как узнать, куда направилась наша необыкновенная переводчица?
Сейчас миновали сутки с момента катастрофы. Кристи Дона между жизнью и смертью, мечется на лазаретной койке в Гатчине.
Эрнст Эглофф расстреливает местных жителей одного за другим. А коварная наша переводчица, – где она теперь? Конечно, эта жалкая шестнадцатилетняя мечтательница прячется, ненайденная пока, где-либо тут же, у нас под носом: подумай сама, куда же может исчезнуть девушка в этой промозглой сырости, в холодной черной дождливой ночи? Она же не рысь, не волчица здешних лесов! Ее изловят, если не через день, то через неделю, в этом нет сомнения. Она попадет к Эглоффу... Ну! Не завидую ей!
Но что это за народ, Мушилайн, что за народ, если даже их женщины, даже дети так ненавидят нас, что сохраняют дьявольскую волю к борьбе в самом глубоком своем отчаянии?
Письмо это я шлю тебе с особо надежной оказией. Всё же, прочтя его, сожги немедленно и не вздумай поверять эту тайну даже Эльзе. Всё это достаточно позорно и может сильно повредить Дона.
У нас временно командует дивизией полковник Гагенбек. Вообрази, сколько острот по этому поводу! [45]
[Закрыть]Мне бесконечно жаль нашего неудачливого Робинзона, Дона, но не скрою: куда более остро мне хочется узнать, где же находится сейчас его Пятница – этот русский воробей, в клюве которого столь неожиданно обнаружилось жало кобры?
Целую твои милые встревоженные глазки. О нет, за меня не надо бояться. Я не Дона, да и знала бы ты, как нас начали охранять сейчас! Привет всем.
Твой Вилли.»
– Ну, что же, старшина? – говорит политрук Воронков, складывая и пряча в сумку новенькую еще, похрустывающую карту. – Докладывай, как дело вышло? Где же ты добыл этакий... необыкновенный трофей? Вот уж на самом деле: моряк моряком всюду останется.
Политрук сидит за крепко сколоченным столом в землянке, врытой в склон песчаного, поросшего сосной холма. Землянка чиста, построена только что; обставлена не по-сухопутному. В ней есть маленький «лючок»: сквозь него ее освещает солнце. Она еще вся пропитана запахом свежей смолы, но круглые флотские стенные часы с заводом головкой, как у карманных, часы, циферблат которых разбит на двадцать четыре доли, придают лесному духу этой землянки что-то неуловимо морское.
Да и на политруке – синий чистенький китель с подворотничком, точно это корабль, а не передний край обороны вдали от всякой воды. Отсюда до берега сто девяносто кабельтовых, до Красной Горки двенадцать морских миль, до Красного Села – все тридцать две. Но моряки и тут остаются моряками. Вот и сейчас: легкий звон. Это ударили третью склянку.
Двое таких сухопутных моряков стоят, только что переступив через порог землянки. Старшина Габов высок и худ, голова его почти упирается в бревенчатый накат. Краснофлотец Журавлев, он же Ваня Жоров, невелик ростом, но поразительно широкоплеч и плотен. Странная, лисьего цвета борода окаймляет его совсем молодое лицо и никак не согласуется с лукавой уклончивостью узеньких, хитрющих, совсем молодых глаз.
Это любимец всего батальона, пскович, родившийся и выросший за пределами СССР, в Эстонии. Это «цудак»; от него поминутно можно ожидать какой-либо неожиданности. Необыкновенным причудам и выходкам «скобаря» Журавлева уже с самого лета перестали удивляться краснофлотцы. Но он редкостный следопыт, замечательной меткости и хладнокровия стрелок, разведчик-самородок такой холодной отваги, такого несравненного уменья выкрутиться из беды, которое поражает даже здешних бывалых ребят в черных бушлатах.
Габов ухмыляется, прежде чем ответить. Локтем он слегка оттесняет Журавлева назад.
– Разрешите пояснить, товарищ политрук! – солидно произносит он. – Не мой это трофей. Это он ее нашел, Журавлев! Пусть же он сам и докладывает.
– А, это ты? – политрук не без удовольствия поправляется на своем чурбанчике. – Ну, что же? Докладывай, приучайся...
Глаза бородатого становятся еще хитрее. Он знает себе цену. Он зря слова не обронит, не маленький!
– Так... А цаво ж докладывать-то, товарищ нацальник? – стараясь по-возможности не «цокать», начинает он. – Ну... Были мы, как это говорится, в разведоцке... Ну, шли домой... Конечное дело: старшина, он – целовек городской. Как шел по стеге, так и пошел прямиком на чистину... Потому – видит: болото. Какие же в болоте немцы? Немец – он мха не любе...
Вот я – зирк-зирк глазами по той болотине... На, поди! Что, гляжу, за штука? Быдто шел кто ночью по кустам? Да ведь как шел? Что медведь – прямиком через топь...
Я это: «Старшина! А ну, – я маленько возьму чащобинкой... Любопытно!»
Ну думать долго нечего: человек шел! Только нескладно шел: где пень – через пень, где коцка – через коцку... Так в лесу ходить – это вредно.
Вот я за им... Просадился скрозь болотину – так горушка такая. Ялушечки; мошок обсел. Сухость! Поднялся я на нее. И вот кажется, будто кто смотрит на меня откуда-то... Сами знаете, как в лесу: видать никого не видишь, а глаз чувствуешь.
Вот я «пепеде» свой на руку: конечное дело – лес! Смотрю: ляжить под вересинкой кто-то. Ляжить и на меня строго так смотре!
И вижу – рукой за автомат берется... Смотрю, да себе-то не верю: мать родная! Никак – барышня!
Ну, тут я, конечно дело, голос ей подал, гукнул! «Ты што ж это, дурная голова? Ты тут что – пецку себе нашла, в болотине полеживать? Отколь ты такая тут?» А она живо брык, и – в обморок! Да-а! Смотрю: никак – наша! Ах ты, головушка моя бедная!
Ну, чего же делать-то? Беру яну в охапку. Автомат вижу у ей русский: за плячо! Гуляю с ей по кустам.
На великое на мое счастье, сразу – дорожинка! И старшина на дорожинке сидит, покуривае; меня ожидае... Ну, вышел! Вот и всей мой доклад, товарищ политрук!
– Гм! Так, так... А дальше-то что? Так вы ее и через фронт на руках несли?
– Ну, зачем на руках! Через фронт она своим ходом бегла. Как ей старшина маленько из фляжечки дал, так она сразу отживилась! И смеется и плаче...
– Журавлев, Журавлев! Нечестно! Ты уж всё рассказывай! Ведь она же его, товарищ старший политрук, поцеловала, такую бородищу. Честное слово! И он – ничего, доволен был! А теперь глядите: стесняется.
– Ну, а коли ж и так? – Журавлев, зажмурясь, вдруг разгладил бороду. – Поди, бяда велика? Да это и тебе, старшина, доведись самому в такой омут попасть, не только што меня – медведя, и того поцелуешь! Да, ну, товарищ политрук! Чего говорить-то? Видать – притомилась девцонка... А добрая, считаю, девка. Марфой звать! Вон, глянь на карту: какое место лесу за два дни на своих двоих прошла! Где твое Красное Село!? Не близкое расстояние.
– Это ты прав, Журавлев. Но... понимаете вы, в чем дело, ребята? Так ли это всё? Правда ли то, что она говорит? Нашли вы эту девушку в лесу, в тылу у противника. В непосредственной близости к фронту. И... откуда у нее, например, русский автомат?
– Она так это дело объясняет, товарищ старший политрук: будто вчера днем на мертвого набрела, в овражке, в шалашике... Будто сняла с него автомат... Ну, для ради смелости. С красноармейца мертвого, в лесу... Дело возможное!
– Вполне возможное! Но почему тогда комсомольский билет у ней сохранился? Я с ней слегка побеседовал... Наговорила она такого... Если ей верить, так она двадцать первого числа ночью где-то около Красного Села генерала немецкого своей рукой убила... Что же, и это – тоже возможно?
– Скажи на милость, товарищ старшина! А? Генерала? Она? Вот – змея, не девка! А чего ж невозможного? В нашем деле всё може быть!
– Ну, знаешь, Журавлев! Одно дело – ты, другое – она. Ведь по билету-то ей шестнадцать лет едва-едва числится. Словом, я про девушку эту ничего худого сказать не хочу, но придется ее тебе, Журавлев, отвести к старшему лейтенанту в Горки. Вот, например, она просится в часть; воевать хочет. Но... пусть там разберут, что к чему. И пока поведешь ее, Журавлев, – смотри не раскисай! Гляди за ней в оба! Сам знаешь – время теперь какое...
– Ну вот, товарищ политрук. Да цела буде тая дявцонка! Довяду!
Он и в самом деле довел ее до штаба.
И вот Марфа Хрусталева сидит уже на чисто застланной койке в одной из комнат небольшого дома в деревне Ломоносово. Она одна. Старший лейтенант Савич из разведотряда долго беседовал с ней. Он сказал ей под конец мягко, но строго:
– Хорошо, Хрусталева, пока – довольно. Я думаю, что вы говорите нам правду. Думаю! Мы сообразим, как с вами поступить дальше. Идите, отдохните; почитайте, постарайтесь заснуть. Если вспомните что-нибудь еще – известите; вас проведут ко мне.
Сумерки. Дом окружен деревьями. За окном – усыпанный осенней листвой травянистый скат к речке. Туча висит низко: не сегодня-завтра может пойти первый снег. И всё это, наконец, – свое, всё это уже – не «их»... Как хорошо было бы, если б...
Сквозь стекло она видит мир; родной, бесконечно милый, знакомый. Наш. Тот, который казался уже навсегда потерянным. Вот, кажется, протяни руку и возьми. И вдруг: «Я думаю, вы говорите правду...» Это значит: «Но может быть, вы и лжете. Вашу правду надо доказать!»
Ах! Что и как она может доказать теперь? Подполковник – где он? Тихон Васильевич убит. Нет ни Спартака, ни товарища Голубева. Они затерялись в буйном водовороте войны. Как объяснить политруку всё, что с ней случилось, когда она сама многого не может понять? «Мама! Мамочка! Как?»
День смеркается медленно-медленно...
За стенкой жарит на плите салаку и тихо напевает веселая крепкая девушка в краснофлотской форме. Это машинистка разведотряда. Она с любопытством, но и с некоторым подозрением всё поглядывает на Марфу. С интересом, но без доверия.
Говорит как со всеми, кормит, поит какао, а ведь – не верит... Почему? Почему, девушка!?
Перед домом, тряся мягкой бородой, покрякивая, колет дрова Журавлев, ее спаситель. Вот этот верит ей безусловно! Но чем его вера может помочь ей? Нет! Надо еще что-то вспомнить; что-то такое, что убедило бы их всех...
В сотый, в тысячный раз, преодолевая страх и тошноту, она возвращается к тому, что было. Тотчас же тяжелый затхлый мрак, точно из склепа, из гнилого подвала, охватывает ее. Страшный крик опять звенит у нее в ушах, оттуда, из застенков Эглоффа; один из криков, выражающих такую муку, что не знаешь, что страшнее: слышать его или самому испытывать эту боль.
Страшнее всего было, когда он, Эглофф, после этого, после допросов, заставлял ее подавать ему воду и мыл над тазом громадные свои руки...
Вот старший лейтенант спрашивает ее: «Как же случилось, дорогая девушка, что вам отдали всё, что нашли у вас в карманах?» Комсомольский билет, блокнотики с телефонами мальчишек и подруг, с зимними еще шпаргалками по тригонометрии. Даже погнутый французский ключ от квартиры? «Объясните мне это».
А что она скажет ему в ответ? Взяли и отдали, сам Дона-Шлодиен. Даже спросил у нее: «S'ist nichts gestohlen?» [46]
[Закрыть]
Она не знает, почему он с ней так поступил, именно после того, как с невыразимым ужасом, в последнем отчаянии, она крикнула ему свое «Nein!» в ответ на его мерзкое предложение стать изменницей. «Nein!»
Всё, что они делали, непонятно ей.
Почему они все, кроме генерала и еще того молчаливого немца, который всё рисовал, насмешливо поглядывали на нее?..
Зачем этот второй дважды, пока генерал говорил с ней, раскрывал альбом в холщовой корке и набрасывал что-то там мягким черным карандашом?
Для чего им понадобился второй переводчик, если был уже у них краснолицый высокий старик в поношенном сюртуке? Почему они не взяли ее под караул, под замок? Почему ее поселили – одну, как перст! – в той комнате мезонина, откуда была видна дорога, и угол улиц, и дом штаба за рядом молодых пихт, и открытое освещенное окно в его кабинете? Окно и, на фоне далеких белых обоев, четкий, очень четкий профиль: резкий силуэт прямого, лысеющего человека в немецкой генеральской форме... Дона-Шлодиен...
Надо вспомнить, обязательно надо вспомнить всё, как это случилось. С того самого дня, как ее привезли из Павловска...
Глаза у нее заплыли от слез, в голове всё путалось. Голова так страшно болела... там, где ударил приклад.
Ее привели в дом против штаба. Толстая женщина в белом головном уборе с красным крестом, вроде какой-то французской или английской монахини, очень сладкая, приторно любезная, захлопотала, провела ее по лесенке наверх, в мезонин. Тут стояла узенькая чистая коечка, шаткий столик. Горел свет. Она упала на койку и плакала, плакала, пока не заснула в слезах... Ей ничего не снилось.
Утром ее разбудили, потому что та монахиня принесла ей кофе и яйца всмятку. И порошок от головной боли. Сев на стул рядом с койкой, она начала гладить ее по голове... Марфа не отвечала. Ни слова!
Монахиня ушла. Она лежала одна, смотрела в потолок, думала, думала, думала... Нет, ничего другого ей не оставалось... Лучше умереть, чем быть у них!
В комнате стоял комод. В соседней, за коридорчиком, был виден шкаф. Она заметила дверцу на чердак. Ей пришло в голову поискать какого-нибудь яду, хоть уксусной эссенции, хоть нашатыря... Дом-то недавно был нашим?!
Шаг за шагом, она обследовала все ящики, все щели. Никакого яда не было. Но на буфете ей попалась под руки коробка, типичный запас мальчишки. В ней лежало несколько рыболовных крючков, стертый пятачок, семь старых желудей, чей-то зуб и десять тупоносых патронов знакомого ей вида и калибра. Это были патроны от старой «франкоттки», учебного ружьеца, с довольно сильным боем. Она сразу узнала патроны... У Пети Лебедева в Сестрорецке было в тридцать девятом году точь-в-точь такое ружьецо. Она тогда без промаха разбивала из него лимонадные бутылки на дюнах за пляжем. За сто шагов.
Что-то в ней вздрогнуло, как только она увидела патроны. А кто знает? Может быть, и сама винтовка спрятана где-нибудь здесь? Трудно было надеяться на такое чудо, но...
Чудо случилось. Она нашла ее на чердаке, за грудой старых досок. Озираясь, прислушиваясь, она вытащила ее из тайника, осмотрела очень внимательно. Старинное маленькое ружье бельгийского завода. На лакированном прикладе – оксидированная дощечка: «Боре Нироду от тети Нэты, 27 января 1900 г.» Да, игрушка! Но бой-то у нее, пожалуй, неплохой!
Она аккуратно засунула ружьецо обратно под доски. Да, да! Это – не яд. Это – гораздо легче... Только – когда? Неужели же ты не решишься? Неужели ты не посмеешь, трусиха? Ведь один миг – и уже... никаких немцев, никакого страха, никакого позора!
Всю следующую ночь ей снились страшные руки Эглоффа, огромные красные руки, на которые она лила воду, как в первые сутки по приезде сюда...
Утром ее вызвали к генералу наверх в штаб. Герр Трейфельд, переводчик, чувствовал себя нездоровым: у него был грипп. Надо поработать, фройлайн!
Дона-Шлодиен сам допрашивал русского, совсем еще молодого человека. По коротенькой изорванной курточке на «молнии» и по замшевым штанам она сразу поняла: летчик.
Летчик стоял у стола. Генерал, сидя, с неестественной отвратительной вежливостью разговаривал уже с ним. Переводил этот вечно кашляющий старик Трейфельд.
Она вошла в кабинет в своей красноармейской, еще Голубевым заботливо перешитой по ее фигуре, шинели. Дона-Шлодиен сказал ей: «Setzen Sie sich, Fraulein Martha!» [47]
[Закрыть]– и она покорно, как автомат, пошла к стулу. А летчик вдруг повернулся к ней.
Наверное, недавно он был еще очень здоров и круглолиц, этот человек; теперь об этом можно было только догадываться.
Его изможденное худое лицо за один миг выразило такую страшную смену недоумения, недоверия, подозрения, уверенности, гнева и, наконец, невыразимой словом гадливости, что у нее, у Марфы, сразу подкосились ноги... Кровь отхлынула от ее щек. Он показался ей выше потолка, выше крыши, – маленький человек в замше, стоявший у стола.
Она не успела коснуться стула, как он уже заговорил. И не по-русски – на совсем правильном, свободном немецком языке.
– Уберите прочь эту дрянь, вы, фашистский генерал! – кривясь, как от высшей брезгливости, почти прокричал он. – Вы, кажется, полагаете, что меня, русского человека, меня, большевика, можно тоже запугать или купить, как вы купили – за жизнь, за избавление от казни – какую-нибудь подлую тварь, вроде этой? – Он махнул рукой в сторону Марфы... В ее сторону! – Ошибаетесь, господин унтер-палач! Я к вам на службу не пойду... Я... Вот что я сделаю с вами!
Он сжал кулаки и внезапно: «Смотри, паскуда!» – рванулся мимо стола к Дона... В ту же секунду громадный Эглофф прыгнул из-за шкафа, отшвырнул его назад к стене. Он упал.
– Выведите фройлайн! – бешено закричал Дона. Ее, крепко взяв за локоть, сердито вытащил в коридор адъютант.
И вот она ушла. Нет, она не кинулась к летчику, не обняла его, не закричала, не стала вырываться из рук немца, ничего... Она не смогла! Она боялась. Боже, как она боялась его, красноглазого... Эх, Марфа, Марфа!
Как можно рассказать всё, что произошло дальше? Между допросом летчика и последней ночью прошло два дня. Двое суток. Придя из штаба домой, она села к столу, положила голову на руки, долго смотрела в окно. И вдруг поняла. Нет: убить себя было просто, слишком просто... Как могла она забыть Тихона Васильевича, подполковника, Валю Васина, всех? Как могла она не вспомнить сразу того, что ей еше там, в «Светлом», сказал подполковник: «Если вам когда-нибудь встретится на дороге такой человек, Хрусталева, возьмите что под руки попадется и... Чтоб не поганил света своими фашистскими делами...»
Странная бледная улыбка осветила вдруг ее лицо, первая за все эти дни, с Павловска... Вот удивительно! Ей ведь попалось теперь кое-что под руки, ей Марфе, ворошиловскому стрелку...
За предыдущие две ночи она заметила одно важное обстоятельство: напротив ее окон был штаб и как раз кабинет генерала. Каждый вечер Дона-Шлодиен время от времени зачем-то открывает затемненное окно в этом своем кабинете. Он подолгу стоит около него. Расстояние между ее комнатой и этим окошком не такое уже большое – узкая деревенская улица. Винтовка может взять и куда большую дистанцию...
На ее счастье, весь вечер никто не тревожил ее. Она еще в сумерках достала старенькую «франкоттку», зарядила, спрятала в своей койке под матрасом. Вечером она поужинала внизу вместе с больным Трейфельдом, переводчиком. Он передавал ей соль и говорил по-русски: «Будьте любезны!» – но не смотрел на нее. Потом она поднялась наверх, сказала «Ауфвидерзайн!» монахине и заперлась у себя. И... Она это сделала? Она, Марфа? Или нет?
Когда окно напротив осветилось в первый раз, она извлекла винтовку из-под сенника. Вдруг у нее пропал всякий страх, движения стали точными и не своими; так, наверное, движутся лунатики. «Ста шагов нет... Ста шагов тут нет!..» – стучало у нее в голове.
Сев на кровать в темной комнате, она долго, как никогда, устанавливала по столу локти. Потом стала целиться по тускло поблескивающему, занавешенному изнутри, стеклу на той стороне.
И вот, ее время пришло. Рама за дорогой еще раз распахнулась. Человек подошел справа и затемнил своим корпусом половину окна. Выстрел щелкнул не громче, чем хлопок в ладоши. Крика до нее не донеслось, но широкий луч света сейчас же брызнул в темноту, и в полной тишине ей почудилось негромкое падение тела на пол... Черный силуэт вдруг съехал к подоконнику.