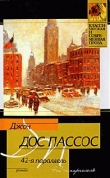Текст книги "60-я параллель(изд.1955)"
Автор книги: Лев Успенский
Соавторы: Георгий Караев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 52 страниц)
Но разве не сном была неестественная пустота и тишина в этих улицах, которые он так хорошо помнил людными, шумными, оживленными?
Разве не сон – высокая руина на углу? В оконницах – ни одного стекла, а угловая башня приплюснута, точно от удара титаническим кулаком. И почему он должен бежать за этой женщиной в желтой шубке? Ему нужно, необходимо бежать за ней; а зачем?
Хотя... хотя вот что... У нее в кармане – пачка хлебных карточек; разлинованные кусочки бумаги... На них – непонятные цифры, странные значки, вроде оживших нотных знаков... И потом надписи: «хлеб», «масло», «яд», «ракеты».
Надо догнать ее, отнять эти карточки, разорвать их и тогда...
О, тогда сразу разрушится злое наваждение блокады... Вот на мосту, около театра стоит засыпанный снегом трамвай. Как он сейчас же оттает, как наполнится людьми, задребезжит звонком и тронется с места и – пойдет, пойдет! Он пойдет, и всё оживет вместе с ним.
Около газетного голубого ларька сразу вырастет, как когда-то, очередь за «центральной Правдой». Засветится огнями театральный подъезд. Возле него начнут, как всегда, как раньше, разворачиваться, подъезжая и отъезжая, черные, кофейные, голубые машины... Ребята побегут пить фруктовую воду, покупать леденцы... Пойдет, под барабанную дробь, отряд пионеров... и он с ними! Чистильщик сапог застучит щеткой по ящику. Брызнут в стороны велосипеды, мотоциклы, грузовики. Всё станет светлым, легким, понятным, таким, как было всегда... Только надо – скорей, скорей... и, конечно, это – сон! Только во сне бывает так: бежишь быстро, а не догоняешь; торопишься до боли в груди – и отстаешь!
Что это? Мост лейтенанта Шмидта? Откуда он здесь? И почему от него веет сухим каленым жаром, как от печки?.. Набережная. Стоит большой корабль. Прорубь похожа на лунный кратер... Какие-то люди ложатся на животы и с мучением, помогая друг другу, достают из этого кратера холодную черную воду... Зачем она им, грязная сырая вода? Сон, сон!.. Как? Уже Кировский мост? Как же так быстро? И как холодно стало вдруг!
Голубые купола мечети покрыты инеем. Так холодно, а вместе с тем – так жарко! Валенки скользят с горы, как коньки... Тетя Дуня, бедная, будет волноваться; она же не знает, бедная, что ему надо, непременно надо дойти до городка, снять с крючка планерчик, который висит в его комнате, и...
Странное темное пятно расплылось перед глазами мальчика где-то около площади Льва Толстого на Петроградской стороне. Получилось так, как если бы он зажмурился и некоторое время шел с закрытыми глазами, а потом снова открыл их.
Оказывается, за это время он уже перешел реку Карповку и стоял в полумраке посреди Кировского проспекта. Вот домик, где ограда со змейками; вот, вдали, забор сада Дзержинского. Кругом сгущались быстрые январские сумерки. Никакой Мики не было ни впереди, ни сзади, нигде... Домой? К тете Дусе? Нет, туда ему теперь уже ни за что не дойти!
Лицо его горело, глаза застилал горячий туман, в голове стучало: бух! бух! бух!..
... Маленький человечек в шубейке, в ушанке и валенках, стоявший посреди пустой, бесконечно длинной улицы, повернулся и, шатаясь, побрел дальше, к Каменному острову.
Потом, уже в полном мраке, он, не видя, скатился куда-то вниз, наткнулся на что-то твердое, холодное, поскользнулся, упал.
«И хорошо! – вдруг подумалось ему. – И уж всё равно, если... Если ничего нет!»
Он хотел было лечь поудобнее на бок, свернуться калачиком... Но сильные, грубоватые руки помешали ему сделать так.
– Э, брат, нет, брат! – сказал над ним голос, чужой и вместе с тем где-то слышанный давно-давно. – Полундра, брат! Где пришвартоваться вздумал?.. Так не выйдет! Постой, постой...
Темная тень заслонила ему глаза. Стало тихо, безразлично покойно.
Глава L. ВАСИЛИЙ КОКУШКИН
Каждый вечер, закончив дела, комендант и политорганизатор жилмассива Василий Спиридонович Кокушкин возвращался к себе, в маленькую комнатку одноэтажного деревянного домика при «Морской пионерской базе».
Комната эта была по-флотски чистой, даже сейчас удивительно теплой и по-своему уютной.
Дядя Вася топил печку, спускал с потолка на особых блоках по-флотски устроенную спартанскую коечку, размышляя, раздевался и мылся, но, улегшись, долго не засыпал. Заснуть было трудно: слишком большая нагрузка легла с первых дней войны на плечи старого моряка. Почетная нагрузка, давно желанная, но всё-таки чересчур большая. Годы; главное дело – годы не те! Выдержишь ли ты такой аврал, Спиридоныч?
Он лежал, смотрел перед собой в темноту и думал... О чем думал? Ох, и далеко и широко расходятся порой мысли шестидесятилетнего, прожившего долгую жизнь, человека. Особенно – в наши дни! Потому что, если приглядеться, необыкновенно складываются теперь у нас судьбы людские!
Вот, родился где-то там, в глубине России, в Костромской губернии, обыкновенный мальчишка, Кокушкин Васька... Давненько это было, в 1880 году. Была нищая деревня, широкий и пустынный выгон перед кокушкинским окном; сквозь радужное, почти непрозрачное от старости, стекло видно было на горизонте сразу восемь церквей, скудные поля, лесок поправее... За деревней текла Волга; из Петербурга, из Москвы художники приезжали писать картины, – такая там была знаменитая красота. Но Васька тогда этой красоты не понимал: он пас на той Волге гусей кулака, которому и фамилия была Гусев; на красоту гуси не давали засматриваться.
Вот так... Рос, вырос; из одиннадцати братьев и сестер выжили только трое: две девчурки и он. Наверное, уж самые жилистые были. К девятисотому году его выхлестнуло выше всех сверстников: плечи развернулись – я те дам!.. Волгу под Крутым Яром он на спор переплывал туда-обратно трижды; так мало кто мог.
Учитель в школе любил его, но качал головой: «Ох, Кокушкин ты, Кокушкин! Кабы при твоем большом лбе да у тебя сердце поменьше было, пожалуй, добился б ты доли... А так – куда еще тебя занесет?»
Батька, поп, отец Петр даже смотреть не любил в его сторону: четыре года проучился у него Кокушёнок, и можно гарантию дать – с год простоял на коленях около печки «за дерзновение, за суеговорение, за думание, за неподобающий спрос!»
– «Я думаю, я думаю!» – рычал на него батька. – Думают, Спиридоненок, только индейские петухи... – Но у отца Петра на его подворье даже индюки не думали: не до того было!
А чего индюкам думать: сегодня покормили, завтра покормили, и послезавтра – под нож! Одного такого петуха, самого красивого, самого злого, Васька как-то наловчился и пристрелил сквозь поповскую крапиву из рогатки; очень уж он походил на самого отца Петра... Даже сейчас комендант Кокушкин удовлетворенно крякал, вспоминая, как шумел на крыльце поп, как истошно вопила поповская стряпка, как заливались поповские псы... Виновника не нашли, и отец Петр долго сердился на коршуна, который, видно, хотел утащить курана, но «не задолел» и только разбил ему с досады голову.
А потом, – оттого ли, что Василий Кокушкин вырос крепче и суровее своих односельчан, по другим ли причинам, председательствовавший в уездном воинском присутствии полковник сделал на его мужицком паспорте пометку «Ф». Пометка означала: годен на флот.
Удивительное это дело, как оно тогда выходило! По-настоящему рассудить, тогдашним правителям таких, как Василий, – «с дерзновением, с суеговорением, с думанием», – надо было бы за сто верст держать от флота, от моря, – а не получалось у них это! Из Костромской, из Рязанской, из Псковской губерний, из Питера, с Подмосковья все полковники, точно сговорившись вырыть себе же яму, посылали в Кронштадт, в Севастополь как на подбор таких, как он, – самых крепких, самых решительных, самых мускулистых парней. И они, собираясь в экипажах, приносили туда с собой каждый свое, но все – одинаковое: этот – ненавистного попа, тот – проклятого урядника, еще один – кулака-погубителя, разорившего всю семью, барина, который отсудил вековечные деревенские нивы, купца первой гильдии, сгноившего полволости на водоливной работе... У каждого было это свое; но они это свое слагали все вместе в долгие часы задушевных матросских бесед как в один общий трюм. И из них вырастало уже не «свое», а народное; такая страшная жизнь за спиной, такая лютая злоба к ней, что даже скулы начинало ломить, то ли от жалости к людям, то ли от ненависти к их мучителям.
Удивительное дело: как же не видели этого царские министры, генералы, адмиралы, разные господа?.. Всё они видели, да податься им было некуда: не погонишь на корабли, в буйные штормы, в соседство огромных машин, на тяжкую моряцкую работу ни белоручек барских сынков, ни таких деревенских простаков, каких забривали тогда в пехоту!..
Долго плавал на судах Российского императорского флота матрос разных статей Василий Спиридонов Кокушкин. Хорошо плавал, видел многое.
Еще нынешний его дружок Фотий Соколов пешком под стол ходил, а он уже гулял под пальмами Коломбо, любовался на животастых беломраморных идолов в Пенанге и Сайгоне, качал головой при виде стройных, точно под орех раскрашенных, рикш-сингалезов, дышащих на бегу, как запаленная лошадь; на негров, словно отлитых из шоколада и недоверчиво поглядывающих в сторону белого; на китаянок, таких же золотисто-смуглых и загадочноглазых, как теперь вот эта девушка Ланэ.
Командиры кораблей взирали на матроса Кокушкина со смешанным чувством. По всем данным – по могучей мускулатуре, по суровости молодого строгого лица, а еще больше по отличному несению корабельной службы – давно можно было бы его сделать боцманом. Но, заглядывая в зрачки могучего этого человека, присматриваясь к его резко очерченным бровям, прислушиваясь к ответам на офицерские вопросы, точным, коротким, – не придерешься! – но уж слишком каким-то спокойно презрительным, они каждый раз говорили себе: «Нет! Не тот материал! Кто только разберет, что у него за душой?»
Теперь Василий Кокушкин иной раз даже радовался тому, что так оно получилось. Мало ли было на кораблях отличных ребят, которых, по слабости их душевной, по темноте, сбивала с пути, портила, вербовала в барские холуи и всячески развращала офицерская лукавая ласка...
Был один момент: большая опасность прямо по носу! Понадобился образцовый, рослый боцманмат на царскую яхту «Штандарт»: боцманмат с красивым голосом; и чтоб голос этот был баритоном. Смешно сказать: из всего флота все приметы сошлись на матросе Кокушкине. Были братки – завидовали ему: вот так подфартило! Но в эти именно дни и пришел к нему на разговор один товарищ... Первый настоящий «товарищ», которого ему послала на дороге судьба среди «братков» да «земляков» с одного бока, среди «господ» с другой.
Долгий был у них тот разговор, там, за Кронштадтом, на болотистой луговине, в месте, которое на Котлине-острове называется «Шанцами». И хотя в последний момент, видимо, без того заподозрили что-то царские ищейки, и баритону Василия Кокушкина так и так не пришлось бы разноситься над лощеной палубой царской яхты, – этот разговор во многом переменил его жизнь.
Может быть, верно: флотские соглядатаи усумнились в матросской душе. А может статься, подействовало другое: в конце августа того года Василий Кокушкин разговаривал с товарищем Железновым (конечно, это была не настоящая его фамилия), а в октябре он уже смотрел на сердитую волну неприютного Северного моря с борта линейного корабля «Бородино»; в составе второй Тихоокеанской эскадры адмирала Рожественского корабль шел к далеким берегам Японии...
Наступил черный день Цусимы. Проданный и преданный своими высшими командирами русский флот, смешав горячую кровь матросов с солеными водами Тихого океана, ушел на морское дно. Великая отвага сынов народа не помогла в последнем бою. Видно, только морской бог Нептун пронес мимо Василия черное бремя вражеского плена: прорываясь во Владивосток, крейсер «Аврора» подобрал шлюпку, в которой вторые сутки болтались по волнам Кошевой, Ершов, Эйконнен и Кокушкин, – четверо случайно спасшихся матросов, не желавших сдаваться победителям.
Так на Дальнем Востоке и отблистали для Василия видимые издали зарницы девятьсот пятого года. Не пришлось ему тогда подойти поближе к великому народному делу: счастье стать революционером выпадало в те дни не каждому, не так уж часто и просто. В Петербург матрос Кокушкин попал только в лихое безвременье, в восьмом году, когда вышел срок его флотской службы.
Тут негромко и не очень радостно сложилась его жизнь. Он кое-как устроился шкипером на маленький прогулочный пароходик купца Щитова; возил по праздникам и в будние дни небогатую, но всё же «чистую» публику с Васильевского острова то на Охту, то на Крестовский – отдыхать. Работа была не слишком трудная, но какая-то нудящая душу: каждый день – одно! Те же свинцовые волны под деревянными и железными мостами, то же поминутное: «Малый ход!», «Ход вперед!», которое передавал в машину рупор... Однако если человек сохранил на плечах голову, если он ходит, ездит, плавает по огромной царской столице, если у него есть острые глаза и ясный ум, то многое он и тут увидит, многое начнет по-настоящему понимать.
Грянула война с Германией. Шкипера Кокушкина купец Щитов не «допустил до фронта»: закрепил его «на своем учете» – водить буксиры из Петрограда в Шлиссельбург и обратно. Но тут-то и ударила в царские дворцы, в государственные думы и советы, в банковские сейфы толстосумов благодатная молния девятьсот семнадцатого года.
Осветила она и сердце бывалого матроса Василия Кокушкина.
Двадцать пятого октября того грозового года, в осенних туманных сумерках, Кокушкин пришвартовал свой буксир возле Тучкова моста и пошел по линиям Васильевского к Невской набережной, посмотреть, что такое творится во взволнованном, настороженном городе. Чем дальше он шел мимо Трубочного завода, мимо остановившихся трамваев, мимо растерянных «керенских» милиционеров и сопливых юнкерских патрулей, тем сильнее и сильнее колотилось у него сердце в груди. И вот, наконец, за Андреевским рынком, у старого Николаевского моста, в дожде, в тумане, над неосвещенной Невой выросла перед ним знакомая трехтрубная громада... Она! «Аврора!»
Бывает так в жизни: до этого мгновения Василий Кокушкин всё еще взвешивал что-то, всё еще не знал, как ему себя самого понять. А тут сразу всё сообразилось! Решать-то, как видно, было нечего! Против дома банка «Лионский кредит», на углу восьмой линии, он отшвартовал у гранитной стенки первый попавшийся ялик, сел на весла и пять минут спустя поднялся по мокрому трапу на стальной борт нового мира. И – ничего, не оттолкнули отсталого матроса, беспартийного гражданина старые флотские товарищи. «Ладно, Кок! – сказали они ему, назвав его прежним флотским прозвищем. – Поздновато пришел! Но и то хорошо. Бывай с нами!»
Четыре с половиной года после этого кидала его во все стороны настоящая жизнь – морская, мужская, яростная. Такая, для которой и был, видимо, создан Василий Спиридонович Кокушкин.
Северная Двина и Новороссийск! Бесконечные подсолнечники Дона и поросшие лиственницей Камские уральские увалы... Всё он видел, всё отстаивал, всё брал «своею собственной рукой»! Теперь даже вспомнить – в голове не помещается... Была ли когда-то, например, такая крутая, в синеватом снегу, гора, освещенная низким солнцем? По ней, проваливаясь по грудь в сугробах, пятная кровью белый снег, бежали и падали под пулеметным огнем матросы. Да, была такая гора! А впереди матросов, – тельняшка на виду, «лимонка» в левой руке, наган в правой, – шел, не опуская головы, комиссар – большевик Василий Кокушкин.
Была и глубокая известковая яма в каменоломнях возле Одессы.
Французский крейсер дымил на синей пелене рейда. Оба были ранены: и Фотий Соколов и он; оба решили не сдаваться врагу. Отстреливались из этой ямы двое суток. Ничего, отстрелялись, взяли свое!
Два тяжелых ранения, контузия... Три недели полной голодовки в подземельях под Керчью... Всяко бывало; долго всё припоминать! И ведь думалось же еще тогда, что только в этом и есть революция: теплушки, атаки, ярость и счастье, сжимающие горло, да шершавая теплая рукоятка нагана в руке...
Нет, Василий Кокушкин, оказалось, не только в этом революция.
Демобилизовали его в одна тысяча девятьсот двадцать втором году. Прибыл в свою старую коморку, на Сергиевскую тридцать четыре. Ну, что же, инвалид по всем статьям, старый холостяк. Сорок два года. Жизнь заново начинать трудненько...
Старшие товарищи, надо сказать, обошлись с флотским человеком почтительно. Направили на ответственную должность – в Северо-западное речное пароходство. Но не вышло дело!
Видимо, что человек – то характер; а кокушкинский характер от ран и контузии стал, ох, каким нелегким! Никто не мог сработаться с ним; вернее, сам он туго срабатывался с береговыми людьми.
Иные ребята до удивления быстро сумели найти свое место в новом, преображенном социалистической революцией мире. Вон взять хотя бы Павла Лепечева: такой же, как и он, матрос, хоть и вдвое моложе. А видали его, – выдержал адов труд, тяжкую учебу: Академию кончил, до комбрига дорос... Василия Кокушкина на это не хватило: махнул рукой и начал снова водить речные трамваи по Неве... К пятидесяти трем годам, как инвалид труда, он ушел в отставку, на пенсию. Поселился на Каменном острове, поближе к воде, найдя там себе каютку. Встал на учет, как должно, по партийной линии, и зажил старым одинцом, вышедшим из стаи кашалотом.
Но здесь, на покое, у него вдруг обнаружились золотые руки. Талант, говорят! Зашел как-то раз в Военно-морской музей под Адмиралтейским шпилем, провел там целый день, разговорился с экскурсоводами, навел строгую критику на их «экспонаты» и взял для пробы «подряд» – отремонтировать модель того корабля Камской флотилии, на котором сам ходил в бой: «Вани Коммуниста». А с этого и пошло.
Скоро он купил кое-какой инструмент, превратил свою комнатушку в мастерскую, пропитал весь дом запахом столярного клея, казеина и лака и сделался сразу первым человеком в глазах всех мальчишек района. И когда Василий Спиридонович, переселившись в пустую комнату при будущей городковской «базе», осел тут надолго в качестве пионерского коменданта, вплоть до самой войны, это никого на Каменном не удивило: такой уж человек – как раз для этой должности!
Годы опять потянулись за годами. Ребята-пионеры его любили беззаветно. Хуже получалось с соседями, особенно – с соседками.
Женщины из себя выходили, до того строг к чистоте и порядку, до того придирчив был этот старый усач; сладу с ним никакого не было. Но все они твердо знали одно: трудно найти на свете более прямого, резкого, честного и справедливого человека.
И когда случалось где-нибудь семейное несогласие, разгорался спор или возникал вопрос, как ввести в рамки отбившегося от рук парнишку-школьника, люди попроще всегда обращались за советом и помощью к дяде Васе. Шли к нему за неотложной денежной помощью – перехватить две-три красненьких перед получкой... Уважение к нему у всех было большое. Не удивительно, что именно его районный комитет партии осенью сорок первого года, в очень трудное для города и для всей страны время, назначил политорганизатором по жилмассиву на Каменном острове.
Должность эта в те дни была далеко не легкой: на такое лицо ложилось много обязанностей. А в ноябре, когда немецкий снаряд лишил Люду Фофанову матери, а Лодю – опекунши, на плечи Василия Кокушкина свалилась еще одна немалая тяжесть. Он стал комендантом жилмассива.
Василий Спиридонович к этому времени был высоким широкоплечим бобылем шестидесяти одного года от роду и ста восьмидесяти сантиметров роста. Горбиться или сутулиться он себе не позволял. Диву можно было даваться, какую необычную силу и крепость сохранил он до этого возраста в себе, какую донес до трудных времен молодую и несогнутую душу.
Все свои «нагрузки» он принял без единого возражения.
Ему, как и всем бессемейным людям, было сложнее, чем другим, переносить суровые тяготы блокады; немало таких мужчин-одиночек погибло даже в первые, далеко не самые жестокие, месяцы ее. Комендант Кокушкин не только не погиб, – он спас немало и других людей. Не умея сдаваться сам, он не позволял делать это и окружающим.
Трудно было понять, как такой неразговорчивый старик раньше кого-либо другого узнавал про всё, что творится в доме. Стоило кому-нибудь заболеть или ослабеть, и он был уже там, где это произошло. Случалось, слабые падали духом; Василий Кокушкин неизменно являлся на помощь; чем мог кормил, убеждал своим бесспорным словом, своим примером.
Еще ранней осенью Василий Спиридонович Кокушкин превратился в собирателя кореньев и в охотника.
Каждый свободный вечер он выходил за город с мелкокалиберной винтовкой в руках. Он начал с подмерзших кочнов капусты и огромных картофелин, оставшихся в земле трестовских огородов за Новой Деревней. Потом перешел к перелетным уткам, крякавшим по кустам за аэродромом. Закончил он одичавшими кроликами: неведомо откуда, десятками и сотнями, они явились на пригородное поле, чтобы соперничать с Кокушкиным в его «стихийных плодозаготовках».
К тому времени, когда и кролики, наконец, исчезли, у Василия Спиридоновича Кокушкина в цельнобетонном маленьком бассейне станции, где раньше испытывались модели скуттеров и линкоров, стояло несколько кадочек и еще бочонок крепко, по-морскому вкусу, просоленной дичи; лежала горка картофеля; кисло, но вкусно пахло квашеной капустой. Он плотно закрыл всю свою тару, наложил сверху должный гнет и оставил это в виде неприкосновенного запаса. У него на этот счет были свои особые соображения. «Я как-нибудь и на казенный паек проживу, – бормотал он себе под нос, – а вот с ребятишками как быть? ..»
К концу ноября начались суровые морозы. У коменданта городка дела стало по горло. Но этот железный человек, должно быть, не нуждался ни во сне, ни в отдыхе. Первую домашнюю печурку, совершенно особой и на редкость удачной конструкции, он изготовил по слезной просьбе старухи Котовой, когда она еще была жива. Изготовил, разумеется, совершенно безвозмездно.
Вторую такую же ему заказал какой-то инженер из соседнего дома, встретив его случайно у моста с первой моделью в руках. А дальше в зиму Василий Спиридонович легко мог бы стать могучим кустарем-одиночкой, если бы захотел: от заказчиков не было отбою, потому что тепло было всем так же дорого, как хлеб.
Но не таков был старый матрос-большевик Василий Кокушкин. Он не привык думать о своем благополучии. Главврач госпиталя, разместившегося за Строгановым мостом, счел полезным взять себе в помощники этого золотого человека. И золотой человек – в свободное время! – творил чудеса с отеплением больших палат.
Казалось бы, – хватит! Нет, удивительная жажда деятельности, бившая ключом в жилистом старике, привела его в те же самые дни и еще к одному неожиданному мероприятию.
Теперь уже невозможно выяснить, когда и по каким причинам произошла где-то там, гораздо выше островов на Неве, авария буксира «Голубчик второй».
Василий Кокушкин допускал, что, верней всего, пароходик этот был захвачен где-либо наплаву обстрелом. Возможно, он в тот миг вел куда-либо баржу или шаланду. Очевидно, снаряд упал очень близко; борта «Голубчика» были пробиты осколками, труба продырявлена, один медный кнехт разворочен страшным ударом. Повреждена была то ли от сотрясения, то ли еще от чего-нибудь немудрая паровая машина. То есть, что значит повреждена?
В нормальное время и на настоящей верфи всю беду исправили бы десять рабочих за сутки-двое. Но теперь! Теперь буксир вышел из строя надолго...
Как понимал Василий Кокушкин, произошло вот что: поврежденный буксир был оставлен командой неизвестно при каких обстоятельствах: вероятно, ночью и, должно быть, где-то неподалеку от Каменного острова. Течение, естественно, подхватило и понесло вниз по Неве пустую скорлупу с остановившейся машиной.
Как его тащило, – видели только невские берега; как река умудрилась спустить его в пролеты мостов, пронести по всем изгибам фарватера, этого, вероятно, никто и никогда сказать не сможет. Но факт был налицо: незадолго до ледостава грязноватый буксирный пароход с черной трубой, обведенной красным кольцом, с новенькой пеньковой подушкой на корме, подошел сам, без команды, ночью к маленькой гавани городковской «базы».
«Голубчик второй» уткнулся тут носом между двух свай и застыл так, явно отказываясь продолжать свое первое самостоятельное путешествие.
Увидав утром нежданную прибыль в своем хозяйстве, Василий Спиридонович разнервничался: это же был буксир! Не грузовик, не трамвайный вагон: корабль!
Он быстро обследовал место происшествия, потом вынес из склада базы основательный канат и пришвартовал «летучего голландца» накрепко. Затем, как дисциплинированный моряк, стал ожидать запросов или распоряжений сверху. Но их не последовало.
Чтобы понять, как такое стало возможным, надо хорошенько представить себе тогдашнее время в Ленинграде.
Стоял октябрь сорок первого года, самые его последние дни. Суда гражданского флота на Балтике, уходя от плена и затопления из Кронштадта, из Таллина, из других, менее значительных портов, вошли в Неву. На ее рукавах воцарилось настоящее столпотворение... А ведь гитлеровская армия стояла под самым городом. Ее орудия били по нашим кварталам, по затонам, по стоянкам мирных кораблей. Вражеские самолеты бомбили Неву и порт так же жестоко, как и улицы города. Многие флотские учреждения эвакуировались, другие перебрались на Ладогу. Многие канцелярии были надолго законсервированы в разбитых взрывами холодных, опустелых, залитых водой, сожженных огнем домах... Судьба случайно унесенного течением речного буксира не могла внушить кому-либо особой тревоги. То ли сокрушалось и безвозвратно исчезало в те дни почти каждый час!
Василий Кокушкин был старым моряком и знал все флотские правила. Он сам сел за свой комендантский телефон и, крутя диск жестким табачным пальцем, начал отыскивать по городу хозяев приблудного судна. Напрасно: одни телефоны уже вовсе не работали, по другим никто не отвечал. Где-то, в каком-то отделе Управления не то речного порта, не то речной милиции случаем заинтересовались, даже записали сообщение и обещали прислать на базу своего сотрудника.
Но ни один человек не пришел. Тогда недели через полторы после своей находки дядя Вася не без некоторого волнения признал «Голубчика второго» бесхозным, а следовательно, до поры до времени своим собственным кораблем.
Тотчас же он принялся за работу. Оставить буксир так, без опеки, под снегом и во льду означало бесповоротно погубить его.
Постепенно, без всякой особой торопливости, но и без проволочек, главным образом по ночам, старый матрос, а нынче комендант и политорганизатор, задраил досчатыми щитами палубные люки суденышка, накрыл соломенным колпаком трубу, выпустил воду из котла, затянул носовую часть брезентом.
Лед сковал Неву. Тогда понадобилось позаботиться, чтобы буксиру не проломило борта. Вооружившись пешней, старый матрос обвел «свой корабль» длинной прорубью-майной и каждый день, как только обнаруживалось у него хоть несколько минут свободных, приходил поддерживать ее. А дел у него по его домовому хозяйству день ото дня становилось, как это ни странно, всё больше и сложность их возрастала.
Городок пустел. Никакие работы в нем были уже невозможны. О паровом отоплении дома было нечего и думать. А тепло людям нужно не меньше пищи...
Водопровод отказывал по всему городу. Света больше никто не «включал». Свет раз и надолго «вырубила» блокада. Жить людям становилось всё трудней. Они шли и шли к политорганизатору со своими нуждами и бедами. И всё же в эти страшные дни Василий Кокушкин начал ремонтировать машину корабля, первой единицы своего флота. Он был коммунистом. Этим многое сказано!
Прикинув и рассчитав всё, он твердо уверился, что к весенней навигации успеет закончить дело. Тогда, как только проклятая блокада будет снята с Ленинграда, он принесет Родине, партии, родному городу такой, может быть, несколько неожиданный, но несомненно ценный дар – отремонтированное, готовое к плаванию судно.
Шестнадцатого января, в морозный очень красивый день, Василий Кокушкин, перед сумерками появился, как и всегда, на своем буксире. Небо на юго-западе, за Крестовским, пламенело с равнодушной пышностью. Что за дело небу до земного города и до людских страданий?
Серебряная Нева, вся в мелких застругах и торосиках льда, домишки Новой Деревни на том берегу, огромные пустые корпуса двух недостроенных судов, пестро расписанные узорами камуфляжа, – всё это было залито розовым сиянием, всё тонуло в свирепой морозной дымке.
Черный на белом фоне стоял «Голубчик второй». Снег с его палубы был счищен; от воды, проступающей в майне, валил парок.
Кокушкин с нежностью посмотрел на усыновленного: «Стоишь, сынок? – поощрительно пробормотал он. – Постой, потерпи! Благо попал в руки: достоишься до времени... Дела нам с тобой дадут достаточно! Пригодимся ужо!»
Он нырнул под палубу судна, и через некоторое время горький синий дым потянул через выведенную в деревянной крышке люка трубу: на «Голубчике» уже стояла знаменитая печурка его системы. Был там и подвешенный к бимсу фонарь «летучая мышь». Ясно – комендант, не кто-нибудь! Неужели же стакана керосинцу для такого случая не добудет?
Часа два всё было тихо. Порою сквозь борта буксира слышались удары, то звонкие, то тупые. Порою можно было даже различить гудение паяльной лампы, а возможно, и ее хозяина: дядя Вася сам распевал иной раз ничуть не менее музыкально, чем она.
Стало темновато, когда Василий Спиридонович, наработавшись, вышел на свет, задраил люк и не торопясь пошел к себе в городок. Пошел он не улицами, а Невой и речкой Крестовкой, как любил: всё-таки поближе к водичке!
Он обогнул Каменный с юго-запада, прошел под мостом и уже хотел подниматься с реки в сад городка, но внезапно остановился...
На льду перед мостом двигался кто-то черненький, небольшой.
Старый матрос вгляделся. Собачонка? Откуда? Э! Да никак ребенок?
Да, закутанный ребенок, как слепой щенок, тыкался в сваи.
Что за шут! Вот он поскользнулся, упал... «Эге, вставай, вставай!» – крикнул старый матрос.
Но нет, упавший не встал. Он вдруг свернулся комком на заснеженном льду, подтянул к животу колени, как будто собираясь крепко заснуть в теплой домашней постели, и замер неподвижно.
Тогда дядя Вася пробурчал себе под нос нечто очень грозное в чей-то далекий и ненавистный адрес. Сделав несколько шагов вниз, он подошел к свае.
Тепло одетый мальчик лежал на снегу. Открытые глаза его, глядя на дядю Васю, странно блестели, потому что за Аптекарским островом вставала луна.