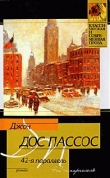Текст книги "60-я параллель(изд.1955)"
Автор книги: Лев Успенский
Соавторы: Георгий Караев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 52 страниц)
Глава XLVI. «МАЛОЛЕТСТВО ДО МЕЙШАГОЛА»
Всю ту ночь он пролежал без сна на своей койке, смотря на накаленный волосок, неярко светящийся сквозь синее стекло лампочки.
Вот оно и случилось! То самое страшное, что всю жизнь пугало его издалека, подошло вплотную и наклонилось над ним: бесформенное, темное, неотвратимое.
Бессмысленно тешить себя глупыми надеждами. Не ребенок же он! Что он себя не знает? На войне может остаться живым настоящий герой, который ведет себя, как герой, и подлинный трус, искренно играющий роль труса. Но если трус полезет выдавать себя за героя, – он погиб. А что он: не знает, что он действительно трус, что героя из него никогда не выйдет?
Он лежал, то закрывая, то открывая глаза. И вся его жизнь неодолимо потянулась перед ним: шаг за шагом, год за годом. И та, которую он прожил уже так счастливо и так быстро прожил: с коллекциями жуков, со сладким запахом энтомологического эфира, с милыми книгами, с маминой теплой рукой, со Светловским лагерем, с биологическим кружком и любимыми маковыми пирожками; и та бесконечно более длинная – с университетом, с будущими экспедициями в далекие края, с работой на морских станциях, с блеском микроскопов и микротомов его собственной лаборатории, – та, о которой он столько мечтал и которой он теперь уже никогда (ни-ког-да!) не проживет! Которую у него отняли. Кто отнял? Кто?
Приподнявшись на койке, он вгляделся в полумрак. Он знал, кто! Он помнил это мерзкое фашистское имя, это гнусное лицо на портретах, этот полукретинический взгляд... Ну, ладно же, миленький! .. Ладно!
Увы! Такого врага «словом убить» было невозможно... Он был не его только врагом. Он был врагом всего мира...
Странное существо человек! Пролистывая страницы своего прошлого, перебирая вдруг всплывающие перед ним пустяки, такие неожиданно-дорогие мелочи, Лева внезапно остановился на самой как раз незначительной из них, самой даже «глупой».
У него там, еще дома, была давняя привычка: по вечерам приходить в комнату к отцу и читать полулежа на большом отцовском диване.
Милая сутулая папина спина склонялась над чертежами. По стене и по потолку ходила его трудолюбивая родная тень. Потрескивал арифмометр, тоже, оказывается теперь, такой родной, такой ненаглядный... А лампа, светя из-под зелени фаянсового колпака, вырывала как раз против Левы посреди книжной полки, из ряда тускло золотящихся корешков Брокгауза и Ефрона, из года в год, изо дня в день всегда один и тот же том. Тридцать шестой том. «Малолетство до Мейшагола» – было написано на нем.
С десяти лет таинственные слова эти вросли в Левину память, сплетаясь и срастаясь со всем, что его окружало:
«Малолетство до Мейшагола»! Книги и прогулки, сладкий сон по ночам, нетрудные радостные дни школьных лет, всё... «Малолетство до Мейшагола».
Множество, несчитанное число раз он читал эти слова, не понимая их. Тысячи раз в нем возникало ленивое праздное желание встать, взять с полки книгу, развернуть и узнать, наконец: что же, наконец, за штука такая эта «Мейшагола?» Птица это или звезда; область в португальской Африке или литовский князь?
Но куда было торопиться? Времени у него было достаточно: вся жизнь впереди! Да и зачем? Не всё ли это равно? «О, – так думал он каждый день и по тысяче поводов, – о, это после, потом! Это всегда успеется».
А теперь? «Малолетство» его – оно уже прошло, уже кончилось. И вот нет у него уже времени ни на что другое! Ничто уже не «успеется»! Что же будет впереди? Что-то безмерно неясное, что-то неопределенное и бесформенное, как «Мейшагола» эта самая... А что такое она?
Потянулись страдные дни.
Отец, пораженный неожиданностью, не знал, как объяснить себе такой резкий перелом в жизни и душе сына. Он и гордился и тревожился теперь за него.
Брат Яша, уже потерявший руку на реке Великой и медленно поправлявшийся в госпитале, не знал, как загладить свою недавнюю несправедливую резкость.
Знакомые начали почтительно раскланиваться с Левой: кто-то уже пустил слух, будто этот юноша добился некоего, крайне ответственного и крайне опасного поручения. Он куда-то улетает. Куда? Вера Аркадьевна плакала и торжествовала: «Ах, вы никогда не понимали его! Это же – такой мальчик!»
Наконец наступило семнадцатое число, смутный полуосенний, полузимний денек с туманчиком; очень уже прохладный. Прощание с мамой, последняя ласка отца, заострившийся нос Яши над госпитальной подушкой – всё это осталось позади, позади. В каком-то мелькании; да, еще там, в «малолетстве»...
На том самом аэродроме, где еще так недавно, провожая отца, сидел на чемоданах Лодя Вересов, стоял теперь маленький, лопоухий, как сельская лошадка, самолетик, знаменитый вездеход «ПО-2», небесная улитка, фанероплан.
Лева, с парашютной сумкой за спиной, пребывал в состоянии неизъяснимом. Он уже точно знал, что ему предстоит. «ПО-2» должен был перенести его через линию фронта, добраться, километрах в ста пятидесяти от Ленинграда, до расположения «архиповского» партизанского отряда и даже найти это место (где именно оно находится, Лева в своем волнении не поинтересовался: не всё ли это равно?!). Однако сесть там самолет не мог: площадочку, которая еще не размокла и в состоянии была принять машину, захватили немцы.
– Пустяки! – сказал ему летчик. – Выброшу вас малость посевернее деревушки. Вот тут... – он держал палец на карте. – С воздуха всё быстро соображается. Деревня полевее (я ее вам крылом укажу), а правее – рыженькое такое болотце у леса. Торфяничек! Вот вы на него и сыпьтесь. В деревню – ни-ни – не суйтесь: там немцы, судя по сводке, уже с неделю! Но я так зайду, чтобы вам ветерок подсоблял... Понятно? Хорошо запомнили? Ну, смотрите!
– Командир отряда, – внушали ему еще в штабе, – Архипов, Иван Игнатьевич; человек требовательный... Комиссаром у него – Родных, Алексей... Ну, это... душа! Как приземлитесь, отправляйтесь сразу к нему. Вас встретят и объяснят, как кого найти. Мы им радировали, и квитанция от него есть. Они вас вот как ждут: у них вся медицина – какая-то девчушка... Запомнили? Ну, всё!
Ах, всё! Всё запомнил он, Лева! Ему было даже смешно: так искренно завидовали его «удаче» все вокруг. Как же! Этакая жизнь! Командир – герой. За голову Архипова фашисты назначили даже цену: пятьдесят тысяч марок! Комиссар, говорят, еще того необыкновенней.
– Да там все головы оценены. Вы, товарищ военфельдшер, не беспокойтесь! Не успеете явиться, – и вам цену назначат! Тысяч десять, небось, дадут.
– Ну, выдумывай, сразу – десять! И пять неплохо, пока себя не проявит...
Да, да! Это была жизнь – как раз по нему, по Леве... С детских лет он мечтал именно о такой!
Черная злоба всё ясней и ясней шевелилась у него в груди. Против кого? Против фашизма. Против него, того припадочного, кто так перековеркал мир, а вместе с миром и его, Левино, предначертанное, заранее обдуманное, мирное счастье.
Против этого их «фюрера», чорт его задави!
И всё же, когда самолет, треща, как мотоцикл, взлетел, когда прижатый к сиденью ремнями военфельдшер Браиловский понял, что всё кончено, что он уже переступил черту и возврата больше нет, острая боль резнула его прямо по сердцу. Глупо? Смешно? Но в эту минуту он вспомнил не близких ему людей, не дом, не прелесть тихих вечеров на Неве на знаменитом «Бигле», – нет! Перед его глазами вдруг с неодолимой силой возник темно-зеленый книжный переплет. Тридцать шестой том энциклопедии Брокгауза и Ефрона. «Малолетство до Мейшагола!»
«Не хочу! Пустите меня! Остановитесь!» – чуть было не закричал он. Слезы струей брызнули из-под очков.
Но «ПО-2» уже лег на правый борт и вел крылом по желтому осеннему лесу у Мельничного Ручья. Полосы тумана ходили внизу. Пахнуло мокрым. Плоскости машины мгновенно отсырели и так же моментально обсохли...
И тогда что-то явственно, почти физически ощутимо задрожало глубоко внутри Левы. Точно пары перегретой жидкости, что-то затрепетало в нем невыносимо, смертельно... И – оборвалось.
Критическая точка была перейдена. Левино «малолетство» на самом деле кончилось. Что же наступит вслед за ним? Что? Вот этого-то он и не знал еще!
Спустя час и несколько минут после отлета, по кивку летчика, Лева покорно вылез на крыло машины. Ему теперь всё это было совершенно безразлично: днем раньше, днем позже с шестисот метров или с тысячи, с парашютом или без него – какая разница? Странная, самого его удивлявшая бесшабашность, полное равнодушие к своей судьбе охватило его...
Да! Он видел внизу игрушечную деревеньку среди игрушечных лесов, на берегу игрушечного озера.
Да, правее тянулось рыже-бурое пятно – именно то болото! Видна была полоса дороги и какая-то повозка на ней. Фашисты?
Летчик дружески кивнул ему: «Да, мол, это они, враги! А ну, милый!»
Лева разжал руки и упал. Сейчас же его тряхнуло. Наверху упруго хлопнуло: выгнутый, ребристый, как дыня-канталупа, зонтик закрыл от него зенит. Мотор «ПО-2» застрекотал вдруг страшно далеко. А снизу начала, вырастая, наплывать прямо на него как раз та самая деревня, куда ему никак нельзя было садиться, ибо там были немцы.
Несколько минут он яростно боролся с судьбой. Отчаянно боролся, как только было можно, выбирая правые стропы. Но его мгновенно развернуло на сто восемьдесят градусов и всё правое стало сразу левым. Парашют «подскользнул» в прямо противоположном нужному направлении.
Он торопливо отстегнул пряжки лямок. «Пистолет? Что же делать? Придется сразу же избавиться от парашюта и бегом вот туда, в болото... Сколько там? Метров восемьсот? Где только меня посадит?»
В голове его вдруг установилась суховатая ясность. Он видел всё, понимал всё. Во-первых, фашистов он пока что еще не заметил. И это уже хорошо. Во-вторых, несло его прямо на деревенские огороды. Огород – вещь понятная! В-третьих, – он вдруг сообразил: да ведь это под ним та самая деревня Корпово, которая лежала в двух километрах от озера Светлого, от их лагеря, та, родом из которой Федосия Григорьевна Гамалей...
Ну да! Он узнал ее по большой разбитой молнией сосне. Он же тут десятки раз бывал каждое лето! Вот изба, где пили сколько раз молоко. Вон в том гумне они сортировали один раз улов с озера; нашлось множество интереснейших личинок. И тут теперь – фашисты?! Что за галиматья!
Трудно сказать, почему, но это открытие вдруг и сразу уравновесило его: Корпово! Подумайте только! Как он раньше не сообразил? Э, да что мог он сообразить тогда... Трус! А теперь ему уже нельзя было быть трусом! Нельзя. Вредно и страшно им быть!
Самолет не ушел от него сразу же обратно. Нет, он описывал большой круг наверху: видимо, летчик опасался за судьбу пассажира и, подвергая себя большой опасности, наблюдал за ним. А что такое судьба! Подумаешь! Выход всегда есть. В крайнем случае, налицо пистолет и две гранаты! «Эй, Зернов! Отчаливайте! Я сам!»
Дерево внизу с желтыми листьями – береза. На лужку – топко: видна бревенчатая гать... уже близко! Огороды – мимо! Гумно?.. Мимо! Береза ветками по ногам... Раз! – коленом о сухую землю улицы! Два – плашмя, носом в пахучую придорожную ромашку. Три... Бревна, бревна!
Вот, значит, так-то люди совершают подвиги...
Тотчас же чьи-то сильные руки вцепились ему в плечи, барахтаясь, оба они, Лева и тот, кто его схватил, покатились по траве в канаву. Потом сразу вскочили, и этот человек, ловко ударив Леву по руке, одним махом выбил из нее пистолет.
– Ты кто же будешь? – рявкнуло у него над ухом. – Откуда? Куда?
В тощем теле Браиловского таился сильный и глубокий бас.
– Где тут Иван Архипов? – тотчас загремел он в унисон, еще сильнее выкручиваясь из крепко держащих его рук. – Давайте мне Ивана Архипова...
– Какого тебе Архипова? Да стой же ты, чортова кукла! Ну, Архипов! Ну? А дальше что?
Лева перестал выбиваться и воззрился на своего противника. «Не немец? Нет!» – нелепо пришло ему в голову.
Его держал человек в зеленой выгоревшей гимнастерке, в высоких сапогах; какой-нибудь лесник или тракторист? На нем была командирская фуражка, с помятым козырьком; курчавая черная бородка с проседью вилась на небольшом суровом лице. Кроме того, у него имелись железные руки, и глаза, как два винта, как сверла.
– Ну, – быстро сказал он еще раз, сердито хмурясь. – Какого рожна?
Лева не мог удовлетворительно объяснить, какого рожна. Он смотрел на сердитого в упор и молчал.
– Я – Архипов! А ты кто? И что дальше?
– Тут в деревне – немцы? – совсем уже глупо спросил Лева, стараясь смахнуть песок и опилки с лица. – Мне нужен Архипов! Партизанский командир... А тут – немцы?
– Были! – коротко и быстро отрезал бородатый. – Видишь – нет! Я тут! Сказано, я Архипов! Сто раз объяснять, что ли? Я – командир. А ты – кто?
– Да я военфельдшер. Военфельдшер Браиловский! Вы – зачем мой пистолет? Я от майора Камышева... Мне было приказано – в болото, но ветер отнес... Отдайте мне пистолет сейчас же...
– А! Так ты фельдшер!? – ахнул, меняясь в лице, бородатый. – О котором сведения были? Да что же ты молчишь... Вот случай-то какой! Да ведь тебя мои бойцы с утра во мху ждут; перезябли! Кто ж тебя знал, что ты здесь в деревне вылезать будешь, а не на болоте? Ишь, какой герой! Ну, так идем, идем скорее! В избу идем. Небось, есть хочешь? Сейчас я тебя, медведя, что лося накормлю! Какой там аттестат!? Нас, брат, тут фрицы снабжают!
Он поднялся впереди Левы на крыльцо, хотел было уже раскрыть дверь, но вдруг остановился и нахмурился.
– А, ну! Давай-ка документы!
Лева протянул, вынув из-за пазухи, свои верительные бумажки.
– Гм... так... Военфельдшер! Гм!.. Вот что я тебе, друг мой дорогой, скажу. Фельдшерица у нас и без тебя есть, своя! От немцев ушла... И дай бог каждому такую! А тебя я доктором назначаю... Доктором! Слыхал? Так и народу говори! Ну, а теперь заходи. Тут у нас со вчерашнего дня пока что – и штаб мой, и медицина.
Быстрый, поворотливый, легкий какой-то, он рывком распахнул дверь, и Лева Браиловский остолбенел от неожиданности так, как с ним, пожалуй, никогда еще в жизни не случалось. Он был готов к чему угодно, только не к этому.
Посреди избы, на ее немного покатом чистом полу, стояла, глядя на входящих своими лучистыми глазами, немного изменившаяся, в белой косыночке, но такая же милая, такая же «своя» горбатенькая Лизонька Мигай. Из девятого параллельного класса.
– Браиловский! – ахнула она, раскрывая большие глаза еще шире. – Вы... к нам? Вы? Сюда? Ну... Всегда же я говорила, что вы – настоящий человек!
Глава XLVII. В ПОДМОСКОВНОМ НЕБЕ
Евгений Григорьевич Федченко вел воздушные бои против японцев в Монголии в тридцать девятом, против белофиннов над островами Саймы – в сороковом. Но нигде он не испытывал такой тяжелой, виски ломящей ярости, такого гнева и озлобления, как тут теперь, на этом уютном подмосковном аэродроме над рекой Клязьмой, в том нестерпимо медленном октябре.
Этот гнев сжимал ему челюсти до спазмы; он не мог говорить внятно.
Аэродром окружали такие родные, среднерусские поля и перелески. На старте всё время терпко и сладостно пахло убитой первыми морозами листвой лип; рябиновые кисти алели в ветвях. Реки и речки под крылом отблескивали голубой осенней сталью... «Неокрепший лед» лежал на них словно «тающий сахар». Всё было обжито, облюбовано; нарисовано Левитаном, описано в некрасовских стихах...
И всему этому теперь грозил конец. Гибель...
Летчики почти ежедневно были в бою: враг непрестанно, всё снова и снова, пытался прорываться к Москве. Стремился поразить ее промышленность, парализовать самый мозг страны.
Летчиков вызывали то на штурмовки, то на баражированье [48]
[Закрыть]опасных зон, то на перехват вражеских бомбардировщиков в воздухе.
Накануне того памятного для Евгения Федченко дня комполка вызвал его к себе на командный пост. Старший лейтенант Федченко получил задание. Оно было очень простым. Предстояло немедленно вылететь по срочному вызову в Москву, выполнить служебное поручение, дождаться ответа до вечера и вернуться обратно.
Это было не только просто. Это было приятно. С той самой встречи на четырнадцатом этаже, в Гнезниковском переулке, Евгений Федченко ни разу не видел Иры Краснопольской. Ни разу за месяцы войны не удалось ему побывать ни в Москве, ни тем более в привлекательном и немного страшном для него доме на Могильцевском переулке.
Конечно, он мог бы писать Ирине Петровне. Но это как раз казалось ему непреодолимо трудным... Написать и ждать, пока придет от нее невыносимо вежливый, тоненько ядовитый ответ? Нет, это слишком тяжело! Просто немыслимо!
До самой войны она язвила его, как хотела; командовала им деспотически: веревки из него вила. «Старший лейтенант? Подумайте! Мальчишка, значит!»
Нет уж, легче прямо встретиться лицом к лицу, чем писать.
Что до Петра Лавровича, то как по-отечески ни относился к Федченке строитель скоростных истребителей, Женя трепетал перед ним, словно осиновый лист. Одна мысль, что знаменитый конструктор может заподозрить что-нибудь, приводила старшего лейтенанта в панику.
Поднимет щетинистые брови, выставит вперед бородку и скажет: «Ах вот он что? Влюблен? В мою дочь! Гм?» Ужасно!
Правда, теперь до Федченки дошли ободряющие слухи: Петр Краснопольский как будто выбыл в долгую заграничную командировку; это уже легче. «Заеду! – решил он. – Может быть, они и не эвакуировались еще?»
В десять утра летчик Федченко был уже в Москве. Два часа спустя он выполнил всё, что ему было поручено, и оказался свободным до темноты. Поколебавшись, он направился на Могильцевский... Сердце его забилось так, точно он чрезмерно быстро набирал высоту.
То, что он застал у Краснопольских, не успокоило его. Иринина мать, Екатерина Александровна, которую он привык видеть уверенной в себе, невозмутимой, знаменитой, пребывала в довольно жалком состоянии. Да, она боялась! Боялась она всего этого. Тревоги и бомбежки ее измучили. Она не герой. Она женщина, художник! Нет никаких причин стыдиться этого болезненного состояния, да, да, да...
Она собиралась эвакуироваться. Как можно скорее, как можно дальше...
– Екатерина Александровна! А Ирина Петровна что?..
Последовал взрыв. Сумасшедшая девчонка и слышать не хочет об отъезде! Она заявила, что ни за какие блага не тронется с места, пока... Да, кто ее знает, где она сейчас носится? На каких-то курсах противовоздушной обороны! Она совершенно не думает о матери... Она...
Но в это время в прихожей громыхнула дверь и в комнату бурей ворвалась сама Ира.
Герой Халхин-гола Евгений Федченко, как всегда при встрече с ней, оробел до смешного... А сейчас на его лице изобразился вдруг такой восторженный трепет, что Екатерина Александровна Краснопольская с удивлением вгляделась в него. «Ну, погиб! – говорил весь вид летчика Федченки. – Вот сейчас она меня и собьет...»
Но не случилось ничего подобного. Произошло истинное чудо. Увидев встающего ей навстречу Евгения Григорьевича, Ирина сама побледнела, чуть не до обморока. Рукой она взялась за грудь. Потом без единого слова крепко схватила его за локоть и по коридору, не отпуская, повлекла к себе... «Жив! – повторяла она, задыхаясь. – Жив! Няня, милая... Он жив!»
Два часа спустя он уходил от нее совершенно преображенный. Да, теперь, наконец, он понял, что такое счастье. Ну, теперь...
Они условились так: послезавтра у него должен быть свободный от дежурства день. Ей надо сесть на электричку с Ярославского вокзала. Когда она сойдет с поезда на станции, там всё станет ясно. Там есть такая дорожка между лиственницами... Хоть на час! Хоть на полчаса! Он будет ее ждать. «Только, Ира... Уж тогда обязательно!»
– Слушай, Женя... Ну, какой ты смешной...
Он благополучно вернулся в часть; он еле дождался этого счастливого дня, и вдруг...
Уже накануне, в среду, немецкая авиация густо рванулась к Москве. Часть Федченки выдержала несколько горячих схваток. Младший лейтенант Павлов так удачно сбил «мессера», что на летчике осталось всё целым, даже любопытный комбинезон с обогреванием и парашютом.
В четверг, уходя с рассветом на дежурство, Федченко оставил Ире такую записку, каких летчики обычно не оставляют: «Прилечу скоро! Жди!»
Утро было хмурым. Казалось, фашисты притихли; в воздухе ни души. И надо же, чтобы обольщенные этой тишиной «ястребки», отчасти ради шутки, отчасти из любопытства, вздумали поочередно примерять над взлетной полосой, у готовых к мгновенному старту машин, этот самый фрицевский комбинезон... И надо же, чтоб Женя Федченко оказался в нем в тот миг, когда грянула тревога: первая волна «юнкерсов» вырвалась из-за тучи на горизонте. Безобразие, товарищи! Никуда не годится!
Переодеваться? Куда там! Комбинезон сидел на нем поверх нашего в обжимку, туго. Крепко выругавшись, старший лейтенант плюнул и пошел в воздух во вражеской шкуре. А потом... А потом стало и вовсе не до таких пустяков; чорт с ним, с комбинезоном! Летать можно, так и ладно...
Позднее, когда эта история стала известной по всему фронту и по всем летным частям всех фронтов, многие ей не верили. Старшему лейтенанту Федченке и самому она тогда казалась каким-то нелепым сном. Но это отнюдь не был сон – это была такая военная фронтовая быль, которая в мирное время кажется несообразней любой выдумки и сказки.
В одиннадцать с минутами Федченко сбил над фронтом свой четвертый с начала войны «юнкерс». Без семи двенадцать фашист, выскочив из-за облака, срезал его ведомого, Колю Лавренева... Почти тотчас же Федченко нацело отсек врагу весь хвост, всё оперение. В первом часу он сел заправляться. Его поздравляли. Ему было жарко. Из-под шлема текли знакомые ручьи пота: те же, что возле Буир-Нура, те же, что над озером Ханко... На аэродроме он услышал радостное: Лавренев приземлился, хотя и с простреленной рукой... Переодеваться? Да ну его к дьяволу! Может быть сейчас снова...
Через час они опять взлетели: девятнадцать немецких бомбардировщиков под сильным эскортом приближались с юга к Москве. Девятнадцать штук!
Ястребки навалились на врага западнее Мятлевки, между лесом и железной дорогой, почти над передовой. Бомбардировщиков сразу разрезали на две части, но половина их всё же вырвалась к станции.
Третью вражескую машину за этот день он сбил почти в упор, на шести тысячах метров, наскочив неожиданно на нее снизу. Потом погнался за четвертой в сторону станции, но, повидимому, увлекся. И перехватил...
Высота была очень большая. Очередь фашистского летчика начисто срезала ему правое крыло. Он испытал, усиленное в тысячи раз, такое ощущение, какое может испытать человек во время быстрого бега, если у него внезапно уйдет из-под правой ноги земля...
А немец всё еще стрелял. Потом он пронесся совсем близко и исчез. Конечно, за ним уже кинулся кто-то из наших.
Евгений Федченко рванул парашют. И тотчас же ему стало ясно: Ира напрасно садится теперь в электричку на Ярославском вокзале. Он не прилетит к ней сегодня. Он не прилетит никуда и никогда!..
Чужой парашют раскрылся довольно быстро. Но сильный ветер бросил Федченко в струю густого дыма от только что обрушившегося на землю горящего «юнкерса» и в этой вонючей густой завесе упорно и безжалостно нес всё дальше и дальше от фронта, всё глубже и глубже в тыл врага...
А Ирина Краснопольская в это время вовсе не садилась в поезд. Завхоз папиного конструкторского бюро, услышав о ее поездке, прислал ей машину. Правда, это был уже не тот удобный «Зис», на котором до войны ездил Краснопольский, а какой-то забвенный «газик», но всё же автомобиль. На месте водителя в кабине «газика» тоже сидел не обычный шофер-мужчина, а могучего сложения девушка в ватнике, с неожиданно кротким и нежным при такой богатырской фигуре лицом.
Сначала она повезла Иру не ахти как быстро. Но еще не выехав за город, они разговорились и узнали друг про друга всё, и прежде всего – самое главное: обе были невестами.
Водителя звали Валей Зиминой. Валя чуть было не вышла замуж в июне. Помешала война! Что тут поделаешь. «Его сразу же направили на фронт; танкист! Нет уж, где уж теперь встретиться?.. Что вы, Ирочка... Нет уж, куда уж...»
Узнав, что Ира Краснопольская едет на аэродром к своему самому хорошему другу, Валя даже зарделась от волнения. Маленький «газик» под ее умелым управлением теперь быстро бежал по ровному шоссе. Она остановилась только раз, за Ногинском – долить воды в радиатор. Ира сидела тихо. Щеки ее горели. «Скоро ли? Ах, скорее!»
Повидимому, Федченке в тот день необыкновенно повезло.
С ним случилась удивительная история. О ней долгое время потом говорили на всех аэродромах фронта.
Сбили Евгения Федченко почти над самым пеклом немецкого переднего края. Силой инерции машину, на которой он летел, перенесло через фронт к нам. Она обрушилась у самых наших окопов.
Самого же его, когда он оторвался с трудом от штопорящего самолета, никто не успел заметить – ни наши ни немцы. Он мелькнул в прыжке очень быстро, и испытываемый им парашют раскрылся уже за дымовым облаком, оставленным сбитой тяжелой машиной врага.
Вышел он из этой случайной дымовой завесы только в километре от вражеских постов, невдалеке от того места, где в глубине немецкого расположения пылал на земле среди вересковых полян ударившийся о землю бомбардировщик.
К этому месту из ближайшего немецкого штаба мчались две машины – с врачом, несколькими санитарами и солдатами.
Почти ослепленный едким дымом, Федченко кое-как, больше инстинктом, чем зрением, определил момент приземления... Спружинив ноги и держа пистолет наготове, в руке, он резко ударился о землю, подпрыгнул, ударился еще раз, выронил оружие в густой вереск и тотчас же забарахтался в сильных руках, схвативших его.
Он боролся отчаянно, молча... И вдруг... Вдруг он услышал слова человека, который крепко держал его за локти: «Да тише же, лейтенант! – по-немецки кричал ему человек. – Вы что, – не узнали своих? Это же мы, а н е «иваны...»
На нем была немецкая летная одежда! Его приняли за немца! Вот так штука! Что же будет теперь?
На свое счастье, Евгений Федченко совершенно не говорил по-немецки. Ему оставалось только молчать! Но еще с детства он хорошо понимал немецкую речь.
– Господин оберст! – кричал над самым его ухом тот, кто взял его в плен. – Тут лейтенант с той машины; но он, повидимому, свихнулся... Жестокий шок, господин оберст. Он вроде онемел... И, видно, принимает нас за русских...
– А, чорт его возьми! – донесся ворчливый раздраженный голос с дороги. – Ладно! Тащите, грузите к себе и моментально на аэродром. В пятнадцать тридцать уходит транспортный на Смоленск... Что я буду делать с «жестоким шоком»? Шок – не заболевание для полевого пункта! Ну, я проеду за перелесок: там мог сесть еще кто-нибудь...
Федченко услышал и понял эти слова. Перед ним мелькнул луч надежды, совсем слабый луч: в суматохе второпях его могли еще некоторое время не опознать...
А время, даже некоторое – это всегда шанс на жизнь!
Он быстро перебрал все возможности. Нет, в карманах его обмундирования не было ничего уличающего: ни документов, ни... Если только его не станут сразу же раздевать... Пистолет? Но пистолет у него, по счастливейшему случаю, был тоже не наш, трофейный, «Штейр». Как у фрица! Предугадать было ничего невозможно, но, во всяком случае у него оставался еще час времени, прежде чем... Час! Целый час! За час может представиться какая-нибудь возможность... А потом... пистолет-то во всяком случае тут!
Так вот и случилась такая нелепость: в один из октябрьских дней сорок первого года русский летчик, по странной случайности облеченный в немецкую форму и приземлившийся в фашистском тылу, был спешно, без предварительного осмотра погружен немецкими санитарами на носилках в «полубессознательном состоянии» в брюхо транспортного «Ю-59» и вместе с другими легко и тяжело раненными немедленно отправлен в глубокий гитлеровский тыл.
Совершенно ясно: такой маскарад мог спасти его только до прибытия в госпиталь. Но разве имеет право человек, когда идет речь о его жизни и смерти, отказываться хотя бы от самого слабого шанса на победу, сдаваться до того, как спасение станет немыслимым? Нет, не имеет!
Летчик Федченко вдруг вспомнил лучший рассказ своего детства, повесть о том, как бежал из-под неклюдовского расстрела его дядя, матрос Павел Лепечев. Тот держался до предела. И он тоже решил держаться до конца. А война есть война; авиация – это авиация, и его судьба сложилась так, как не могло причудиться даже человеку с самым пылким воображением.
Летчики истребительного полка, где служил Евгений Федченко, постарались как можно осторожнее подготовить невесту своего товарища к той страшной вести, утаить которую от нее совсем не представлялось уже возможным. Надо же, чтобы именно сегодня она приехала сюда!
Вышло так, что проговорилась ей девушка-красноармеец. Может быть, это было даже лучше... По приказу комполка девушка принесла для гостьи обед в комнату, где жил Федченко. Правда, она знала немного: ей рассказали только, что старшего лейтенанта сбили, машина упала в нашем расположении, тела пилота в ней не обнаружено. «Повидимому, он выпал из машины еще в воздухе и был отброшен куда-то в сторону. Во всяком случае никаких сведений о спуске и приземлении где-либо парашютиста ниоткуда не поступало».
Тогда Ира сама позвонила начальнику штаба. Она твердо заявила, что знает всё, но никуда не уедет до тех пор, пока не исчезнет последняя капля надежды. «Я понимаю, товарищ майор, ее почти нет. Но всё-таки: ведь самого-то его не нашли мертвым».
«Девушка, которая ждет Федченку», невольно отошла на второй план. И без нее хватало волнений: командир звена Лавренев был ранен; летчик Афиногенов не вернулся...
Тем лучше, если у нее такой твердый характер...
Ей несколько раз звонили. Дежурный, сменившись, зашел на квартиру Федченки и долго разговаривал с ней, утешая ее не столь искренно, сколь усердно... Потом она сказала сама, что очень устала. Дежурный ушел. Ира осталась одна в этой комнате, такой чужой и вместе – такой уже милой.
На койке лежал раскрытый том Шолохова. В углу висела шинель. Пахло табаком, ремнями, немножко одеколоном и чистым полотном из чемоданов. Неужели же только вот в этом теперь и был он? Неужели же конец? Неужели только воспоминания остались тебе от твоих надежд на счастье, Ира?
Сначала она потянула было к себе Шолохова, присев на его, Женину кровать. Но в комнате было так тепло и тихо, от белейшей наволочки пахло так чисто и так приятно, где-то за простенькими обоями так задумчиво потренькивал дачный сверчок, что, несмотря на всё волнение, густая темная усталость вдруг охватила Иру. Поддаваясь ей, она прилегла на койке. Выскользнув из руки, «Тихий Дон» упал на пол.
Поздно, часу в десятом вечера, ее разбудил легкий озноб. Встав, она накрылась его шинелью.