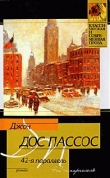Текст книги "60-я параллель(изд.1955)"
Автор книги: Лев Успенский
Соавторы: Георгий Караев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 52 страниц)
Глава XV. КОНЕЦ «СВЕТЛОГО»
Если бы вы спросили у любого городковца, старого или малого, у любого мальчика и каждой девочки из Светловского лагеря: кто такая Мария Михайловна Митюрникова? – ответ не заставил бы себя ждать.
Мария Михайловна была прежде всего замечательным, опытным педагогом. Много зим работала она в городковской школе на Березовой аллее; много лет была и бессменным начальником лагеря в «Светлом». Дети и взрослые отзывались о ней с любовью и почтением.
В сорок первом году Мария Михайловна была уже пожилым, крепкой закалки человеком. И в Москве, и в Ленинграде по сей день можно встретить старого большевика, члена партии с подпольным стажем, который, услышав ее фамилию, вдруг заулыбается задумчивой, в далекое прошлое обращенной улыбкой... «Позвольте... Машенька Митюрникова? Да кто же ее в свое время не знал? А она жива? Ах ты... Как бы хотелось ее повидать!»
Сорок лет назад действительно все знали Машу, дочь питерского книготорговца, чудесную, молчаливую, милую девушку с непомерно длинной и тяжелой пепельной косой, беспартийную доверенную многих партийных дел. Маша Митюрникова была всеобщей подставной невестой, державшей связь со многими заключенными. Маша была верной хранительницей складов опасных прокламаций, шрифтов, партийных сумм. Ее знали и любили повсюду – в Петербурге и в Иркутске; в этой замечательной питерской курсисточке жили железная воля и благородное сердце. Таким ее свойствам было где развернуться; не один жандармский ротмистр сердито пожимал плечами после разговора с «арестованной Митюрниковой»; не один царский следователь по особо важным делам десять раз перечеркивал протокол допроса, способного окончательно загубить его репутацию Пинкертона: «Чортова смиренница! Недаром у нее деды – староверами были!»
Очные ставки, хождение по этапам, централы и тюрьмы, то, о чем ее ученики читали только в книгах, – всё это она видела и помнила сама.
Но и сейчас, когда, встав неукоснительно в половине шестого утра, маленькая женщина, с головой, горделиво оттянутой назад тяжестью огромного узла седых волос, выходила на балкон и зорко оглядывала свои владения, – нет, и сейчас было легко понять: в этом, казалось бы таком слабом, теле живет несгибаемый, непреклонный дух.
Редко она успевала утром бросить на себя взгляд в зеркало. Кое-как закрутив волосы на упрямом затылке, умывшись – точно ей всё еще было шестнадцать лет – до пояса холодной как лед водой из знаменитого во всем районе Светловского ключа, она предпочитала на две, на три минуты задержаться тут, у легких перильцев голубенького мезонина, вглядываясь в высокую ясную зарю над озером, в отражение сосновых маковок под тем берегом, насупротив...
Еще раз – в который раз! – перед ней пробуждался мир. Каждым птичьим свистом, каждым протяжным воплем паровоза на Луге-второй он призывал к тому, что для нее было всегда главным делом и главным счастьем жизни, – к труду. И, можно думать, в чистых, прозрачных очертаниях этого мира ее прямая душа, ее простая, строгая, светлая жизнь отражалась лучше и вернее, чем может отразиться человеческое лицо в стекле и ртути зеркала.
В том году к середине июня руководители лагеря успели вывезти на Светлое только двадцать пять детей из ожидавшихся шестидесяти трех. Старшие еще сдавали последние экзамены. Слабых и половину малышей задержала погода; она была необычайно холодной: за озером, к Вяжищу, даже в середине месяца лежал в лесных овражках снег и цвели анемоны.
Когда грянула война, среди родителей началась разноголосица. Одни требовали немедленного возвращения детей в город; боялись не какой-либо определенной опасности, нет, страшила сама разлука. В такие дни лучше быть вместе!
Другие возмущались, протестовали: что за нелепая тревога! Где тебе – фронт, и где – Луга? И, уж конечно, Ленинград, огромный город, скорее испытает на себе тяготы воздушной войны, чем Светлое, – пять-шесть домишек в густом бору.
В конце концов было решено так: желающие могут взять своих детей из лагеря, когда задумают. Те, кто предпочтет оставить их в лагере, могут быть спокойны: в крайнем случае ребят легко эвакуировать вглубь страны, минуя Ленинград, – скажем, через Батецкую. Имущество лагеря председательница комиссии содействия Вересова срочной телеграммой предписывала строго хранить впредь до особых указаний.
Эти распоряжения совпадали с тем, что думала Мария Михайловна сама. Она была твердо убеждена: всем ее воспитанникам надлежало оставаться, конечно, здесь, в Светлом. Мчаться сейчас со всеми детьми в город, чтобы месяц спустя, когда первые волнения пройдут, снова тащить их обратно, казалось ей просто унизительным, нелепым.
Пожимая плечами, потряхивая седой головой, она отпускала, впрочем без лишних слов, ребят одного за другим. Она молча сдавала их на руки приезжавшим родителям; только губы ее поджимались всё сильнее. К крайней ее досаде, с каждым днем состав лагеря уменьшался и уменьшался.
Прождав несколько дней, Митюрникова сделала генеральный смотр своему, столь прискорбно сократившемуся хозяйству. Тотчас же она упразднила ставший совершенно излишним лагерный «штат».
В самом деле, в конце концов на руках у нее осталось только пятеро старших школьников: двое мальчишек и три девушки. Они, под ее руководством, могли великолепно обслужить себя сами.
Кладовка лагеря в те дни ломилась от изобилия: запас делался на шестьдесят ртов, а теперь их в двенадцать раз меньше. Смущали начальницу только ее питомцы.
Их было пятеро, – все совершенно разные. Остались они тут тоже по совсем различным причинам.
Лизонька Мигай, сирота, первая ученица десятого класса, тихая, старательная и способная девушка, не вызывала у нее никакой тревоги. Все в лагере, и взрослые и ребята, каждый по-своему, любили и жалели эту Лизу, – ее милое тонкое личико, ее большие печальные глаза с непомерно длинными ресницами, постоянно опущенные на листы какой-нибудь книги, ее мягкий, вовсе не грустный, лишь словно подернутый какой-то легкой дымкой, характер.
Девочка блестяще училась в школе. Особенно по литературе и истории. Она писала совсем не плохие стихи.
Трогательно было следить за тем, что наполняло ее душу, что увлекало ее сильнее всего: рассказы о людях, могучих духом и телом; повести о благородных и добрых героях, о смелых воинах, беззаветно сражающихся за правое дело, о великих битвах и подвигах.
Никто не улыбнулся, когда через Марфу Хрусталеву стало известно, что у Лизы, в ее комнатушке на Сердобольской, висит в рамке на стене над кроватью неизвестно откуда добытая фотография легендарного конармейца девятнадцатого года – Олеко Дундича, висит рядом с открыткой-портретом Долорес Ибаррури.
Никто не удивлялся, узнавая, что ее стихотворения всегда посвящены то спасению челюскинцев, то бессмертному перелету через полюс; альпинистам, впервые поднявшимся на пик Сталина; водолазам, вырывающим из объятий океана советский ледокол «Садко».
С непередаваемой страстью, без тени зависти слабая телом, горбатая девушка «болела» за каждый футбольный матч, трепетала при любом звездном заплыве или даже во время самой обыкновенной лагерной эстафеты вокруг Светлого озера. Всей душой она мчалась, летела, плыла, карабкалась, боролась, жертвовала собою и побеждала вместе с каждым, кто был смел, благороден и силен.
Не удивительно, что сейчас Лиза осталась в лагере. Ее родная мать умерла в тридцать четвертом году от туберкулеза, и ей самой было тогда всего десять лет. Отец, рабочий-слесарь машиностроительного завода, погиб в прошлом году на финском фронте под Муурила: его тяжело ранило, и он замерз у подножия вражеского дота. Лиза жила у своих родственников Котовых. Не очень легко жила. Значит, здесь ей место. Она не беспокоила Митюрникову.
Другое дело – Марфица Хрусталева.
Марфа уже на второй или на третий день после начала грозных событий полностью оправилась от охватившего ее страха: «переживать» что-либо мучительно и долго было вообще не в ее характере.
– Марфа! – спросила ее Митюрникова, как только речь зашла о возможном возвращении в город, – мне интересно: что думает обо всем этом твоя мать?
– Моя? – тотчас же оживилась Марфушка, словно могла сообщить в ответ нечто радостное. – Марь Михална! У меня мать за тридевять земель! Она исчезла, утопая...
Действительно, только накануне принесли с почты телеграмму от Марфушиной матери, Сильвы Габель, с Алтая. Вечно занятая, вечно в бегах, никогда не теряющая присутствия духа, Марфина мама – отличная скрипачка, заметный музыкальный критик и педагог – еще первого июня умчалась туда с экспедицией консерватории записывать киргизские мелодии... Повидимому, это было делом отнюдь не скучным:
ДВАДЦАТОГО ВЫЕЗЖАЕМ ВЕРХАМИ ИСТОКАМИ КАТУНИ ПИСЬМОМ ДЕТАЛЬНО ЦЕЛУЮ МОЮ МАВРУ
Так было сказано в этой ее телеграмме. Внизу на бланке было очень солидно помечено:
ПРОВЕРЕНО: МАВРУ БЕЛОВА
Стало совершенно ясно, что даже о начале войны Сильва Габель, там, у «истоков Катуни», узнает не так-то скоро.
В лагере Марфушка Хрусталева вообще была явлением, в некоторой степени неопределенным, «беззаконной кометой». Она «возникла» тут еще в те времена, когда жил в городке ее отец, инженер-кораблестроитель Хрусталев, специалист по ледоколам, позднее трагически погибший при кораблекрушении в Охотском море.
Сильва Борисовна, Марфина мама, родившаяся в Киеве на Подоле, всю свою жизнь не имела никакого отношения ни к ледоколам, ни к морю. Овдовев, она переселилась на Пески, на Кирочную и жила там с Марфой, с головой уйдя в свои разнообразные музыкальные дела. Ей было недосужно уделять слишком много внимания делам дочери, переводить ее из школы в школу, встречать ее, провожать... Годы шли, а Марфа с Кирочной улицы всё еще ежедневно самостоятельно добиралась до Марсова поля, садилась на «тройку» и следовала на Каменный, в школу на Березовой аллее.
Вот почему каждое лето, когда мама уезжала в артистическое турне или в экспедицию – то на Кавказ, то на Дальний Восток или в Дом отдыха, – Марфа обязательно оказывалась в «Светлом» и блаженствовала там, как умела.
В глазах Марии Михайловны эта девочка была все эти годы существом несколько непонятным.
Стоило ей раззадориться, стоило кому-либо подстрекнуть ее, – Марфа без труда в любом отношении обгоняла всех сверстниц: уравнения так уравнения; а-ля брасс так а-ля брасс!
В то же время, при отличных способностях, ее приходилось порой считать отъявленной и вроде как даже «убежденной» лентяйкой.
Случалось, она целыми неделями вырезала из бумаги изысканно модных дам с гордо-тупыми профилями, одевала их в роскошные бумажные платья и, лежа животом на траве, ничего не слыша и не видя, сочиняла сложные драмы о их романтических судьбах. То вдруг ее становилось невозможным вызвать с лагерного стрельбища; тогда весь лагерь с изумлением узнавал: Марфа-то наша – опять чемпион стрелкового дела!
Заведомая трусиха, она до смерти боялась самого звука выстрелов; ужас отражался на ее подвижном личике в момент спуска курка. Но била она, тем не менее, как автомат или цирковой снайпер, – точно, сухо, совсем не по-девически. Вот уже два года, как она (и школа благодаря ей) держала стрелковое первенство по району.
Она визжала, точно ее режут, при виде полевого мышонка или большого жука; в то же время с десятилетнего возраста Марфы не было в окрестностях ни одной лошади, на которую «эта невозможная Хрусталева» не взвилась бы рано или поздно без узды и седла, чтобы, зажмурив глаза в ужасе от собственной отваги, промчаться по светловским песчаным дорогам, отчаянно взмахивая локтями, цепко обхватив лошадиные бока крепкими икрами здорового подростка и в эти мгновения сияя какой-то дикой удалью.
Было немыслимо понять: что же в конце концов окажется жизненным идеалом этой девчонки: охотничья винтовка и спартанский рюкзак покорителя тайги Арсеньева, книги которого она читала запоем, или газовые «пачки» Галины Улановой? Танцевать Марфа любила ничуть не меньше, чем Людка Лю Фан-чи, а Ланэ-то уж явно метила в танцовщицы.
Надо заметить, что собственная внешность подчас заставляла Марфицу огорченно задумываться. Вздернутый нос, как-то нелепо, поперечными полосками, загорающий каждое лето; густые, спутанные невпрочёс, вьющиеся волосы совсем дикарского вида; маленькие глазки с лукавой и любознательной искоркой, и главное, довольно толстые ноги, – на что это всё похоже?
Марфа совсем была бы не прочь, заснув однажды вечером, проснуться наутро этакой очаровательно-гибкой и неотразимой красавицей. Но поскольку до всего этого было ах, как далеко, она без особых трудов удовлетворялась тем, что имела.
Лагерные мальчишки любили Марфу. Они ценили ее как самого верного, неподкупного товарища.
Если класс отставал по химии, Марфица, по первому слову совета дружины или комсорга, кидалась в бой. Она готова была неделями не вылезать из химического кабинета, ходила с руками, обожженными кислотой, без устали репетировала отстающих, пока не выводила их «из прорыва».
Если у «наших девочек» не получалось с лыжными прыжками, она до тех пор набивала себе шишки на лбу, прыгая с трамплина в Удельнинском парке, вываливалась вся в снегу, мокрая, потная и возбужденная, с визгом летала вниз с горы, покуда и в этой области дело не налаживалось.
Когда бывало в лагере замечали девчонку, карабкающуюся на вершину дерева по шатким сукам к вороньему гнезду, это, конечно, могла быть только одна «невозможная Хрусталева». Ежели вдруг поднимался переполох и приходилось с великими трудностями извлекать кого-то из топких хлябей заоблинских болот, где росли великолепные камыши и белые водяные лилии, – это опять-таки оказывалась она. Легче легкого было ее подбить на подобные рискованные предприятия.
Она славилась острым язычком, мгновенностью решений, несомненным «чувством юмора», полным бескорыстием и добротой. И ребята числили за ней один только серьезный недостаток: Марфа – «таяла»!
«Таяние» началось уже довольно давно. И таяла она с постоянством, достойным лучшего применения, последовательно по адресу всех старших мальчиков лагеря и школы; таяла, надо признать, не без надежды на взаимность.
Когда лунным вечером в светловском доме поднималась суета, потому что кто-то из ребят не явился к ужину и до темна бродит по окрестным лесам, тоскуя, все понимали, что тут не обошлось без участия Марфы.
Если на грядках с анютиными глазками под окном находили обрывки рукописи, напоминающей по содержанию письмо Татьяны к Онегину, умещенное на шести тетрадных листах в клеточку, – это, всего вероятнее, были страницы из Марфиной частной корреспонденции. Если два положительных, серьезных восьми– или девятиклассника внезапно начинали петухами поглядывать друг на друга, отпускать один другому шпильки, а то и просто вступали между собою в неожиданное единоборство на футбольном плацу или возле лодочной пристани, – все взгляды обращались на притихшую Марфу: всего вернее, – дело и тут касалось ее.
Да, Марфа Хрусталева всё это время была «неясна» для педагога Митюрниковой. И в то же время она вызывала в ней неопределимую симпатию. Не могла она ее не любить, этого бесенка.
«Лохматая полумальчишка! Что в ней хорошего? Ну, да, живет в ней какая-то, еще не определившаяся общая одаренность... Да, правда, честна до предела; правдива всегда и во всем... Но в то же время...»
Теперь особенно Мария Михайловна то и дело вопросительно поглядывала на свою неразгаданную до конца питомицу: как поведет себя она сейчас? Как подействуют на нее события, обрушившиеся на всех, требующие особой силы, особой выдержки, особой душевной собранности?
Совершенно иначе обстояло дело с Заей Жендецкой; и каждый раз, как она вспоминала о Зае, брови Марии Митюрниковой начинали двигаться озабоченно и без всякой приязни.
Марфа была загадкой, Зая – задачей, и очень тревожной. Самое трудное было в ее добродетельности. Эту девушку нельзя было упрекнуть ни в чем. И в то же время Марья Михайловна при всем желании не могла ни привыкнуть к ней, ни поверить ее прекрасным качествам. Она прощала Марфушке всевозможные проказы. Она не могла простить «барышне Жендецкой», как она про нее иногда неприязненно выражалась в кругу педагогов, именно ее «безукоризненность». Это было явно несправедливо и досадовало ее самоё до крайности.
Полная противоположность Марфице, Зая Жендецкая походила на картинку с обложки какого-нибудь английского спортивного журнала: хороша до сладости, до приторности. Трудно было найти более спокойную и уверенную в себе девушку. Где-то там, за пределами школы, она, вероятно, жила своей, никому не известной жизнью уже полувзрослого человека; недаром покровительствовавшая ей Милица Вересова полушутя, полусерьезно именовала ее порой своей «подругой», «my dear chum». Но здесь, в школе поведение ее было выше всяких похвал: примерная ученица – и всё тут...
Странно было даже представить себе, чтобы Зая, подобно Марфе, заинтересовалась кем-нибудь из своих сотоварищей; этого не хватало! Ее никто никогда не видел ни на сучьях сосны, ни в грязи болота, ни на спине водовозной клячи, – ее платья, ее модельные туфельки, ее правила поведения не позволяли ничего подобного... По всем предметам она занималась отлично; в способностях ее было трудно сомневаться. И всё же Мария Михайловна могла поручиться, что ни одна из школьных наук не представляет ни малейшей цены в глазах этой девушки.
Педсовет всегда уверенно завершал пятеркой по поведению длинную цепь отличных баллов Жендецкой, а Марья Михайловна с беспомощной неприязнью и недоверием, за которое сама себя казнила, смотрела в упор на ее непроницаемо очаровательное личико.
Да, да! Всё – на круглое пять, даже без минуса... Чистейший прекрасной формы лоб; большие, наивно-голубые глаза цвета апрельского неба; точеный носик... А, спрашивается, что живет там, за фарфоровой этой маской?
Теперь с Заей получилось уж совсем нелепо. В последний вечер перед войной Станислав Жендецкий, ночью, «Красной стрелой», едва приехав на машине в Ленинград из Луги, в большой тревоге спешно уехал в Москву и дальше, – на Урал.
К удивлению семьи, след его тотчас же решительно потерялся, – с дороги он ничего не писал. Десятого июля его еще не было в Ленинграде, а между тем на одиннадцатое или двенадцатое число была назначена эвакуация жен и детей проживавших в городке.
Вне себя, Аделаида Германовна, Зайкина мать, телеграфировала мужу и в Свердловск, и в Невьянск, и в Челябинск, – ответа не последовало. В то же время «эта сумасшедшая Зайка» решительно заявила, что выедет из Луги только по прямому приказу отца. Аделаида Германовна разрыдалась: ее власть над дочерью давно уже была упразднена.
Она попробовала плакать и грозить в телефонную трубку. Зая перестала являться на вызовы Ленинграда.
Тогда, дав последние отчаянные депеши и мужу и дочери, тетя Адя махнула на всё рукой и тронулась с мальчиком Славиком одна. А Зая, к великому сомнению Марии Михайловны, осталась вместе с остальными четырьмя подростками у нее на плечах, в Светлом. И сейчас же она поразила учительницу первой неожиданностью.
Когда она явилась к Марии Михайловне с последней материнской телеграммой, Митюрникова, подняв очки на лоб, строго взглянула на нее.
– Я хочу вас вот о чем спросить, Жендецкая: ясно ли вы понимаете, что такое война? Вам не страшно остаться здесь с нами, вдали от родителей? Кто знает, что может случиться!
Зая Жендецкая, глядя в окно, небрежно пожала плечиками.
– Мне еще никогда не было страшно, Мария Михайловна! – ответила она с обычной своей небрежной вежливостью. – Я не из трусливых. А кроме того, – она вдруг еще более небрежно усмехнулась, – кроме того, у меня же есть амулет.
– Амулет? – удивилась старая учительница. – То есть, как это? Что значит «амулет»? Что за глупость!
Девушка протянула руку, и на ее ладошке Митюрникова увидела маленькую плоскую металлическую коробочку вроде дамской пудреницы, с ушком для шнурка, размером побольше пятикопеечного медяка. Крышка этой коробочки, окаймленная траурно-черной полоской, была покрыта слоем молочно-белой, блестящей эмали.
– Вот! Только его нельзя раскрывать понапрасну! Но когда мне будет грозить «смертельная опасность от человека», надо эту вещицу окунуть в воду... или даже лизнуть языком... а потом уже надеть на шею... Только, чтобы он видел. И тогда у него опустятся руки. У меня таких было два; один я подарила Марфе, но она, глупая, возмутилась и выбросила... Говорит, – суеверие. Ну и пусть!
Несколько секунд Мария Михайловна, оторопев, молча смотрела на девушку.
– Извините меня, Зая... Вы, я думаю, и сами пони» маете, что это действительно невообразимая чепуха. Однако кто же вручил вам такую волшебную штуку?
– Папа! – равнодушно ответило странное это существо. – Мне две штуки, маме, Славику... Он их из Парижа привез... Просто, это же забавно! Марфа глупа. При чем тут «суеверие»?
Митюрникова не стала расспрашивать дальше.
Да и что было спрашивать? Поздно! Так или иначе с этими тремя девочками и с двумя мальчуганами ей приходилось теперь терпеливо ждать, когда из Ленинграда придет за ними машина.
Уже стало известно, что поезда из Луги в город ходят нерегулярно; уже перестали принимать багаж на Ленинград. Как быть? Бросить имущество лагеря на произвол судьбы и уехать? На это Мария Михайловна не была способна, да и причин к тому она пока еще не видела.
Всё же она произвела решительную мобилизацию всех своих наличных сил.
Спартак Болдырев и Валя Васин – два очень хороших мальчишки, дети младших служащих МОИПа и городка – ничуть ее не тревожили; эти не подведут; не из того теста!
Она сделала их персонально ответственными за рытье «щели» в лужском песке, за сооружение «поста МПВО», «отрыть» который требовала милиция. Мальчуганы с восторгом и полным знанием дела взялись за работу.
Горбатенькой Лизе было поручено и далее ведать законсервированным медпунктом и аптечкой. На «лохматую», на Марфу, Марья Михайловна, не без яда, возложила теперь разбор и учет ставшего ненужным обильного ребячьего гардероба. Пусть вспомнит свои недавние грезы! Питанием она занялась сама.
Только на одну Заю не легло пока никаких определенных обязанностей. Педагогические принципы Марии Михайловны были своеобразны. «Пусть сама придет и попросится, своенравная девчонка!» – сердито думала она. Но девчонка пока что не собиралась проситься. Лежа в гамаке, она читала французские книги или просто дремала в тени.
Таким-то вот образом в начале июля 1941 года, под самой Лугой, над Светлым озером, осталось ждать у моря погоды несколько школьников во главе со старым педагогом.
О них понемногу забыли все, и удивляться тут не приходится. Милица Вересова, председатель комиссии содействия, официально известила лужские учреждения о том, что лагерь и Дом отдыха для школьников МОИПа с десятого июля закрыт. За его персоналом и имуществом высылаются машины. Лужские учреждения, сверх головы занятые совсем другими делами, с облегчением приняли к сведению это сообщение. С той поры никто в районе даже и не подозревал, что в голубом доме на Жемчуженской дороге всё еще смирно сидят, дожидаясь прихода за ними этих обещанных машин, старая учительница и пятеро ребят; всё еще стоит в полутемном зальце на полированной деревянной колонке бронзовое изображение летящего на всех парусах корабля; висят фотографии, изображающие большого человека, окруженного счастливыми мальчиками; лежат альбомы, живут твердые надежды на помощь, которая вот-вот придет из Ленинграда.
Светловский лагерь и Дом отдыха для школьников находились довольно далеко от Луги, километрах в шести, и притом несколько в стороне от дороги. Газеты и письма перестали прибывать туда с первых чисел июля. Тревожным слухам, долетавшим до нее через ребят из соседних деревень, Мария Митюрникова упрямо не желала верить. Можно ли удивляться тому, что в тот день, когда она сама, наконец, решилась ускорить отъезд, предпринимать что-либо было уже поздно.
Рано утром босоногий мальчишка, а не обычный старичок-почтальон, принес из Луги три телеграммы; все на имя «М. Митюрниковой», лагерь «Светлое».
«Телеграфируйте срочно необходимые меры вывозу вас детей Ленинград Гурьянов»
– стояло в одной.
«Возмущена отсутствием инициативы немедленному выезду тчк дальнейшей задержкой передаю дело суду Вересова»
– гласила другая.
«Луга заврайоно копия Светлое Митюрниковой просим любым способом экстренно эвакуировать Ленинград начлагеря Светлое пятью детьми. Митюрниковой приказываю получением сего выезжать неотложно За начальника МОИПа майор Токарев».
Прочитав бегло все три депеши, Мария Михайловна надела очки и еще раз, слово за словом, проштудировала каждую в отдельности. Потом, сняв очки, она несколько минут сидела нахмурясь, видимо, ничего еще не понимая.
– Ты что же это, моя милая? – проговорила наконец она, откидывая в сторону телеграмму Милицы. – Это как же я тебя должна теперь назвать? Да ведь ты же сама мне предписала спокойно ждать машины...
Она выглянула в окно. День был тихий, солнечный. Заинька Жендецкая, как всегда, читала, лежа в гамаке. Митюрникова кликнула девушку наверх. Но и в Зайкином чтении смысл телеграммы остался тем же.
– Очевидно, Жендецкая, мне нужно сейчас же идти в Лугу? – сказала тогда Мария Михайловна, впервые в жизни обращаясь к ученице в полувопросительной форме. – Немедленно! Повидимому, происходит что-то... нехорошее! И, кажется, я поступила на этот раз не умно... Гм!.. Но какова Милица?.. Зая! Я буду просить вас пойти в город со мной.
Зая Жендецкая потянулась.
– Что же... Хорошо, Марь Михална! Только знаете, Марь Михална, можно, – я позову и Марфу? Веселее...
Они быстро собрались и все втроем тронулись в недолгий путь. Но, трудно сказать, чтобы Марфино участие на этот раз принесло им хоть сколько-нибудь веселья.
Марфа Хрусталева потом много – ох, много раз! – вспоминала и рассказывала всем, как это случилось.
Они вышли к железной дороге у самого Омчина-озера и поднялись уже на высокую насыпь. Озеро жарко блестело слева. Впереди, загибаясь к западу, лежали станционные пути. Ярко сияла свежеоштукатуренная лужская церковь с синей крышей и серебряным куполом; торчал семафор над Облинским мостом; виднелись обвалы и насыпи старого стекольного карьера.
Это она, Марфушка, первая обратила внимание на странный шум.
– Ой, Марь Михална, а что это с паровозами? Слышите? Что это они?
В самом деле, где-то на линии громко, отрывисто – «Ай-ай-ай-ай!» – заливалась-гудела станционная «овечка»; «ой-ой-ой-ой!» – вторил ей из-за депо басовитый пассажирский «СУ». Тревожные гудки неслись совсем издали, от вокзала.
Всех троих внезапно охватила смутная тревога, – в чем дело? Они остановились, вслушиваясь.
Нет, кричали жалобно, испуганно, не одни только паровозы. Горестно, с человеческой тоской, взвыла вдруг сирена завода «Карболит», там за рекой Лугой. Ей ответила другая, где-то в лесу, за озером; потом третья, четвертая. Ударил одиночный пушечный выстрел... Еще, еще, еще...
Марфушка вскинула глазами на Зайку, но даже не успела понять, что та кричала ей.
То, что до этой секунды звучало у нее в ушах, не доходя до сознания, – привычный каждому нынешнему горожанину рокот самолетного мотора наверху, – этот самый обычный и доныне непримечательный звук, внезапно оборвавшись, перешел во что-то совсем другое. Сверху обрушился злой, неистовой силы и пронзительности, нарастающий вой. В один, в два, – нет, в три голоса... Как во сне, она, Марфа Хрусталева, успела увидеть высоко над Лугой большое белое, точно блюдо сбитых сливок, облако, и на его фоне несколько маленьких черных стрелок, с чудовищной скоростью несущихся к земле...
– Они! Они! Это бомбежка! Марь Михайловна, скорее! – взвизгнула Зайка.
Тяжелый тупой грохот пересек и покрыл ее визг. Рядом с церковью, но гораздо выше ее креста, с устрашающей силой вырос в небо бурый смерч дыма, пыли, обломков; тысячекратное эхо разнесло тяжкий гром тротила по тихим лужским лесам. Второе сотрясение, третье...
Марфушка Хрусталева ничком упала на бровку насыпи.
Несколько минут спустя Марья Михайловна Митюрникова подняла ее, как бывало поднимала из-за парты в классе:
– Хрусталева! Это еще что? Чего ты испугалась? Ты забыла, что теперь война? Ты хочешь лежать тут до завтра?
Марфа встала, с ужасом озираясь на страшное чистое небо. Слезы текли у нее по щекам. В предельном смятении она судорожно вцепилась в учительницу:
– Мария Михайловна! Я не хочу... и... я не могу... не могу я идти туда! Ой, не надо!..
Они и не пошли туда, ни она, ни Зая. Мария Михайловна не позволила им идти. Они остались сидеть на насыпи у Омчина-озера. А вперед по шпалам пошла одна маленькая старая женщина с тяжелым старомодным узлом седых волос на затылке.
Они сидели и смотрели на дорогу. Тихая дачная Луга теперь кипела, как в котле. Со всех сторон оглушительно били зенитки. До боли в ушах стучало что-то за соснами – наверное, пулемет. Сирены продолжали еще выть. А по широкому песчаному пространству перед девушками, мимо последних будок, блокпостов и первых дач, всё уменьшаясь, уходила от них в этот бурлящий «котел» маленькая фигурка в сером плаще. В правой ее руке была палочка – трость, в левой – портфель. Старая шляпа еле держалась на упрямой голове...
Она прошла семафор и медленно скрылась за поворотом. Тогда глаза Марфы Хрусталевой вдруг высохли. Может быть, только теперь она поняла.
– Зайка! Что же это? Как же мы пустили ее одну? – вдруг ужаснулась она. – Как ты ей позволила? Старая, одна... Как нам не стыдно? Скорее! Надо догнать ее...
Но она не договорила. В этот самый миг вторая волна юнкерсов обрушила еще одну серию бомб на лужский железнодорожный узел. Согнувшись в три погибели, девушки поползли с насыпи в кусты у озера...
Час спустя к ним примчались из «Светлого» мальчишки.
В «Светлом» тоже услышали стрельбу и грохот; можно ли было усидеть дома?
Мальчишки трепетали от непреодолимого своего мужского любопытства; раз десять подряд обругав девчонок дурами, трусихами, мокрыми курицами, они понеслись в город, «узнать». Эти ничего не боялись.
Однако вскоре они снова появились у озера. Вот теперь и их лица были бледны, лбы нахмурены, глаза бегали... Теперь они уже не ругали «этих дур»; было не до этого!
На путях, там, у станции, на сто тридцать восьмом километре они своими глазами увидели зияющую огромную воронку; ее вырыла двухсотпятидесятикилограммовая бомба. Товарные вагоны вокруг нее были раскиданы в стороны и горели; паровоз «Э» беспомощно валялся вверх колесами среди изогнутых и завитых штопором рельс. А в междупутном пространстве, шагах в сорока от края ямы, накрытая серым непромокаемым плащом, лежала маленькая седоголовая мертвая женщина. Ребята из лагеря «Светлое» осиротели на этот раз окончательно и страшно.