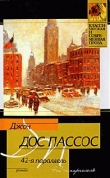Текст книги "60-я параллель(изд.1955)"
Автор книги: Лев Успенский
Соавторы: Георгий Караев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 52 страниц)
– Ишь, место нашел отдыхать! Нельзя тут! Полундра, брат! Вставай, вставай! – заворчал Кокушкин.
Затем, убедившись, что призывы его тщетны, он поднял замерзающего на руки и, отдуваясь немного, понес его к берегу.
«Ну, нет, Адольф, – бормотал он сквозь смерзающиеся усы. – Ну, нет! Не выйдет у тебя это дело! Этого мы тебе тоже не отдадим!»
Лодя Вересов нашел-таки дорогу домой.
Глава LI. ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
Весь октябрь месяц академик Петр Лаврович Краснопольский провел по правительственному заданию за океаном. Ему довелось побывать в различных частях взбаламученного надвигающимися событиями американского континента, но основная часть командировки протекла в Штатах. По правде говоря, ехал он туда без особой радости и интереса: не впервой; чего он там не видел? Впрочем, живая натура его умела извлекать пользу и удовольствие из каждого порученного ему дела, из любой встречи с новыми людьми.
В ноябре Петр Краснопольский вернулся домой после почти трехмесячного отсутствия. Он не узнал ни всей страны нашей, ни Москвы, ни даже своего Могильцевского переулка. Всё, на что падал его взор, совсем не походило ни на то, что он оставил здесь в день отъезда, ни, тем более, на тот образ находящегося на грани гибели государства, «России в агонии», который ежедневно, ежечасно, с лицемерным сочувствием, с плохо скрытым злорадством рисовали бесчисленные утренние, дневные, вечерние выпуски заокеанских газет.
Москва смотрела сурово, озабоченно, но и неколебимо, и, чем пытливее вглядывался старый инженер в окружающее, в лица людей на аэровокзале, в автобусе (он нарочно не воспользовался присланной машиной), на городских улицах, – тем спокойнее и светлее становилось его собственное лицо. Да, да! Так он думал и там, в Америке. Был убежден, что все эти лощеные «референты по восточному вопросу», знатоки «славянской души», «наблюдатели» и «руссисты» ровно ничего не понимают, выдают за правду то, что им больше всего хотелось бы видеть в действительности. Он так и знал! Но радостью было воочию убеждаться в том, как нелепа, как безмерна, как беспомощна эта американская ложь... «Россия накануне гибели»? «Москва беззащитна»! Гм! Посмотрим, мистер Болдуин и все юркие борзописцы из многочисленных газетных трестов... Напрасно вы взирали столь скорбными глазами на советского авиаконструктора! Пообождем – увидим, кто окажется прав!
Уже в пригородах он заметил бесчисленные, через каждые полкилометра вырытые танковые рвы, серые шеренги пирамидальных бетонных надолб – каменных солдат современной войны, – пересекающие дорогу. Там и сям в глаза бросалась узко прищуренная щель еще не замаскированного дзота; круглился в самом неожиданном месте, где-нибудь под табачным или пивным ларьком, стальной колпак с торчащим из него стволом пушки.
Возле, за прикрытиями, отдыхая, лежали на земле аэростаты заграждения. Опытный военный заметил бы, пожалуй, во многих местах поднятые в небо хоботы зенитных пушек. Тысячи людей, не довольствуясь уже сделанным, всё еще что-то строили, рыли, взрывали. Тут они тащили огромные бревна, там работали у бетономешалок, в третьем месте отдыхали у костерков, возле бесчисленных лопат, составленных в пирамидки. Тысячи людей, москвичей... «Москва беззащитна»?! Эх, идиоты!
Петр Краснопольский всю свою жизнь поклонялся великому богу – работе. Мало кто в такой мере умел сам работать, как он; мало кто так умел наталкивать на работу, приучать к ней и других людей. Он не то что не любил, – он панически боялся безделья. И сейчас зрелище огромной, дружной, напряженной, без видимых признаков торопливости работы подействовало на него, как лучший успокоитель. Он всегда был твердо убежден в одном: любой человек, если будет много и честно работать, может сделать многое. Если же работать примется весь народ, – он может всё. А народ работал!
Петр Краснопольский протирал рукой потеющие стекла, вглядывался в подмосковный, уже совсем зимний пейзаж! Нет, нет! Это совсем не походило на то, что он видел во Франции полтора года назад, что так хотели бы обнаружить теперь и у нас в СССР американские журналисты... Ни паники, ни отчаяния. Сосредоточенный, организованный труд, да!
Самой Москвы он в тот вечер не рассмотрел: стало уже совсем темно.
Дома на Могильцевском тоже всё было по-новому. Скульптор Краснопольская, жена, с несколькими своими ближайшими приятельницами, уже давно выбыла в Новосибирск: воздушные тревоги удручающе действовали ей на нервы. Гм!.. Ну, что ж, выбыла так выбыла... Под бомбами мало кому нравится сидеть, хе-хе!
Зато Иришка налетела на него ураганом; вот кипучая энергия в этом легком девичьем теле! Во-первых, три дня в неделю она училась на краткосрочных курсах медсестер: «Папа! Я скоро уйду на фронт!» Во-вторых, почти через вечер ей приходилось участвовать в шефских концертах по воинским частям, у окопников, по госпиталям... «Папа, если бы ты только знал!..»
В-третьих... Да, ничего не поделаешь, в-третьих – она была влюблена... Влюблена?! Так-так! Самое подходящее время! Очень хорошо; но в кого же, если это не военная тайна?
Нет, тайной это не являлось. Это был всё он – тридцатишестилетний летчик, Евгений Федченко, теперь уже капитан. «Ой, если бы ты знал, что с ним было... И, папа, – я так счастлива: лучше его не может быть человека!»
«Так-так, конечно, конечно! .. Ну, что же, очень печаль... То есть, прости меня, очень радостно; я это хотел сказать... Только что же я-то должен при этом делать? Ты маме написала? Ну, и она? Ах, так? Ну, тогда... я не против, нет... Довольно странно но...»
В доме, кроме Ирины и самого главного «деспота» их семьи, Анны Елизаровны, еще маминой нянюшки, были теперь случайные постояльцы: маленькая, озабоченная, но всё же удивительно жизнерадостная женщина, Сильва Габель, скрипачка и музыковед, из числа Ириных старших музыкальных знакомых, и – прямая ее противоположность – плечистый, высокий сдержанный человек, комбриг Павел Лепечев, видный артиллерист, человек давно и хорошо в этом доме известный. Вот кого – самородок же, талант, кремень! – Петр Краснопольский увидел с искренней радостью.
– Павлуша, друг! Наконец-то... Ну, ясно, всё понимаю... Не высидел и рвешься туда?
Да, это было именно так. Комбриг Лепечев – один из последних комбригов, ожидавших перед войной переаттестации на генерала береговой службы, – сам добился в свое время перевода на Охотское море. Тогда был мир; работа была одинаковой везде, а в Ленинграде ему после гибели жены было слишком тяжело оставаться.
Но теперь, когда на западе всё грохотало, когда вражеские пушки били по пирсам и причалам Кронштадта («Кронштадта, Петр!»), разве он мог высидеть там, на краю света? Человек дисциплины, он не надоедал командованию; нет, он ждал (люди иной раз на себе чувствовали, что у комбрига творится на душе). Но когда туда, за десять тысяч километров от войны, наконец, прибыл срочный вызов, Павел Лепечев не задержался ни единого дня. Теперь он имел уже свои пожелания. Он хотел вернуться именно на Балтику, в Ленинград, в Кронштадт.
Доктор технических наук, действительный член Академии наук Краснопольский посмотрел на своего приятеля с некоторым сомнением...
– Гм... В Ленинград? – прищурился он. – А ведь это, знаешь ли, еще бабушка надвое сказала... В бой, в бой! Все хотят теперь в бой... Ленинград защищать!? Да еще не известно, где главная линия Ленинградской обороны проходит. Да, там, не буду спорить; но и здесь... А может быть, даже где-нибудь на Урале, где тебе для Ленинграда пушки придется лить... Все вы теперь в бой рветесь, старые зубры. А в тылу кто же будет дело делать? Посмотрим, поглядим...
Павел Дмитриевич зашумел, не хотел и слушать. Но через несколько дней выяснилось: Краснопольский-то угадал правильно, – комбригу приходилось задержаться в Москве – «впредь до особого распоряжения».
Комбриг, по словам Анны Елизаровны, «рвал и метал». Впрочем, рвал он главным образом черновики бесчисленных рапортов, ходатайств и заявлений. А метал сочувственные взгляды на Сильву Габель, скрипачку.
Сильва Габель оказалась в Москве проездом из Средней Азии, где работала летом ее музыковедческая экспедиция. Совершенно так же, как Лепечев, она рвалась теперь в Ленинград. Там, в Ленинграде у нее затерялась дочка, девочка, Марфушка. Где она? Что с ней?
С самого лета от Марфы не было никаких сведений: последняя телеграмма пришла из Луги что-то еще в конце июля. Темные слухи, которым Сильва боялась верить, доходили порой: кто-то слышал, будто часть Светловского лагеря была захвачена фашистами... Кто-то говорил, будто ее Марфу видели осенью на Калашниковской набережной во время погрузки эвакуируемых на баржу; она «выглядела очень плохо».
Сильва писала сотни писем всем знакомым. Одни, как Владимир Петрович Гамалей, ничего толком не знали. Другие – хотя бы Милица Вересова, несомненно оставшаяся в городе, – не отвечали ни звука... Сильва Борисовна переходила от отчаяния к надежде, кидалась из одного московского учреждения в другое, добиваясь вещи по тем дням необыкновенной: разрешения ей, гражданскому лицу, на въезд в Ленинград. И когда? В ноябре сорок первого года!
Слово «Ленинград» открывало тогда все двери по всей стране. Маленькую смелую большеглазую женщину принимали везде заботливо и участливо, даже с почтением. Ей всячески шли навстречу. Однако основную ее просьбу не представлялось всё же возможным удовлетворить.
И вот то, что комбриг Лепечев столь же страстно рвался туда же, в осажденный город Ленина, то, что и у него там осталась девушка дочь (да еще Марфина одношкольница), – всё это быстро сблизило двух таких совершенно разных людей.
К тому времени, как Петр Лаврович водворился у себя в доме, они были уже дружны. По целым часам они повествовали друг другу свои надежды и огорчения, обдумывали совместно планы дальнейших действий.
– Ну, «Сильва, ты меня не любишь!» – говорил ежедневно, возвращаясь из своих хождений по почетным мукам, комбриг, – всё ясно! На той неделе лечу... Ну, о чем может быть разговор!? Дадут мне флотский «дуглас»... да неужели же я как-либо вас не пристрою? Моряков не знаете!
Но дни шли, а он всё еще не улетал.
Дни эти были особыми, незабываемыми, нелегкими. По ночам, когда город смолкал, стоило открыть форточку, и вот в комнату издали начинал врываться какой-то смутный далекий гул, точно бы тяжелое, прерывистое дыхание. Скрипачка прислушивалась, а старый артиллерист супился: да, да! Там, на западе!.. И даже, пожалуй, на северо-западе... Постреливают!..
Всё время все, от Иры до Анны Елизаровны, поминутно включали радио. Каждое слово о фронте, о том, что делается там, за взвихренной снежными бурями далью, било по сердцу одинаково всех. Москвичи с замиранием сердца следили за тем, как щупальцы немецкого фронта тянулись к Тихвину, стремились охлестнуть вторым, более страшным, кольцом Ленинград. Ленинградцы не могли удержать злой дрожи, натыкаясь в сводках на горестно звучащие имена: Калинин, Ржев, Клин...
И Сильва Габель и Ира Краснопольская, по женской слабости, даже имея возможность слушать авторитетных специалистов, самых умудренных опытом и осведомленных посетителей хозяина, за настоящим успокоением шли всё же к Анне Елизаровне. Да, нечего греха таить: к ней что-то стал заглядывать и сам комбриг Лепечев, когда уж очень тоскливо и тревожно становилось на душе.
– Ну, русское сердце! – в шутливом тоне, а ведь совсем всерьез говорил он ей. – Что скажешь, бабушка Анна? Чем успокоишь? Эх, напоминаешь ты мне, Анна Елизаровна, мою прабабку Домну.
Анна Елизаровна, без очков, поглядывая порой вокруг себя, неустанно вязала шерстяные носки по заданию какого-то снабжающего фронт учреждения.
– А что мне вам говорить, Павел Дмитриевич! – отвечала она, быстро-быстро шевеля спицами. – Вы человек военный, не я, старуха. Всё сказано! Но ничего я такого худого не предвижу. Русский человек, что лозовый куст – рукой не сломишь: выпрямится...
Первая радость пришла оттуда, из-под Тихвина.
Двойная петля, которую враг накидывал на горло Ленинграда, была сорвана. Гитлеровские солдаты, увязая в могучих сугробах, наспех натягивая на себя русские полушубки и женские кацавейки, разбегались по дремучим лесам около Будогощи.
Советские люди, находившиеся вне свирепого вражеского кольца, еще раз по приказу командования, по слову партии, протянули крепкую руку помощи окруженному городу.
Эту сводку Ира и Павел Лепечев выслушали вечером девятого декабря. Павел Дмитриевич повеселел и оживился. Он с увлечением представил себе, как немецкие ефрейторы и оберсты будут теперь в бабьих кацавейках бродить по медвежьим и лосиным тихвинским лесам. «Я ведь там каждый пень знаю, Иринушка! Там наше охотничье хозяйство когда-то было; я там волков бил... Эх, жаль, что бил: волчишки бы теперь с фрицами хорошо поговорили...»
Это было поздно вечером девятого декабря, во вторник. А в пятницу, двенадцатого, после полудня, Петр Лаврович, позвонив из Наркомата домой, подозвал не Иру, а меланхолически размышлявшего о чем-то комбрига и таинственно посоветовал ему «не выключать радио».
– Почему?
– Так... Мало ли?
С этого мгновения у приемника было установлено настоящее дежурство. Даже Анна Елизаровна со своими клубками перебралась в кабинет академика. Впрочем, комбриг не выдержал и помчался в город к каким-то флотским друзьям: «Может быть, они чего-либо уже знают?»
Когда он, как ураган, прилетел обратно, в квартире царило уже общее ликование. Радио неоднократно повторяло сообщение Совинформбюро. Ира в волнении записывала названия упоминаемых в нем мест, цифры потерь врага...
– Погнали! Погнали! Анна Елизаровна, родная! – Дождались-таки мы этого дня! Погнали проклятых! – еще в прихожей, торопливо скидывая шинель, гремел Павел Лепечев. – Ира, Сильва Борисовна, да где же вы?... Он ворвался в кабинет, закружил Иру по комнате, обнял Сильву, расцеловал Анну Елизаровну.
– Второй раз! Во второй раз спасли Москву... И Москву и Родину! В девятнадцатом году и теперь!
Несколько дней после этого всё в столице ходило ходуном. Вернули Клин, освободили Калинин. В газетах описывали сотни пленных, брошенные на дорогах танки, захваченные на аэродромах самолеты противника.
Пятнадцатого как будто числа, как снег на голову, к Краснопольским свалился Евгений Федченко. Ира чуть не умерла от волнения, услышав условленные между ними три звонка у двери.
Евгений Григорьевич сопровождал танки Катукова в их отчаянно смелом рейде по лесам во фланг противника. Он видел сверху всё: бегущие немецкие дивизии, дороги, полные поверженных врагов, овраги, битком набитые брошенной «техникой».
Он сидел за столом, пил, когда ему подливали, улыбался Ире, держал в своей руке ее маленькую руку, но было видно, что сердцем он не тут, а всё еще там, над этими дымными и рокочущими полями первой радости, первой победы.
Евгений Григорьевич пробыл в доме несколько часов и умчался. Даже у Иры не омрачилось в минуту расставания лицо: такими бесспорными представлялись и его право и его обязанность воина и коммуниста быть там, где решалась судьба Родины.
Петр Лаврович проводил летчика до дверей и вернулся в кабинет.
– Месяц назад, – заговорил он, – этакий мистер Болдуин, обозреватель нью-йоркских газет, там, за океаном, предлагал мне на одном приеме пари – сто против одного! – что Москва, конечно, будет взята Гитлером к первому декабря, но что японцы даже и тогда не рискнут напасть на «дядю Сэма...» «Мы не вы, мистер Краснопольский, – говорил он, перекладывая из угла в угол рта толстенный свой мундштук, – Америка не Россия. Мы не позволим захватить врасплох!»
Ну... так вот: я не удержался, комбриг, послал ему сегодня поздравительную телеграмму. Не захватили! Читали про Пирл-Харбор? Эх, позор! Эх, разгильдяйство! Эх, торгаши несчастные! Да, действительно Америка не СССР!
И они оба, покачивая головами, иронически улыбались.
В тот радостный вечер все засиделись очень поздно. Даже Петр Лаврович не ушел к себе работать. Говорили, строили планы дальнейшего развертывания больших событий, мечтали и о своем. Потом Сильва, взвинченная, возбужденная, прошла к роялю, и мощные, буйные аккорды бетховенской «Застольной» как бы расширили комнату:
Выпьем, ей богу, еще!
Бетси! Нам – грогу стакан,
Последний, в дорогу!..
– Так вместе в дорогу, Павел Дмитриевич? – спросила Сильва Габель, закрывая крышку. – Вместе в Ленинград?
– Ну, а как же «Сильва, ты меня погубишь!» – весело ответил комбриг. – Обязательно вместе!
А на следующий день произошло то, чего он никак не ожидал. Сильва ушла утром к каким-то друзьям, обещавшим ей содействие в получении пропуска.
Уже смеркалось, когда, позвонив по телефону, она застала во всем доме одну-единственную Анну Елизаровну и наспех сообщила ей, что всё переменилось. Через час она улетает с бригадой артистов на Мурман, а оттуда – в Ленинград. У нее нет даже времени забежать на Могильцевский. Она умоляет Анну Елизаровну поблагодарить от нее и Петра Лавровича, и Павла Дмитриевича, поцеловать крепко-крепко Ирочку. «Нет, нет, ни минутки нет! Прощайте, Анна Елизаровна, милая...»
Павел Лепечев бушевал весь вечер: «Да куда же это она унеслась, несчастная? Почему же Мурман? С кем? На сколько? Эх!» Он очень досадовал: ему как раз сегодня наверняка обещали Ленинград, и притом на ближайшие дни. Уж чего бы вернее!
Однако даже в Новый год он, в новенькой контр-адмиральской форме, еще принимал поздравления от окружающих: переаттестовали! Пятнадцатого января он всё еще сидел в Москве, а отбытием и не пахло.
Раздражал его к тому же ужасный непорядок, воцарившийся в переписке с дочерью, с Асей. Письма от девушки приходили теперь в Москву совсем нелепо: сразу с двух сторон: то прямые, из Ленинградского кольца, то возвратные – из Владивостока. Ася никак не могла сообразить, которые же из них дошли, которые еще нет. Создалась удручающая путаница.
Наконец, только двадцать восьмого января, Павел Лепечев явился на Могильцевский, сияя, как новорожденный: назначение на Балтику – конечно, по артиллерийской части! – лежало у него в кармане кителя.
Тридцатого он улетел, а на следующий день, как это постоянно случается, пришло очередное письмо от Аси, писанное еще в ноябре. Павел Дмитриевич поручил Ире вскрывать все его письма (мало ли? А вдруг что-нибудь экстренное?). Поэтому она сунула нос и в этот конверт и едва не заплакала от досады:
«Вот что интересно, папа! – было написано в этом письме. – Представь себе, как тесен даже военный мир: я тут, на Южном берегу, в лесу, на позициях, в батальоне морской пехоты, вдруг наткнулась на свою одношкольницу, Марфу Хрусталеву, дочку известной скрипачки Габель. Мало того, – эта шестнадцатилетняя девчурка теперь краснофлотец и смелый снайпер...»
Ира, не читая дальше, схватилась за голову: «Сильва, сумасшедшая! Где она теперь? Как ей сообщить это?»
Пошумев и подосадовав, Ира махнула на это дело рукой: безнадежно! Она решила просто отправить письмо Павлу Дмитриевичу, как только тот пришлет свой ленинградский адрес. Ничего другого нельзя было придумать. Да, впрочем, и придумать ей было нелегко: темная туча поднялась на ее собственном горизонте.
В конце декабря капитан Евгений Федченко был внезапно и молниеносно переброшен куда-то совсем на другой фронт. Куда, – неизвестно. Он не успел даже известить об этом: за него сообщили новость его друзья.
Только за несколько дней до этого Женя, радостный, звонил ей в Москву со своего недальнего аэродрома. Еще бы: ему пообещали на первые три дня февраля месяца предоставить отпуск, чтобы он мог съездить в Москву и пожениться... Да, да! Пожениться!
После этого звонка она всё обдумала, всё подготовила, и вдруг... «Женя, милый... Что же это такое? Где ты теперь? Где я найду тебя... Женя?!»
Глава LII. «ПРИКАЗЫВАЮ СТРЕЛЯТЬ В ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ»
Еще в начале октября 1941 года фашистское командование окончательно убедилось, что разрекламированный на весь мир, расписанный по дням и часам штурм Ленинграда закончился поражением. Искусно и своевременно нанесенные могучие удары советских войск на других фронтах и беззаветная стойкость непосредственных защитников города обескровили гитлеровские дивизии. Десятки тысяч фашистских солдат легли в могилы на подступах к городу. Кольцо блокады замерло на месте.
Тогда внезапно и резко осаждающие переменили свою тактику.
«Уход из Ленинграда каждого лишнего едока продлевает сопротивление города, – так говорилось в приказе гитлеровского командования, изданном уже десятого октября. – Приказываю стрелять по любому человеку в гражданском платье, будь он даже женщиной или ребенком, который попытался бы пересечь линии нашего окружения».
Значит, гитлеровцы отказались от штурма города. Они перешли к его блокаде. Сделали они это, конечно, не потому только, что им вдруг стало жалко своих солдат: солдаты, пушечное мясо, были очень нужны им, но жалость – человеческое чувство, – она не свойственна фашистской душе.
Враги неожиданно перестали применять в Ленинграде свои испытанные «зажигалки», сократили интенсивность бомбежки. Однако получилось это тоже не по той причине, что им внезапно стало жаль архитектурных сокровищ или исторических ценностей города. Смешно говорить об этом; они вовсе не намеревались ничего сберегать для себя. Гитлер давно приговорил Ленинград к полному уничтожению; об этом было написано кровавой грязью на белых страницах «Плана Голубой Песец».
Значит, отнюдь не из гуманных соображений немецкие артиллеристы заменили сокрушительную бомбардировку города бессмысленным, нелепым, никакого военного оправдания не имевшим «тревожащим огнем».
В то время всё это было сделано отнюдь не случайно.
Гитлеровцы прибегли к новой своей тактике сознательно и с определенной целью: они сочли нужным постепенно превратить Ленинград в величайший из созданных ими «фернихтунгслагерей» – лагерей уничтожения. В самый огромный, в один из самых жестоких! В этом был тайный смысл блокады, как бы ни пытались впоследствии враги иначе истолковать свои действия.
Именно с этой целью бомбы, снаряды, фосфор «зажигалок» они заменили голодом. Голод – страшнее!
Они широко рекламировали ужасы ленинградской блокадной жизни. Они кричали о них на весь мир. Они очень хорошо знали, что делается в городе: Фреи и Этцели, их верные псы – шпионы, подробно осведомляли своих хозяев об этом. И они всё туже, всё безжалостней стягивали на горле миллиона людей свою железную петлю.
Избранный противником способ борьбы обещал, казалось, верный успех. Никогда не было ничего на свете страшнее немецких лагерей уничтожения – Майданеков, Бухенвальдов, Берез-Картузских. А теперь, зимой сорок первого – сорок второго года, точно таким же лагерем, только невиданного масштаба, стал бы и Ленинград, если бы судьба его зависела только от воли осаждавших.
Он был обнесен во множество рядов колючей проволокой, как Майданек.
У всех входов и выходов были расставлены сотни тысяч часовых, как в величайшем из Освенцимов и Дахау.
Для того чтобы все видели, как будут умирать приговоренные, были мобилизованы все средства – и глаза Кобольдов-Этцелей, и фотоаппараты фон дер Вартов.
Ни один человек не должен ускользнуть от голодной гибели: «Уход каждого едока из Ленинграда продлевает его сопротивление!»
Надлежало методически, спокойно, неуклонно уничтожать каждого такого «эссера» – едока, одного за другим. Тогда – так думали фашистские стратеги – сопротивление неминуемо сойдет на нет само. Голодные умирают, но не сопротивляются.
Рассуждения были математически точными. Но в них вкрался один великий просчет: они не знали, с кем имели дело. В советских городах жили не «эссеры», не едоки, а борцы. У них другие сердца!
Тобрук сдавался дважды, после нескольких недель голодания. Сингапур не выстоял и несколько дней. Армия генерала Паулюса, запертая под Сталинградом, не нашла в себе сил бороться. Берлин пал, как только был окружен. А Ленинград выстоял.
Это произошло потому, что Ленинград был не только городом русским, он был еще и городом советским, городом коммунистов. И ему помогала вся страна. Обороной его – оттуда, из Москвы, – руководил ЦК партии, руководил Сталин. Этим сказано всё.
Трудно, конечно, определять, что в потрясающей эпопее ленинградской блокады было более и что менее героическим и величественным.
Но всё-таки нельзя не сказать: одним из самых изумительных, самых невероятных и самых советских по духу подвигов всей войны был и останется навсегда подвиг «Дороги жизни». Наперекор природе, вопреки яростному противодействию врага, она в истории Ленинграда решила главное – связала часть с целым, осажденный город с советским тылом, с Москвой; она дала возможность подготовить ответный удар по врагу и спасти Ленинград.
Пережившие блокаду ленинградцы часто говорят и поныне: «самым страшным нашим врагом в ту зиму был мороз». Действительно, если бы не лютые морозы в начале сорок второго года, тысячи людей остались бы в живых. Холод лишил город света и воды. Он костенил тех, кто стоял в очередях и кто дежурил на крышах. Холод вернее, чем огонь, испепелял дома, которые нечем было тушить. Он высасывал последние силы из каждого, кто еще мог работать. Он одну за другой сжигал те капли тепла и жизни, которые еще сохранились в людях; а возместить их в это время было нечем.
Мороз был великим стихийным бедствием. Но именно на нем величественная сила народного духа, сила мысли и воли проявила себя: само бедствие было превращено в орудие спасения. То, что должно было убить великий город, воскресило его. Ладога рано замерзла. И тотчас же по ее еще не окрепшему льду Родина протянула Ленинграду могучую, всесильную руку помощи.
Гитлеровцы могли всё предугадать и предусмотреть, – только не ледовую трассу, созданную великой партией, мудрым командованием, могучей страной. А она-то и решила судьбу города-героя.
В осенние и зимние месяцы первого года войны Вильгельм Варт, друг Дона-Шлодиен, продолжал выполнять порученное ему задание. Он ведал фоторазведкой Ленинграда. Мало-помалу он стал знатоком этого дела.
По надобностям работы ему приходилось теперь бывать поочередно в различных точках передовой. Но почему-то чаще всего его влекло в тот бункер на высотке у деревни Пески, откуда осенью он впервые увидел Ленинград, бункер «Эрика».
Ему вздумалось написать этот удивительный город таким, каким он виден из щели блиндажа на рассвете или на закате, написать маслом... В сентябре он выполнил свое намерение. Потом ему захотелось повторить этот пейзаж в самых различных условиях: в полдень, в лунную ночь, во время дождя и даже в снегопады.
Солдаты маленького гарнизона менялись от раза к разу: небольшое кладбище за бункером в лощинке росло и росло. Варт почти не замечал этого. В его глазах люди были всё те же: одинаковые, мешковатые, дурно пахнущие, но всё еще исполнительные, послушные и не склонные размышлять, немецкие обыватели. Одни из них еще двигались в дотах, другие уже лежали в могилах. Война! Он глубоко презирал их, хотя относился к ним, как ему казалось, по-человечески.
С тупым равнодушием взирали и они на странного господина лейтенанта. Чудак-офицер, да к тому же еще граф, озябшими руками смешивал у них на глазах краски на палитре в то время, как мог бы спокойно попивать винцо в офицерском клубе в ближнем городе – Пушкине! Вольному – воля! Они не понимали его. В свою очередь и у них были интересы, непонятные и недоступные ему. Но в одном они сходились.
Десятки раз ночью лейтенант фон дер Варт выползал из блиндажа и, став на холме, подолгу смотрел вперед. Осажденный город притягивал его, как пропасть; он сам не знал, почему.
Небо вправо за ним и влево от него каждую ночь полыхало свечением немецких ракет. Очень далеко, километров за пятьдесят, если не более, впереди тоже означались такие же бледные вспышки – финский фронт. Но прямо перед глазами лежала как бы огромная черная полость. Нечто вроде таинственных «угольных мешков» астрономии. Там никогда не брезжило ни одной искры света, если не считать мгновенных розоватых зарниц артиллерийского огня. Там только в ночи налетов вдруг расцветал целый сад бледных подвижных лучей, бороздящих облачное небо. Там всегда, вечно, в одном и том же положении, стоял, – очевидно, над пригородным аэродромом, – вертикальный луч прожектора, точно воткнутый в небо штык.
Если там тлело порой что-то вроде теплого отсвета, то это было зарево одного из пожаров. Если оттуда доносился какой-либо звук, то только залпы русских пушек или глухие разрывы немецких снарядов. Только! Больше ничего!
И лишь однажды ночью, когда было очень тихо, предельно тихо вокруг, фон дер Варт вздрогнул.
В тот день со стороны города веял ветер, – не такой пронзительный, как обычно, но ровный и сильный. Варт высунулся случайно из бойницы. И вдруг... Ему почудилось это?..
Нет, нет...
Там, во тьме, чуть слышный в этом мраке, раздавался как будто далекий голос.
«Ленинград! Ленинград... Ленинград... Ленинград!» – плыло сквозь ночь с титанической силой повторяемое вдали слово, понятное и немцу.
Ему стало холодно. «Эй! Что это такое? – спросил он у солдата, вышедшего на минуту из блиндажа. – Кто это кричит там? Мне примерещилось или? ..»
Солдат приставил ладонь к уху.
– Нет, сегодня я ничего не слышу, господин старший лейтенант, – проговорил он минуту спустя совсем спокойно. – Но, видите... У меня, возможно, сера в ушах. Вот Гейнц Шмидт тот слышит их довольно часто. Это – русские... Это – их радио. Они... Они говорят с Москвой. И можно вас спросить, господин старший лейтенант? Вот лейтенант пропаганды объяснял нам всё: город – в котле. Жители все вымерли. Оставшиеся едят человеческое мясо и крыс. Что же, это всё вполне возможно, думаю я: жрать-то каждому хочется! Но сколько же месяцев можно есть друг друга? Почему же они не сдаются, господин старший лейтенант?
Вилли Варт уже спускался в блиндаж.
– Всему свое время, солдат, – неопределенно пробормотал он в ответ. – Всё имеет свой срок и предел... Терпение!
Но, вытянувшись на койке, он задал и сам себе тот же проклятый вопрос: «Почему и как они сопротивляются? Может быть, и впрямь какая-то неведомая сила протягивает им руку помощи? Но какая?»
Его прохватила знобкая дрожь рассвета. Да, да!.. Глухая тьма, холод, и оттуда, из этой обители смерти, далекий устрашающе мощный голос непокоримого города: «Говорит Ленинград! Говорит Ленинград!»