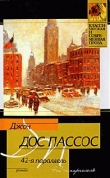Текст книги "60-я параллель(изд.1955)"
Автор книги: Лев Успенский
Соавторы: Георгий Караев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 52 страниц)
Немного спустя в комнату вошла высокая строгая старуха, очевидно хозяйка. Присев перед печкой, она подожгла заранее сложенные в ней дрова. Огромный, умудренный годами черный кот с глазами «вольта на четыре каждый!» – сказал бы Женя – сидел возле нее и смотрел на пламя. Потом женщина ушла. Кот остался. Выждав немного, он легко и независимо вскочил на Ирину койку, снисходительно, точно одолжение сделал, свернувшись у ее бока, и замурлыкал, запел, завел бесконечную привычную кошачью музыку.
Слезы, неизвестно почему именно теперь, брызнули из Ириных глаз.
Печка, громко треща, топилась. Теплые отблески бегали по стенам... Так, наверное, горел огонь и при нем. Так же мурыкал кот, так же потрескивал сверчок... Может быть, именно он не докурил вон того окурка, дочитал Шолохова только до этой страницы… Что же это такое, Ира? Неужели так оборвалась его жизнь, твоя любовь?
Ей приснился странный, нелепый сон, совсем бессмысленный, которого и рассказать-то нельзя... Какой-то душный, переполненный людьми вагон, чьи-то огромные чемоданы на полках. Что-то невыразимо страшное в этой вагонной тесноте и полумраке. Что? Контролер светил ей в лицо фонарем и сердито спрашивал: «Кто это? Кто это?», – а она всё никак не могла шевельнуть губами и ответить ему.
– Кто здесь? Кто это? Ирина?! Ира... Может ли быть? – закричали ей вдруг в самое ухо. – Это вы?!
Даже и теперь у нее не нашлось силы раскрыть глаза навстречу чуду. Она хотела, но не решалась сделать это. Но щеки ее медленно покраснели, руки потянулись вперед...
– Женечка... – вздохнула она, слабо улыбнувшись. – Я... так и знала...
Да, он пришел. Он был тут, с ней. Но как это могло произойти, было ей совершенно непонятно.
А произошло это вот как.
Два истребителя краснознаменного авиаполка, базировавшегося на соседнем аэродроме, возвращались из вражеского тыла.
В шестнадцать тридцать восемь ведущий Лебедев заметил огромный немецкий транспортный самолет. Тяжелая медленная машина, повидимому, только что взлетела и, крадучись, шла над лесом. Было ясно – самолет увозит в тыл каких-то не простых раненых. Добыча была такой легкой, что упустить ее было бы сущим грехом.
Просигналив Оганесяну, ведомому, Лебедев пикировал в хвост тихоходу. Немец, только тут заметив страшную опасность, завилял по горизонту. Оганесян, зайдя далеко вперед, прервал его наивные уловки.
Внизу был лес на огромное пространство. Сесть никакой возможности. Да и всё равно: произведи немецкий грузовоз посадку, два маленьких страшных врага мгновенно сожгли бы его на земле.
Каждому летчику понятен всемирный язык простых сигналов. Русские на этом ясном языке приказывали немцу идти прямо; не на запад, а на восток! Он и пошел на восток.
Совсем низко они пронеслись над фронтом: огромный немец и неотступно висящие над ним крошечные, но свирепые его преследователи. Немец увидел поемные луга по реке и пошел, снижаясь, над ними. Впереди была станция; аэродром рядом с ней. Махнув на всё рукой, немецкий летчик, без заходов, как шел, сел на этом аэродроме. Он еще катился по полю в облаках пыли, когда к нему подоспели первые машины с красноармейцами.
И пилот, и сопровождающие торопливо выскакивали из фюзеляжа, вылезали на плоскости, поднимая взерх руки с белыми тряпочками. Лебедев и Оганесян рулили к месту его посадки из разных концов летного поля.
Всё шло хорошо и обыкновенно, пока один из немцев, подчиняясь команде, не распахнул двери пассажирского помещения и пока в ней, опережая других, не показалась фигура коренастого офицера немецких военно-воздушных сил. Этот «фриц», размахивая руками, проявлял довольно неожиданные в пленном чувства. На чисто русском языке он «городил», – как определили механики, – «несусветное»!
– Ребята! Ребята! – вне себя кричал он. – Я свой! Я Федченко! Я у немцев случайно!..
Последовали бесконечные звонки из штаба в штаб, длительные разговоры, целая цепь запросов и бесед. Только очень поздно, уже совсем ночью, всё выяснилось и определилось. Да, это действительно был он, Евгений Федченко, а не кто-либо другой. Да, с ним и на самом деле произошла необыкновенная история. Одна из тех, которыми так богата жизнь людей-птиц, летчиков!
Разумеется, о происшедшем было сообщено в полк самого Федченко. Но радостная телеграмма пришла туда поздно ночью.
Дежурный по полку «заступил» на свой пост вечером. Его предшественник случайно ничего не сказал ему об Ире Краснопольской. Словом, девушку никто не потревожил до рассвета.
Еще затемно Евгений Федченко прибыл на связной машине на свой подмосковный аэродром. Тотчас же он доложил о себе, получил приказ отдохнуть и выспаться, а после обеда быть готовым к более подробному докладу, уже в Москве, у высшего начальства, и отправился на квартиру.
Ключ, как всегда, был у него при себе. Он открыл дом, потом дверь жарко натопленной комнаты своей. Лампа в ней была погашена, окна затемнены. И тогда в слабом свете из-под темных занавесок он с недоумением рассмотрел, что на его койке кто-то спит...
В Москву они прибыли уже в сумерки.
Где-то у заставы их захватила воздушная тревога. Машина заехала в ближайшую подворотню; они решили идти пешком: у Евгения Федченко был ночной пропуск.
На темной Таганке чернели тесно прижавшиеся к стенкам домов фигуры людей. Это трудящиеся Таганского района ждали трамваев, чтобы ехать куда-то к Лихоборам на ночные окопные работы.
Было знобко, темно, мрачно... Настороженность только что объявленной воздушной тревоги, беспокойного ожидания лежала над спрятанным во мраке городом. Где-то там наверху, вдали – может быть с юга, может быть с запада, – неслась к ним сюда крылатая коричневая многоголовая гадина...
Однако когда Евгений Федченко и Ира поравнялись с толпой, девушки-окопницы встретили их смехом, безобидными, но задорными шуточками.
Отвечая на шутки девушек, они вышли к Москве-реке. Здесь было светлее от беззвучной феерии прожекторов. Но вдали уже говорили зенитки.
По набережной и с моста в гору, невзирая на тревогу, катились в темноте машины, с приглушенными фарами. Тонкие лучики света, как иголки, пробивались кое-где в прищуренные щели щитков. Маленькая девушка-регулировщица на перекрестке таинственно помигивала во мраке то зеленым, то красным огоньком ручного светофора.
– Товарищи! Товарищи! – сказал озабоченный голос из подъезда. – Ну зачем же болтаться в открытую? Никто не говорит – бомба. Зенитного осколка вполне достаточно! Станьте под прикрытие!
Федченко и его спутница покорно зашли в нишу угловой двери.
Огонь зениток нарастал. Выстрелы сливались уже в сплошной рокочущий гул.
– Смотри, Женя! – проговорила Ира Краснопольская. – Смотри! Ой, ты погляди только!
Перед ними тускло отражала прожекторные лучи черная Москва-река. Вдали, за ее изгибом, громоздился на берегу Кремлевский холм. И вот, мало-помалу, зенитные разрывы, тысячи быстрых колючих искр слились наверху в сплошное огненное кольцо. Оно накрыло центр города словно пылающей шапкой. Оно было так реально, это кольцо, что отразилось слабым сиянием частью в Москве-реке, частью в Яузе. Спрятанная во мраке страна как бы обняла горячими руками свой Кремль, свою святыню.
Летчик Федченко, как и многие летчики, очень не любил быть на земле во время вражеских воздушных налетов. Он боялся! Тревожно поглядывая на тучу, он прислушивался к реву орудий.
Странный шум привлек его внимание. Что-то барабанило по железной крыше. Что-то нет-нет, да и плюхалось на землю перед ними, выбивая из булыжника мостовой крошечные голубые искорки. Осколки!
Случайно взгляд его упал на перекресток.
Машины шли с моста вверх, как если бы ничто не изменилось вокруг – военные машины, сплошной поток. Маленькая фигурка девушки-регулировщицы всё так же указывала им путь зеленым лучиком.
Он всмотрелся. Ей не могло быть больше двадцати лет, этой девушке. Она накрыла голову стальным шлемом и неторопливо поворачивалась на своем посту.
И вдруг неожиданно, от этого шлема на девической голове, от того другого огненного шлема, в воздухе над Кремлем, от глухого рокота машин, от воспоминания о девушках-окопницах в подворотне на Таганской площади, ему пришла в голову простая и ясная мысль.
Нет, не на подмосковных шоссе, среди испуганных войной беженцев и не на квартире Краснопольских нужно было вглядываться сейчас в лицо великого города. Что Екатерина Александровна! Настоящая Москва была перед ним теперь здесь. Надев шлем, она стояла на своем посту и, как всегда, светила во мрак непотухающими путеводными лучами.
Глава XLVIII. МАРФА У ЛУКОМОРЬЯ
Прошел сырой и уже снежный октябрь сорок первого года. Наступил ноябрь. В его окрепшем, застекляневшем воздухе почуялись признаки жестокой, более суровой, чем обычно, зимы.
За это время Марфа Хрусталева из романтического найденыша успела по-настоящему стать рядовым бойцом того батальона морской пехоты, на участок которого привел ее страдный путь по вражескому тылу.
В состав этого батальона она была зачислена, как только удалось проверить подлинность ее неправдоподобных на первый взгляд приключений.
Принимая девушку в свой батальон, комбат Смирнов не выразил особого восторга. Он имел в виду определить ее на какую-либо стандартную девичью должность; то ли санитаркой, то ли помощницей кока, то ли ординарцем. И если Марфа пошла по совершенно другому пути, в этом Смирновских заслуг не было. Наоборот, комбат сопротивлялся ее намерениям; правда – не долго и не достаточно энергично.
Через два или три дня после Марфиного прибытия в часть Смирнов, сам отличный призовой стрелок, в некотором недоумении вызвал к себе лучшего своего снайпера, старшину Бышко.
Коля Бышко являлся в батальоне широко известной фигурой; тому были две причины.
Прежде всего это именно он положил начало истребительскому движению на данном участке фронта. Уже в ранние осенние дни 1941 года Бышко записал на свой счет десять убитых фашистов (восемь врагов числились на его счету еще с кампании сорокового года). Одно это обстоятельство, конечно, принесло бы старшине всеобщее уважение и любовь.
Но широко известным он стал еще до своих снайперских подвигов и по совсем другому поводу: он единственный во всей бригаде, к крайнему негодованию снабженцев, получал на камбузе двойной паек. Старшина Бышко, Николай, имел 192 сантиметра роста. А для таких редких людей предусматривается на нашем флоте двойная норма питания. За это бойцы его сразу полюбили: какой у нас есть крокодил!
В то же время нельзя было без веселого удовольствия смотреть на эту добродушную громадину, так кругло и незлобиво было широкое лицо Бышко, так умно и иногда лукаво смотрели украинские карие глаза, так могуч, смирен, немногословен и иногда даже конфузлив был он сам.
Сгорбившись в три погибели, Николай Бышко в белом новом полушубке, в ушанке и валенках, пролез в то утро в низенькую дверь командирского блиндажа, насколько мог, распрямился там и, упершись головой в бревна наката, изобразил почтительное ожидание. Смирнов сидел за столом над картой. Совсем ничтожная по сравнению с Бышко девушка-краснофлотец, присев на корточки у печурки, кидала сосновые сучки в ее ревом-ревущую красную пасть.
– Вот, Николай! – сказал комбат, посмеиваясь (все невесть почему начинали улыбаться, как только видели Бышко). – Вот погляди: имеется налицо девушка. Звать – Хрусталева, Марфа Викторовна. Имеется у нас таковая! Вот! И внезапно она мне говорит: «Я – ворошиловский стрелок». И хочет она, изволишь ли видеть, начать снайперить. Тебе это понятно? Вот! На «точку» к тебе просится. А? Что скажешь? Возьмешься такую выдающуюся боевую единицу обучать?
Бышко уставился на «единицу» с легким испугом.
– Ну, что смотришь-то? Девушка, как все! Не видал никогда, что ли? Возьми испытай, как у нее со стрелковым делом. Ты же комсомолец: должен понимать, как смену готовить надо!
Бышко слегка потоптался на месте.
– Товарищ майор, – жалобно и тоненько сказал он наконец. – Это, конечно, – как будет приказ ваш... Ну только... Они же совсем неподходящие! .. Ей-богу... Они же – маленькие очень... Подросточек! Разве они сумеют?
Вот тут Марфа обиделась по-настоящему. Ну, ну! Она совсем не была подросточком, какие глупости! Она имела полное право! Она выходила из окружения! Она бежала из плена. Маленькая, маленькая, а... хорошо стреляют не только большие... «Вон у нас в лагере... И капитан Угрюмов тоже...»
– Товарищ комбат! – у огромного Бышко была одна слабость: он терялся, робел именно перед маленькими и шумливыми женщинами. – Я конечно, – почему ж? Я могу им испытание дать. Только потом... не велите в батальоне смеяться...
Испытание было организовано честь-честью.
Чтобы полностью застраховаться от насмешек, Бышко вызвал к себе на помощь, в качестве судей, обоих своих соперников по «бою», по стрельбе – Ивана Журавлева и старшину первой статьи Мижуева.
Зайдя за штабные блиндажи, в сосновом лесочке, они набили аккуратно на дерево небольшую мишень и, переглядываясь, потешаясь в душе над удивительным происшествием, дали Марфе в руки пистолет; тяжелый холодный «ТТ». Им было смешно, всем трем этим здоровенным опытным бойцам: «Ишь ты, отчаянная деваха какая! Снайперить хочет!..»
– Вот так, барышня! – проговорил, наконец, огромный Бышко, к удовольствию собравшихся зрителей, смотря высоко поверх Марфиной головы и слегка краснея. – Конечно, мне несколько граммов свинца не жалко. Так что, принимайте оружие и пять штучек возможных...
...Очень долго, в легкой оторопи даже, они все трое ковыряли затем древесину сосны под мишенью: пули были всажены сквозь черное яблочко одна в одну; а ведь эта отчаянная девчонка как будто даже и не целилась...
– Ай, Миколай! Вот диво!.. А-ай! – произнес нараспев Иван Журавлев, когда сплющенные кусочки свинца были, наконец, обнаружены. – Ты возьми у ей пистолет; пущай она с винтовочки попробуе... Винтовка-то дело верное, она шутить не дозволе... Дай ей винтовку, да отойдем подалее, хоть за той сумёт...
Всю жизнь Марфа Хрусталева, поражая своей феноменальной меткостью лагерных мальчишек и военруков, не могла побороть в себе некоторого страха перед громким звуком выстрела. Кажется, сегодня она впервые не боялась ничего. «Забыла испугаться».
Результаты превзошли ожидания. Странная девчонка стояла, чуть-чуть смутясь, на белом снегу и щурилась против яркого солнца ранней зимы. Щеки ее слегка зарозовели, волосы выбились из-под берета. Опять ни одна пуля не ушла за черное поле яблочка!
Иван Журавлев теперь молчал, только поглядывая то на мишень, то на девушку оторопелым взглядом.
Громадный Николай Бышко вертел бумажку так и сяк в своих могучих руках, и широкое лицо его понемногу расплывалось всё шире и шире.
– Ну... я извиняюсь, товарищ Хрусталева! – проговорил он, наконец, оглядывая Марфу с застенчивым восхищением. – Видать, этому делу мне учить вас долго не придется; так, если только шлифовочку дать маленькую. Ну, конечно: «точка» – дело особое... Это – не в тире тренироваться... Но... Как же, извиняюсь, не дослышал я майора, ваше имячко?.. И – по батюшке вас как?
Дней через пять в батальоне все говорили о необыкновенном стрелке Марфе Хрусталевой. Про нее уже рассказывали сказки. Ей сочиняли биографию, каждый на свой вкус. А Марфа, проявляя удивительное терпение, понятливость и скромность, под руководством своего неспешно изъясняющегося голубоглазого «профессора», «получала шлифовочку», проходила высшую школу снайперской стрельбы. Двадцать шестого октября, в легкий морозец, Николай Бышко впервые взял ее с собой на свою «точку».
Всё было тогда внове в этих делах для Марфушки Хрусталевой: и лес, по которому, волнуясь, пожалуй, больше, чем она, Бышко осторожно вывел ее за передний край наших позиций; и необходимость несколько часов подряд пролежать на сухой осенней земле в густом кустарнике, невдалеке от противника, и то, что в круглый глаз окуляра винтовки Бышко она могла снова увидеть кусочек того страшного и ненавистного мира, из которого вырвалась месяц назад.
Винтовка Бышко была отличной, оптической, У Марфы такой не было. Ей дали пока самую простую, но дали и бинокль. А за спиной ее висел тот самый автомат, который она подобрала в страшном, мокром, как губка, лесу во время своих недавних скитаний.
Заботливый Бышко сам отчистил и просмотрел этот легонький «ППД» первых серий, с глубоко врезанной кем-то из его прежних владельцев монограммой на щеке ложа. Автомат был Марфе очень нужен: в тот день ей предстояло не столько действовать самой, сколько охранять своего учителя и присматриваться к его работе.
«Точка» Бышко была расположена на переднем скате холма. Чуть-чуть сбоку, у седловины... Враги время от времени показывались перед ней на той стороне маленькой долинки. Там, внизу, был колодец с хорошей водой; случалось, – они прокрадывались к нему с ведрами.
– Фриц тут у меня, товарищ Хрусталева, береженый, не пуганый, – заранее объяснил ей обстановку Бышко. – Вот на третьей точке, – там я их уже чуток пошевелил: остерегаются! А здесь им еще от меня никакой тревоги не было. Здесь, я полагаю, мы с вами еще кое-чего взять можем! Главное дело, – только бы себя им не показать до времени. На первые разки я их сам коснусь; повыше на горке буду брать, чтоб им насчет кринички не думалось... А потом – доведись хоть бы и мне на их месте, – и я бы главное подозрение не на этот гаек, [49]
[Закрыть]где мы сидим, взял, а вон на те сосенки.
Долго потом стояло в глазах у Марфы острое впечатление этого «случая номер один».
Когда враг появился там наверху, на горе, между избами, Бышко внезапно издал странный, негромкий горловой звук. Марфутка впилась глазами в свой бинокль.
И вот она опять, еще раз увидела его, немца-фашиста, увидела как бы совсем близко от себя. Желтовато-зеленый, в картузике, он показался на вершине гребня, правее деревенского гумна, странно знакомый, точь-в-точь такой, как и те, там в Павловске, в Красном...
«Точка» была выбрана Бышко очень удачно: бережёный и непуганый фашист даже не подозревал, что его могут видеть русские.
По-настоящему-то он был очень далеко, этот вражеский солдат; но Марфушке вдруг стало холодновато. «О, Kaninchen!» – как бы донеслось до нее издали... И опять промелькнули в глубине памяти красные руки, руки палача, над тазом с водою... «Ой, мама!»
Фашист вышел за гумно неведомо по какому делу: что-то маленькое и белое виделось у него в руках. Он нес это «нечто» перед собою.
Огромное тело Бышко всё спружинилось начеку. Марфино сердце заколотилось...
Помня инструкцию, она поймала было «цель» и на свою, обыкновенную, не оптическую мушку, но сразу же безнадежно потеряла ее. Она не слышала выстрела; ее даже удивило, когда желтая фигурка там, метрах в шестистах от них, совсем неэффектно споткнулась, сунулась вперед, перекатилась два или три раза через локоть и замерла под откосом.
– Вот так; правильно! – удовлетворенно сказал тогда вполголоса Бышко. – На бугорке я его клюнул. Раза три перекувырнулся; теперь пускай гадают, – откуда он битый? С какого азимута?
Потом наступил памятный для Марфы день. Это было уже после того, как двадцать восьмого октября выпал снег и остался лежать на всю ту жестокую зиму. В тот день сразу два фашистских солдата сошли к колодцу, с большой бадьей на жерди.
Бышко тихонько тронул Марфу локтем. Всё заструилось перед ней в окошке оптического прицела (ей временно дал в пользование свою личную винтовку комбат Смирнов); скрещение нитей заметалось по всем направлениям... В полной растерянности она рванула спусковой крючок, недостаточно плотно прижав к плечу ложу винтовки. Ее резче, чем обычно, толкнуло отдачей... Солдаты бросили ушат, и, скользя по натертой тропе, кинулись в гору.
Тотчас же щелкнул сухой выстрел старшины. Передний солдат упал поперек тропинки. Задний, споткнувшись о его тело, повалился тоже, вскочил...
– Чего испугалась, Марфа Викторовна!? – очень спокойно сказал ей в самое ухо Бышко. – Не жалей; злей врага не увидишь! Бей, не думавши! По-комсомольски бей!
Марфушка с силой закусила губу. Что-то странное вдруг произошло с ней: в необычной графической точности и сухости явилось ей поле зрения ее трубы. Там была схема: желтобурый, с белыми пятнами снега фон. По нему, как бы цепляясь за нити окуляра, судорожными движениями слева направо, сверху вниз перемещалась плоская фигурка.
Мушка подошла снизу к ногам фашиста. Теперь Марфу очень легко толкнуло в плечо. Фигурка перестала двигаться.
Тогда она выпустила винтовку из рук на траву и, закрыв глаза, глубоко, судорожно вздохнула...
Огромный Бышко сам вогнал в лакированное дерево ложа ее автомата медный гвоздик с резной шляпкой: первый! Он не много говорил, Бышко; не слишком хвалил ее. Но широкое лицо его начинало светиться радостной улыбкой всякий раз, как он замечал неподалеку от себя «Марфу Викторовну».
Шестого ноября вечером Марфушка Хрусталева, как и все ее подруги по блиндажу, заранее забились в землянке штаба – слушать доклад Верховного Главнокомандующего товарища Сталина.
В те дни все мы трепетали за Москву: фашистские полчища лавиной катились прямо на ее пригороды. Калинин, Можайск, Ржев – всё это было в «его» руках. В Химках, в Останкине слышался грохот танков. Говорили, что тяжелая артиллерия врага вот-вот достанет до городских кварталов. И вдруг...
Весть о предстоящем передали из штаба укрепрайона еще с утра. Удивление, смешанное с великой радостью, охватило всех. Такого спокойствия, такой твердости перед лицом смертельной опасности как-то не ждали. «Слышали, товарищи? Значит, и в этом году будет парад на Красной площади! Значит, уверено командование, что Москва устоит! Ну, товарищи, вот это радость!»
В батальоне разговоры были только об этом. Бойцы с передовой умоляли, как только кончится доклад, сейчас же передать им туда самые точные сведения, – что Сталин скажет? О чем? Как? Ведь его устами будут говорить и партия и правительство!
Начальник штаба сто раз звонил и на радиоузел в Лукоморье и в редакцию газеты. «Кто знает, какая у нас будет слышимость; если плохая, – одна надежда на вас!»
Комбат Смирнов и военком вызвали к себе радистов.
– Ну, друзья! – многозначительно сказал им смуглолицый и сухонький комбат. – Сами понимаете: если подкачаете, если не сработает эта ваша механика, ну, тогда... Жизнь ваша станет прямо-таки скажу... бурундучья!..
Военком, желая смягчить несколько таинственную угрозу, заговорил о необыкновенной политической значимости этого доклада. Необходимо, чтобы его услышали все! Необходимо!
– Товарищи командиры! – взмолился тогда старший из радистов. – Да зачем... вы это нам говорите? Разве мы сами не понимаем? Да я ей паек свой за три дня отдать готов, рации! На шаг от нее не отойду: только вытяни, голубушка, только не подкачай!.. А вы...
Рация не подкачала.
Слышно было, правда, неважно. Все бесы эфирного моря, все помехи – и стихийные и идущие от злой воли врага – метались над снежными полями Родины, стремясь заглушить спокойный голос. Но он проходил через все препоны и звучал, звучал!
Замерла вся страна, сотни миллионов людей во всем мире, Сталин опять говорил из Москвы! Опять! Несмотря ни на что!
Молчание. Тишина. Легкий свист и потрескивание в пустом эфире. Потом издалека, глуховато, но так ясно:
«Товарищи!..»
Летчик майор Слепень слушал Сталина вместе с другими, в подземном помещении командного пункта в Горвалдае. Лодя Вересов слышал его слова в ленинградском кабинете Владимира Гамалея, забившись в угол большого кожаного дивана. В подвальном помещении пункта МПВО, собрав вокруг себя актив дома, слушал речь Главнокомандующего Василий Спиридонович Кокушкин.
Подполковник Федченко, Василий Григорьевич, проходил в это время по Невскому из штаба в управление коменданта города. Было уже темно. Началась воздушная тревога. В то же время шел обстрел Октябрьского и Куйбышевского районов. Только что один снаряд разорвался на улице Желябова, другой лег где-то рядом на канале. Над городом, в тучах, бродили «юнкерсы». И всё-таки около громкоговорителей стояли в холодном белесоватом мраке ранней зимы темные кучки людей.
«Товарищи!..»
Андрей Андреевич Вересов услыхал это обращение в Севастополе, на базе катеров Черноморского флота. Моряки замерли вокруг него; замер и он сам.
Истребитель Федченко не мог слушать доклад Сталина: он был в этот момент в воздухе, охранял западные подступы к Москве. Однако он был спокоен: свободные от вахты летчики, очинив карандаши, все, как один, готовились записывать для отсутствующих товарищей каждое слово.
Марфа Хрусталева сидела рядом с огромным учителем своим, в тесно набитом бойцами блиндаже. Было жарко, дышать нечем.
Открыли дверь, и белый пар заклубился у входа. Невозможно было кашлянуть, двинуться, пошевелиться – со всех сторон шикали на каждый звук.
Марфа слушала до шума в ушах. Она слышала всё. Она засмеялась вместе со всеми, когда говоривший уподобил Наполеона льву, а Гитлера – котенку... Ей стало вдруг тепло и спокойно, когда он объяснил всем, в чем корень ошибок немецкого генштаба, когда батальонный, громко захохотав, восторженно сказал:
– Слышал, комиссар? Ведь как высек немецких стратегов! Разложил и высек!
Марфа слышала всё, от первого слова до последнего.
Но потом, придя домой и стараясь припомнить слышанное, она восстановила в памяти прежде всего одно. Главным образом, одно – то, что больше всего ее коснулось, то, что всего глубже вошло в ее сознание:
– Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, – говорил товарищ Сталин там, в Москве, и слова эти слышали по всему фронту, по всей советской стране, – они ее получат!,.
Марфа Хрусталева была истребителем, снайпером. Значит, это она сейчас приняла прямой приказ. Теперь ей всё стало ясно!
Да, она должна была стать настоящим снайпером, «заработать себе оптику», – как учил ее Бышко. До сих пор у ней еще не было собственной винтовки с оптическим прибором. Бышко только под личную ответственность выпросил эту снайперскую высшую драгоценность у комбата. Теперь она должна получить свою! И не только она. Все! Она будет лежать на «точке» целыми днями. Она будет тренироваться. Будет бить врагов! Они захотели истребительной войны? Ну, что же? Они ее... получат!
Седьмого числа, назавтра, Николай Бышко и Марфа Хрусталева после беседы с комиссаром подписали обращение ко всем снайперам-морякам. Они призывали товарищей сделать всё что в их силах и как можно быстрее выполнить приказ.
Восьмого ноября это обращение было напечатано в районной газете.
Девятого к вечеру Бышко и Марфа уничтожили, действуя всё еще с той же «точки» в осиннике, каждый по одному фашисту у колодца. Полчаса спустя, однако, им едва удалось ускользнуть с насиженного места – таким бешеным минометным шквалом ударил вдруг по этой тихой рощице противник. Их «точку», наконец, обнаружили.
На следующий день они переменили место. Теперь Бышко, как мастер своего дела, обдумав за ночь положение, отошел много правее, на пологий лысый холм в редком лесу, усыпанный огромными серыми валунами.
Отсюда им была видна другая окраина той же деревни, два гумна и баня за плетнем. Еще накануне Бышко заметил: гитлеровцы, резонно убежденные, что в этом месте их никак уж не может увидеть глаз советского снайпера, начали совершенно спокойно сооружать что-то непонятное за гумном. Они врыли в землю невысокий столбик, как раз у перекрестка дорог, прибили к нему какую-то поперечину. Было похоже, что, не доделав из-за темноты своего дела, назавтра они снова непременно явятся сюда. Немцы – народ аккуратный!
Изучив место, Бышко сам занял позицию впереди линии наших дзотов в старой глиняной яме, внизу горы. Марфа же, слегка оробев, оставалась впервые одна-одинешенька в небольшой колдобинке между трех громадных обломков на самом юру, на голой вершине холма. От нее до Бышко было теперь метров семьдесят. Она видела отсюда то, чего не мог разглядеть снизу ее «инструктор». Оба вместе, они, таким образом, могли «взять в вилку», место, на котором фашисты, давеча поставили столб.
Вот тут-то, в четвертом часу дня, и произошло всё то, что сделало Марфу снайпером. Настоящим снайпером и настоящим человеком!
В розоватом свете начинающегося вечера, среди косых вечерних теней, три маленьких фигуры, темные на белом снегу, появились в ничьей зоне там, возле гумен.
Сначала ни Марфа, ни Бышко не сообразили, что это за люди и что они намерены делать. Но несколько секунд спустя обнаружилась странная вещь: из этих троих двое пришли сюда сами, а третьего они привели с собой. Они конвоировали его. Они его тащили силой, один раз его даже сильно толкнули прикладом в спину. Марфа так и впилась в окуляр своего прицела.
Почти тотчас ей стало ясно: готовится казнь, расстрел. Они поставили человека спиной к столбу, поговорили что-то между собой... Один из них взмахнул веревкой, но человек, сделав резкое движение рукой, отбросил веревку. Свившись змейкой, она упала на снег у подножья столбика.
Тогда, оставив приговоренного на месте, оба палача неторопясь пошли к стенке гумна.
Ни жива ни мертва, Марфа только теперь взглянула вниз, на Бышко. Да! Очевидно, ее предположения были верны: еле заметный в своем белом халате Бышко, в несомненном волнении, готовился стрелять. По которому? Нет, по правому: это у них было условлено заранее.
Время? Что такое время в такие минуты?!
Оба выстрела почти слились. Оба немца упали, но один, видимо, только раненый. Он отчаянным рывком метнулся уже по земле за серый угол здания. Должно быть, там он закричал в последнем своем смертном страхе.
Человек у столба мог ожидать всего, только не этого. И всё же он потерял не более нескольких секунд; может быть, четверть минуты. Сейчас же, встрепенувшись, спружинившись, он кинулся огромными скачками по снегу под гору. От леса его отделяло метров двести целины. На первой четверти пути скат оврага был ему защитой. Немцы не могли видеть его за ним... Холод и жар охватили Марфино тело...
Фашисты, прибежавшие на крик раненого, выскочили из-за более далекого гумна. Чтобы увидеть бегущего, им необходимо было подняться на гребень ската. Но это оказалось невозможным. Бышко или Марфа – трудно сказать, кто из них срезал переднего на первых же шагах. Трое следующих мгновенно бросились на землю и потерялись.
В следующий же миг, однако, Марфа заметила легкое движение за плетнем. Кто-то, маленький как ребенок, согнувшись, скрючившись, бежал теперь, прячась за изгородью, к бане.
Марфа задрожала: если он добежит, то скроется от Бышко! Тогда он дорвется до выступа горы, до куста, растущего на нем. Оттуда ему будет отлично видна и вся лощина и пробивающийся по ней, по ее глубокому снегу беглец... И тогда...