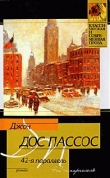Текст книги "60-я параллель(изд.1955)"
Автор книги: Лев Успенский
Соавторы: Георгий Караев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 52 страниц)
Вот почему он решил воспользоваться случаем; в Севастополе, куда направлялся корреспондент Дибич, жил тот человек, которого до боли не хватало его приемышу Лоде: там, на катерах Черноморского флота или на батареях служил Вересов-старший. Ни единого письма от него мальчик не получил. Это не было еще плохим признаком: письма в Ленинград из Севастополя могли не дойти по тысяче причин. Но теперь представлялась возможность не только отправить туда послание, но и получить ответ не позже, чем через месяц.
Сообразив это, Василий Кокушкия посоветовался с журналистом. Леонид Дибич отнесся к делу очень трогательно, по-товарищески: он не только пообещал назавтра зайти на Каменный за письмом, но и действительно зашел. Написанное письмо уже ожидало его. Лейтенант бережно принял его из рук Вересова-младшего, а поведение и манеры репортера навсегда пленили мальчика.
Никогда не видел он таких подвижных, веселых и неунывающих маленьких моряков. Никогда не слышал и такой затейливой речи.
Город Севастополь Дибич именовал почему-то с французским акцентом «Сэбастополь», самого Лодю – «стариком», а Лодиного папу – по-итальянски – «иль гранд-уомо», «великим человеком».
Начал он с того, что удивленно развел руками при виде дяди Васиной комнаты и плывущих под потолком кораблей-моделей, извлек из футляра фотоаппарат и «зафиксировал на пленке» и модели, и Лодю у стола, и самого дядю Васю. Потом из полевой сумки он вытащил объемистую записную книжку. К великому изумлению Лоди, обнаружилось, что в ней старлейт А. А. Вересов, комбатар «Волны Балтики», записан еще с осени, еще в Таллине. Про папу было записано многое – его возраст, его участие в рейде по вражеским тылам и то, что он – геолог.
Теперь журналист быстро приписал туда «Вересова, Всеволода, тринадцать лет, смотри Кокушкин, Вас. Спиридонович» и, пролистав странички до буквы «К», записал туда так много данных о дяде Васе, что тот даже немного нахмурился.
Затем журналист, поводя своим веселым носом и, видимо, на лету запоминая всё вокруг, наговорил еще много смешного и приятного. Он пообещал привезти Лоде «наставление от отца к сыну» не позже, чем ко дню печати («Надлежит знать, когда таковой празднуется, старик!»), и, помахав беспечно рукой «убыл» на «Сэбастополь – виа Москва».
Василий Спиридонович, попрощавшись с ним, остался дома, а мальчик счел долгом проводить корреспондента до угла Кировского. Тут они по-дружески расстались. Лодя осмотрелся вокруг себя.
Пониже Каменноостровского моста, прямо против городковского забора, здесь всю зиму простоял заброшенный трамвайный вагон – большой четырехосный вагон, моторный, но почему-то без прицепа. Стекла в его окнах были выбиты, хотя и не все. Снег, смешанный с их осколками, лежал на полу; бугельный пантограф на крыше опущен на своих шарнирах, точно прижатые уши животного. Сдвинуться с места этот вагон никуда не мог, потому что толстый медный провод, перебитый осколком, извивался над ним огромной петлей, захлестывая ветки ближайших деревьев. И вчера и позавчера, работая в городке, Лодя забирался на переднюю площадку этого вагона, трогал его контроллер, поворачивал рукоятку тормоза; всё это было можно.
Он хотел и сейчас сделать то же и вдруг широко открыл глаза. Удивительная вещь: когда же это случилось?
Проволочной петли не было. Провода над вагоном тянулись вверху прямо, как струны. Выбитые стекла вагонных окон были зашиты фанерой, пантограф поднят и касался провода, двустворчатые двери не открыты настежь, как всё это время, а плотно заперты... Не может быть! Неужели... неужели люди готовятся пустить трамваи в ход?
Лодино сердце забилось. Бегом (хотя дядя Вася запрещал еще ему бегать) мальчик пустился по мокрым аллеям к себе домой.
– Дядя Вася! Дядя Вася! – кричал он. – Вы пойдите только посмотрите, что там делается! Там трамвай отремонтировался! Дядя Вася, кончается блокада! Идите скорее...
Кричал он, однако, понапрасну: дяди Васи дома уже не было, – он куда-то ушел.
И вот благодаря этому еще одно замечательное – может быть, самое радостное из всех! – событие произошло с Лодей в этот же самый апрельский день, но к вечеру.
Василий Спиридонович еще не возвращался. Переделав все дела, мальчуган, как это бывало теперь с ним постоянно, выйдя во дворик, сел на свою любимую скамейку под окном.
Небо над городом розовело. Дышалось легко. Пахло совсем не по-городскому – мокрым снегом, талой землей, влажными дровами, рекой. Хотелось жмуриться и тянуться, тянуться без конца...
Посидев немного, Лодя обернулся к дороге, к улице; обернулся не без удивления: там послышались детские голоса. Ребята? Откуда? Действительно, высокий худенький мальчик в зеленом ватничке и две незнакомые девчонки, закутанные в теплые платки по плечам, неожиданно свернув с дороги, направлялись прямо к его скамье: «Интересно, что им нужно?»
Подойдя, они уставились на него все трое, видимо не зная, с чего начать разговор. Некоторое время и они и он молчали.
– Здравствуй, мальчик! – осторожно проговорила, наконец, одна из девочек, для приличия глядя не на Лодю, а на черепичную крышу домика базы. – Мы пришли к вам, мальчик, чтобы узнать: ты и есть тот мальчик, который чуть не умер? Ты уже замерзал, но тебя подобрал моряк. Нам дружина поручила...
– Да, – сказал Лодя, смотря прямо на покрасневший на легком морозце нос и маленькие голубые глаза этой девочки. – Моряк. Дядя Вася. Только я не умер...
– Я тоже чуть было не... – тонким голосом выговорила вторая девчурка. – Меня бригада нашла в квартире. А тебе теперь ничего не надо? Ты сытый?
– Сытый! – подтвердил Лодя, не очень еще понимая, к чему идет этот разговор. – Я теперь с дядей Васей живу; он политорганизатор.
– Может быть, вам помочь в чем-нибудь надо? – заговорил теперь и мальчуган. – Может быть, дров наколоть или вода не идет? Мы можем принести... Мы – пионеры, тимуровцы. У нас четыре бригады образовались; и вот мы узнаём, где есть люди без сил...
– Или старые люди, – озабоченно вставила девочка.
– Или старые люди... Мы таким помогаем. Твой моряк – он как?
– У нас, – быстро проговорила вторая девочка, видимо, стараясь не упустить самого важного, – у нас градусник есть для температуры... И зеркало есть: по дыханию узнавать, кто уже совсем мертвый.
Лодя призадумался. Он соображал, что сказал бы дядя Вася Кокушкин, если бы такая вот девчонка в рукавичках начала вдруг ставить ему градусник или пробовать зеркалом – мертвый ли он?
– Он старый... – неуверенно сказал он, наконец. – Конечно... Шестьдесят два уже! Но только он сильный. И нет: нам помогать не нужно. Мы буксир «Голубчик» чиним, «Голубчик второй». Дядя Вася сейчас придет...
Теперь мальчик, смахнув со скамейки, сел рядом с Лодей. Одна из девочек – пополнее – пристроилась тоже на уголку. Другая, которая выглядела совсем тоненькой, опустилась прямо на корточки против скамьи и вдруг засмеялась. Лодя посмотрел на нее вопросительно.
– А я теперь вспомнила! – сказала она с торжеством. – Когда был мир, ты один раз гулял с твоим папой и с мамой вон там, по Березовой аллее! У твоей мамы были си-ре-не-вые туфельки. И она – киноактриса, мне сказали!
Лодин подбородок вздрогнул.
– Это не мама моя была. Это мачеха. Она мне... не родная, – тихо сказал он, ковыряя пальцами скамейку. – Ее теперь нет...
– А папа у тебя где?
– На Черном море. Я ему сегодня письмо послал. Он теперь уже майор, наверное...
– А у меня папа убитый! – вздохнула девочка. – Он сапер был.
Они замолчали. Мальчик вдруг отвернулся и молча смотрел сквозь деревья на реку.
– А как тебя зовут? – спросила, наконец, та девчонка, которая всё еще сидела на корточках. – Ты, наверное, уже ме-ха-ни-чес-ки выбыл из пионерорганизации?
Лодя сконфузился: это ведь было его больным местом. Он промолчал: как сказать об этом?
– Давай поступай тогда в нашу бригаду. Работы – ужас сколько, а в этом районе как раз никого ребят нет. Очень мало! Ты ведь теперь уже отживился, потому что тебе помогли. А теперь и ты помогай другим тоже.
Лодя, нагнувшись, поднял щепочку и пропустил ею между своих стареньких калош узкий, но веселый ручеек вешней воды.
– Мне нельзя к вам, – после долгого молчания негромко возразил он. – Я... Я никогда пионером еще не был. Мне мачеха не позволяла.
И мальчик и обе девочки удивленно повернулись к нему.
– Не позволяла? Пионером быть? А она у тебя – что? Была... нездоровая? – спросил, наконец, мальчуган. – Как же тогда ты? Так и помереть можно, совсем одному! Только, знаешь, что я думаю? Если ты в Ленинграде всю зиму прожил, по-моему, ты можешь считаться пионером; правда, Валя? Мы поговорим с вожатой. Мы тебя оформим! А ты про какой буксир говорил? Это который против пионерского пирса стоит? А откуда вы его взяли?
Полчаса спустя они договорились обо всем ясно и точно. Да, да, конечно! Разве мог Лодя хотя бы одним словом возражать против новой дружбы, против того, чтобы, наконец, исполнилась его мечта?
Ему очень понравились все эти ребята, особенно девчонка на корточках. Варежки у нее были с красной шерстинкой, а посреди лба виднелась странная маленькая отметинка, точно кто-то клюнул ее между бровей. Сидя на корточках, она всё время пофыркивала в Лодину сторону, точно он был очень уж смешной, либо ей просто не терпелось хоть над чем-нибудь да посмеяться. Да и мальчик тоже был ничего, хотя и постарше Лоди. Его, видимо, больше всего заинтересовал буксир.
Они ушли, условившись, что поговорят в бригаде и придут к Лоде еще раз на той неделе.
Та девочка, которая просидела всё время на корточках, как татарка, перед тем как скрыться за углом, круто обернулась и вдруг высунула Лоде язык – довольно длинный. Потом она нахмурилась и важно зашагала дальше. На голове у нее был повязан светлорыжий башлык с серебряной галунной тесемочкой крест-накрест. Острый его кончик с кисточкой торчал вверх, как у гнома. На ремне через плечо висел небольшой электрический фонарик. Да, это была очень хорошая девочка!
Очень хорошо также, что они пришли к нему. Это такое счастье, что теперь, наконец, он станет пионером. Как все советские ребята!
Глава LXIV. «АЛЕКСЕЙ – С ГОР ВОДА, МАРЬЯ – ЗАИГРАЙ ОВРАЖКИ»
Тридцатого марта люди в Корповских пещерах, щурясь на вешнее сияющее небо, вспоминали: «Н-да... не даром старики говаривали, бывало: «Тридцатого марта – Алексей – с гор вода; четырнадцатого апреля – Марья – заиграй овражки... Ох, заиграют они нынче... Воды будет – во!»
Снег еще лежал повсюду, в лесу всё выглядело по-зимнему, но солнце уже начало топить полевые сугробы, а долинные речки заполняться талой водой.
Бургомистр Луги не так давно обрадовал коменданта города. Близка весна; скоро затопит все долы и лощины; лесные дороги станут непроходимыми и непроезжими; партизаны волей-неволей должны будут на добрый месяц прекратить или, во всяком случае, ослабить свою деятельность.
Иван Игнатьевич Архипов, партизан, не хуже бургомистра знал родную природу. Правда, основной лагерь отряда, расположенный в пещерах, не боялся половодья, напротив того, оно должно было обезопасить его полностью со стороны реки, с долины. Но Архипов прекрасно понимал, – на несколько недель связь со всем внешним миром неизбежно порвется. Самолет из Ленинграда опустился на лесном аэродроме едва ли не в последний раз, в дальнейшем – хорошо, если на парашютах удастся кое-что сбросить отряду. Совершенно немыслимым окажется прямое общение с товарищами, базирующимися в непроходимых болотах между озерами Вельё, Стречно и Мочалище, а главное – с подпольным райкомом. Надо было, пока не поздно, условиться о дальнейших планах.
Второго апреля главная связистка отряда – Лиза Мигай, как всегда, переоделась во всё «деревенское»: она надела валенки с желтыми резиновыми калошами, надела старенькое зимнее пальто, повязала на голову старинный теплый «плат». «Убогая», маленькая горбунья, не представляющая никакого интереса в глазах немецких караулов, отправилась пешком через Мстеру, Ящеру, Каменку и Селище туда, на Вельё, на остров Гряду. Там был условленный пункт встречи.
От Корпова до Велья-озера – километров шестьдесят с лишним. Лиза Мигай предполагала заночевать в Долговке у колхозников Мироновых. Там она всегда отдыхала во время своих походов.
Совсем спокойная, даже веселая, прошла она через хмурую, повергнутую в рабство Лугу, через Жельцы, где согнанные со всех сторон крестьяне сооружали на южном берегу реки оборонительный рубеж... Как это ни странно звучит, у Лизы на душе было очень ясно в те суровые дни. Удивительно просто и хорошо слилось тогда и в ней и в других советских людях свое собственное и народное, личное и общее, маленькие человеческие обязанности и большой долг перед Родиной.
Варивода проводил Лизу до совхоза «Жемчужина». Они простились в лесу над недостроенной Гдовской трассой. Он обнял и крепко поцеловал ее. Он очень строго повторил ей все те задания, которые ей надлежало выполнить. Кроме того, он раз десять приказал ей беречься, быть осторожной, не мучить его, Вариводу, напрасными задержками. И так легко дышалось именно оттого, что любовь к Родине и теплое чувство к этому человеку влекли ее в одном направлении; оба эти чувства не противоречили друг другу; они как бы подкрепляли одно другое!
Да, теперь и она была солдатом своей страны. Пусть в малой, пусть в незаметной доле, – она действовала так же, как действовали ее любимцы, все они – от князя Игоря до партизана Железняка, – все, кого неизменно, с трогательным постоянством, школьница Лиза Мигай избирала героями своих классных сочинений.
Но и он действовал так же, Варивода, Степа. Он был тоже солдатом Родины, и каким еще солдатом! И если они полюбили друг друга, то именно потому, что сражались вместе за нее, за Родину. За это, наверное, и выпало на ее долю такое неожиданное для нее счастье, любовь!
Она шла по талой вешней дороге и улыбалась в пространство тоже совсем по-весеннему. Только когда ей навстречу проносились тупомордые немецкие грузовики с солдатами, лицо ее внезапно принимало скорбное, унылое выражение; она становилась сразу на десять лет старше.
В деревне, однако, ее ожидала неприятность: на дверях Мироновской избы висел небольшой, покрытый инеем замок, самая тропинка к крыльцу была завалена снегом. Что-то случилось! .. Счастье еще, что у Лизы были дальнозоркие глаза; она заметила непорядок, еще не сворачивая с дороги. Теперь надо было идти прямо до второго пристанища, до лесной сторожки возле Ящеры, – километров восемь.
Она свернула посреди деревни в слабо освещенный вечерней зарей прогон, и тут, как на грех, навстречу ей попалась девчонка из соседнего с Мироновыми дома, этакая болтливая, бойкая семнадцатилетняя Тамарочка, которую у Мироновых не любили все, кроме их младшей дочери Нины. «А ну ее, болтунью!» – говорила про нее сама Мирониха, Зинаида Петровна. «Самая пустая, извиняюсь, девчонка, – поднимая брови, замечал и старик, – ничего в ней твердого нет!»
Тамарочка эта пробежала мимо Лизоньки, бросив на нее равнодушный взгляд неумных и нагловатых бараньих глаз, и, повидимому, даже не узнала ее, хотя они видели друг друга раза два еще зимой. Но Лиза заметила: девушка несла в руках большой немецкий баян. Немецкий баян?! Это сказало ей многое.
Зайдя за крайнее гумно, Лиза нагнулась, точно бы уронив что-то, и осторожно оглянулась вдоль улицы. Уже смеркалось; как следует ничего нельзя было рассмотреть, но сердце ее ёкнуло: на один миг ей померещилось, что Тамара тоже вглядывается ей вслед по снежной деревенской дороге. Было такое или нет?
Идя полем до лесной опушки, она передумала и так и этак. Если Мироновы арестованы, Тамарка может об этом знать. Немецкий баян?! Она, очевидно, бежит куда-то на солдатскую танцульку. Что ж скрывать-то? Есть и такие девушки!.. Тогда, очень просто, если она узнала Лизу, она сообщит об этом старосте. За ней могут пойти...
Лиза прошла с утра уже сорок с лишним километров. Ноги ее гудели, больную спину тяжело ломило. Она знала: стоит ей сесть или прилечь, бороться со сном она не сможет. Но привести за собой немцев к леснику Анкудинову, на второй свой запасный ночлег, она не имела права. Соваться к нему без предварительного выяснения, без разведки – тоже.
Вот почему, зайдя примерно на километр вглубь леса, она остановилась, подумала и затем, решительно свернув с дороги, побрела вправо вдоль канавы. Там, метрах в трехстах от проселка, – она это знала, – стояли стога.
Год назад Лиза Мигай, школьница, вздрогнула бы при одной мысли о таком стоге сена, высящемся в ночном пустом лесу. Теперь партизанке Лизавете Мигай этот стог представлялся самым лучшим местом отдыха, самым спокойным ночлегом на такой, как сегодня, «худой конец»:
Она умело вырыла с заветренной стороны глубокую пещерку в сенной горе, забралась в нее, радуясь теплу и душистой травяной мягкости. Тотчас же в сене запищали и зашуршали мышата, привлеченные ее теплом. Но Лиза, в отличие от Марфы Хрусталевой, никогда не боялась никаких зверюшек: «Бедные, – засмеялась она, сворачиваясь комочком на сухой подстилке, – ну, идите сюда лапы греть!»
Тотчас же перед ее глазами обозначилось во мраке открытое лицо, смешная, неправдоподобная борода Вариводы. Когда всё кончится благополучно, они поедут к нему под Черкассы. И там они будут жить. Долго-долго! «Степочка! Радость моя ненаглядная! Милый!..»
...Она не сразу поняла, как это могло случиться, что грубые чужие руки вдруг вытащили ее из сенной норы совершенно как зазимовавшего в стогу мышонка. Но потом она увидела собаку; большую немецкую овчарку с умной мордой и острыми ушами. Вот кто ее открыл!
Собака виляла хвостом совсем беззлобно и смотрела на нее удовлетворенными глазами: «Видишь, брат, как я тебя ловко нашла!» – казалось, говорила она. Эх ты, собака! Глупая ты, глупая! И ни в чем-то ты не виновата!
Впрочем, надо сказать, Лиза Мигай нимало не смутилась и не пришла в отчаяние. С собой у нее не было никаких документов, ни единой бумажки, кроме затертого сального паспорта на имя Катерины Разумовой, жительницы города Колпино, двадцати одного года от роду. У нее была еще торба, набитая сухарями и корками хлеба. Значит, она, Катерина Разумова, была нищей, кормящейся подаяниями в окрестности Луги. Мироновы? Да, что ж, она ходила и к ним... «Они хорошо подавали. Каждый кормится, чем может, господин офицер! Разве у вас дома в Германии нет горбатых нищих?»
Ответить она найдет что! Обойдется!
Шестого апреля по партизанской тайной почте до Вариводы дошло страшное для него известие: по доносу Тамары Матюшевой в ночь на первое апреля была арестована вся Мироновская семья, а еще через два дня, в стогу сена, в лесу, схвачена горбатая нищенка, назвавшаяся Катериной Разумовой из Колпина.
Пленницу отвезли в Лугу. Она сидит в комендантской тюрьме.
Варивода помертвел.
« 12 июня. Перекюля – Дудергоф. № 72.
Мушилайн, радость моя! Только что ко мне забежал ординарец нашего Гагенбека. Полковник – на седьмом небе. Его произвели в генерал-майоры и назначили в армию Роммеля; туда к Эль-Аламейне, на юг.
Год назад Африка расценивалась у нас, как место ссылки; теперь он ходит именинником! Это – не удивительно: во-первых, все мы до костей промерзли под здешним «гиперборейским небом»; мы просто не верим, что и тут рано или поздно может наступить весна.
Во-вторых, великая разница, – воевать с англичанами или с этими неистовыми русскими! Скажу тебе откровенно, здесь впервые мы узнаем, что значит слово «война», если его произносить всерьез.
Англичане воюют по-европейски. Попав в окружение, они слагают оружие. Если у них не хватает сил оборонять тот или иной пункт, они его сдают. Когда девять британцев встречаются с десятью немцами, они, предварительно проверив, на самом ли деле немцев десять, по-джентльменски выкидывают вверх носовой платок.
У этих же сумасшедших славян самое понятие «сдачи в плен» равноценно, очевидно, гражданской смерти. С их точки зрения, сдаться – неизгладимый стыд, даже если ты один, а противников сотня. Подавляющая численность не извиняет тебя в их глазах, ибо у тебя всегда есть «выход».
Это, конечно, справедливо, если под «выходом» подразумевать, как они это делают, смерть. Но, согласись, – это же варварский выход.
Наши летчики в непрерывной панике: они под постоянной угрозой тарана. Когда вражеский истребитель (а самолеты у них – прекрасные) видит, что ты ускользаешь от него, он устремляет свою машину прямо вперед и с яростной энергией врезается в твой самолет, разрушая его силой удара. Девятого числа так погибли два отличных пилота с соседнего аэродрома: русский «берсеркэр» [58]
[Закрыть]именно этим страшным способом превратил в щепки их «юнкере» над Ладожским озером. Конечно, при этом погиб и он сам; но русские с этим не считаются. Никто из наших не застрахован от их безумия. Наше счастье, что, повидимому, машин у них всё-таки недостаточно.И танкисты, содрогаясь, рассказывают о большевистских солдатах; они, случается, во время наших танковых атак кидаются со связками гранат в руках под скрежещущие гусеницы тяжелых машин, превращая себя в живые торпеды. Вместе с ними летят на воздух и наши экипажи! Известны случаи, когда отлично развивавшиеся танковые атаки срывались: водители соседних танков поворачивали обратно, потому что чудовищность этого самопожертвования леденила кровь в их жилах. С таким противником возможно всё!
Согласись, что это уже не война, а какое-то исступление! На днях за городом Гатчино при проезде через одну из деревень была вдребезги разбита легковая машина. Погибли шесть штаб-офицеров, конвойный и шофер. Под колеса метнул ручную гранату двенадцатилетний ребенок; кажется мальчик.
А Ленинград? Он попрежнему темнеет на нашем горизонте, – и только! По нашим сводкам, он всё так же окружен нами, сдавлен железной петлей, умирает голодной смертью. Но ни малейшего намека на колебание, на упадок духа, на склонность сдаться победителям! Хуже того: по ладожскому льду русские умудрились проложить автостраду, и эта импровизированная артерия, говорят, решила вопрос снабжения блокированного города. Она связала осажденных со страной, с землей-матерью, как выражается Трейфельд. Я не знаю, что думать об этом. Я растерян, Мушилайн!
Вот что тебе надо знать. Гагенбек, согласившийся завезти это письмо тебе лично, расскажет подробности: он очень мил, Гагенбек! Можешь быть с ним откровенной.
В первых числах апреля (нет, – в последних марта!) мы по радио дали согласие на возвращение к нам из Ленинградского котла через фронт некоего полковника разведки Шлиссера, просидевшего там с августа месяца и по сей день. Я писал тебе осенью о его отправке! Как, однако, не похоже на нынешнее было наше тогдашнее настроение...
Было условлено, что Шлиссер может вывести с собой, вырвав из рук Чека (сейчас, впрочем, это учреждение называется уже как-то иначе), еще одного человека – русскую кинозвезду, женщину с примесью немецкой крови в жилах. Она, по его донесениям и по другим данным оказала нам чрезвычайные услуги и заслуживает поэтому, чтобы ее спасли. Продолжать же ленинградское сидение стало для этих людей бессмысленным: русская контрразведка работает, невзирая ни на что, очень упорно. Организация, с величайшими затруднениями созданная там Шлиссером, собственно говоря, разгромлена. Он сам жил последние недели под угрозой ежеминутного ареста.
Мы ждали их прибытия не без вполне понятного волнения: свидетельство очевидца (да еще такого авторитетного, как Шлиссер-Атилла, один из самых опытных резидентов) должно было прояснить в наших головах путаницу представлений о жизни осажденного города.
Вообрази же себе наши чувства, когда неожиданно стало известным: из-за фронта явилась только женщина. Одна!
Шлиссер – человек риска. Он избрал для перехода линии смерти самый трудный вариант – ледяные поля Ладожского озера; того именно озера, по которому проложена русскими их ледяная дорога. Дорога, конечно, охраняется; но в бесконечной ледяной пустыне всё же легче проскочить через фронт, чем даже в самом глухом лесу.
Замысел был смел, но удачен. Под чужими фамилиями этим двум отчаянным удалось выехать на лед на русской грузовой машине, в момент, когда над озером шел воздушный бой и началась тревога. Смеркалось; с юга наползал туман.
Они убили по пути шофера и ушли на лыжах. Прикрываясь мглой и наступившей темнотой, они благополучно достигли линии русского сторожевого охранения; но тут им не повезло.
Фрау Милица (так зовут артистку; красивое имя, правда?) полагает, что русские посты никак не могли углядеть их во мраке; однако они, видимо, почуяли какое-то движение на льду, в тумане и в начавшемся легком снегопаде. Наугад, вслепую, была открыта пулеметная стрельба; выпустив несколько очередей, русские успокоились.
Тот, кто стреляет наобум, часто попадает чересчур метко; шесть пуль пронизали Гейнриха Шлиссера. Он не успел сказать ни одного слова.
Если бы противнику вздумалось пострелять еще, фрау Милица, возможно, также не имела бы удовольствия познакомиться с нами. Но большевики замолчали.
Тогда – какая нужна воля, чтобы выполнить это, Муши?! – тогда она сняла ощупью с тела убитого нужные бумаги и компас и стала ползком пробираться на юг.
Утро захватило ее далеко и от той и от другой стороны, но день был слишком ясным. Она, не решаясь встать на ноги, пролежала на снегу до вечера. Конечно, надо родиться и вырасти в такой стране, чтобы не погибнуть при этом!
Следующая ночь привела ее к нашему берегу; тут она, естественно, рисковала получить такую же пулю в грудь, как ее товарищ, только с немецкой стороны. Чистая случайность, что наш патруль заметил ее на расстоянии, слишком далеком, чтобы стрелять без предупреждения, и достаточно близком, чтобы расслышать ее немецкие фразы!
Ее подобрали еле живую от утомления и холода и доставили на твердую землю. Так она достигла намеченной цели.
Ты легко поймешь, что, получив первые известия об этой одиссее, мы нетерпеливо ждали прибытия ее героини. Почему именно мы, штаб тридцатой? Да по той простой причине, что именно через нас в сентябре ушел в Ленинград ее шеф и патрон, бедняга Этцель. После нас ей предназначен далекий и почетный путь. Я тоже ждал ее. Но, признаюсь, я рисовал себе могучего сложения существо, с геркулесовской мускулатурой, спортсменку, полумужчину, полуженщину... Тебе известно, большую ли симпатию во мне вызывает такой тип.
Вообрази себе наше изумление, когда мы оказались лицом к лицу с подлинной светской дамой, хрупкой, миловидной, обладающей крайне подвижным личиком и очень, – до неприятного! – выразительными красивыми руками; она умна, прекрасно, по-европейски, образована; свободно владеет тремя языками. Представь ты ее мне в качестве своей лучшей подруги, я бы был не только не шокирован, но, скорее, польщен. Речь ее сдержана и полна достоинства; немецкий язык – чуть старомоден, но безукоризнен. Никакой тени вульгарности... Словом, – совершенная неожиданность для нас.
Но вот тут-то и начинается главное.
Было бы долго рассказывать сейчас тебе всё, что мы узнали от нее о Ленинграде и о жизни в нем: это так странно, так неправдоподобно, так недоступно нашему пониманию, что я не берусь фиксировать такие сведения на бумаге, даже в письме, которое повезет Артур Гагенбек. Волосы становятся дыбом от недоумения и страха, когда слышишь о подобных вещах; в голову приходят мысли самые неожиданные. Мы просто не способны ни понять чувства, которые движут этими людьми, ни одолеть их упорство. У самой фрау Симонсон довольно своеобразный взгляд на своих сограждан и соотечественников:
«Их, – говорит она, – необходимо как можно скорее истребить. Всех, до последнего человека! Любая борьба с ними, любые попытки смирить их обречены на неудачу. Если миром завладеют они, нам негде будет жить в нем. Останется кто-либо один – либо мы, либо они. Рано или поздно вы это поймете также. Потому-то я и пришла к вам...» Ты слышишь?
Фрау Милица поселилась в домике невдалеке от нашего штаба. Она неизменно очаровательна и приветлива, хотя легкие облачка скорби затуманивают порою ее взгляд. В этом мало удивительного; она не скрывает, что Гейнрих Шлиссер был ее другом и что его смерть тяжело поразила ее. Этого мало: отчасти из документов, оставленных полковником, частично же по ее полупризнаниям, мы поняли, что на ее душе лежит кошмарная тяжесть: два месяца назад, сын ее мужа, двенадцатилетний русский мальчик, которого она очень любила, начал подозревать что-то в ее деятельности. И вот она, по приказу Шлиссера, умертвила его. Нет, Мушилайн, нет! Я не буду рад, если такая женщина вдруг окажется в числе твоих подруг. Не надо этого!
Собственно, боясь такой возможности, я и спешу рассказать тебе о ней всё. Генерал устраивает ей двухмесячный отпуск и поездку в сердце Германии. Он уже снесся кое с кем из своих самых высокопоставленных друзей в Берлине, и они заинтересовались новой находкой. Я не поручусь, что в один из майских дней на твоем балконе не возникнет это очаровательное видение... если она попросит у меня письмо к тебе, мне будет неудобно отказывать. Надо, чтобы ты заранее имела представление о ней, так как в рекомендательной записке вряд ли будут приведены надлежащие данные. Так вот – ты предупреждена. Остальное – дело твоего ума и такта.
Ты всё спрашиваешь о моем настроении. Оно смутно, дружок! Оно крайне смутно! Я сентиментален, как истый вестфалец. Мне трудно одного за другим хоронить близко известных мне людей, а это случается почти ежедневно. Помнишь оберста Эрнеста Эглоффа, которого я не слишком приязненно описывал в одном из первых писем отсюда? Этот могучий питекантроп погиб от руки партизан, и при этом такой смертью, что... Впрочем, кажется, я уже тебе это писал...
Помнишь ординардца Дона, юношу из Штольпа, по фамилии Курт Клеменц? Он завозил тебе посылку от меня, когда ездил в начале зимы в отпуск. Призовой стрелок и эсэсовец с тридцать девятого года, он вознамерился заработать орден и отпросился у генерала на две недели на приморский участок, где особенно свирепствуют русские снайперы-моряки. Ну, так вот, он тоже убит! Меня попросили написать сочувственное письмо его матери, и я, ночью, занятый этим письмом, как бы воочию увидел перед собой его смерть: дремучий русский лес, сугробы непролазного снега, и в тайной засаде плечистого бородача, с жестоким выражением маленьких глаз, прицелившегося в лоб совсем еще юному солдату нашей армии! Я начал набрасывать это итальянским карандашом, и думаю, что напишу такую картину. Она должна иметь успех.
Что же сказать тебе утешительного, Муши? Мы стоим на месте, а люди гибнут, как никогда. На склоне горы за моим домом – наше дивизионное кладбище. Оно растет с каждым днем; кресты выстраиваются на нем бесконечными шеренгами: мне кажется порой, что скоро вся тридцатая авиадесантная превратится в батальоны этих белых, из березовых стволов, сколоченных неподвижных крестов. Это страшно!
В известном тебе бункере «Эрика», который я посещаю часто, гарнизон на моих глазах сменяется уже третий раз. В то же время слово «партизаны» не сходит с наших уст, повсюду во всей армии. Правда, все говорят, что близится весна, время, когда холодные воды разлива рек должны затопить огонь этого пожара. Да, но за весной придет лето. Мы уже два года склоняли на все лады слово «война», а вот только сейчас русские научили нас понимать, что это значит. К чему всё это приведет нас, – не знаю.
Ну, что же, я вынужден кончать. Счастливец Гагенбек! Ему не терпится умчаться в Африку, а письмо повезет он. Горячо целую тебя и Буби. Пусть ему никогда не снятся партизаны, как они снятся его отцу!
Вилли».