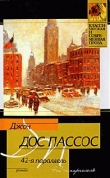Текст книги "60-я параллель(изд.1955)"
Автор книги: Лев Успенский
Соавторы: Георгий Караев
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 52 страниц)
У Андрея Вересова вдруг запершило в горле. «Ты ли это, Ленинград? – думал он, вглядываясь в смутные очертания. – Тебе ли выпадает такое на долю? Нет, нельзя же, нельзя допустить этого, никак нельзя!»
Машина катилась через Калинкин мост, по Садовой, к театру Оперы и балета. Она выехала уже на Театральную площадь, когда совершенно неожиданно зловещий свист снаряда перекрыл ее путь. Грянуло где-то совсем близко. Еще раз... По городу? Уже?
По улице Герцена полуторатонка выехала к Зимнему дворцу, потом к Кировскому мосту.
Здесь ее путь кончался; шофер сворачивал в крепость. Соскочив с грузовика, Андрей Андреевич чуть ли не бегом (проклятая рука! Болит всё-таки!) пустился по темному Кировскому к себе, к себе... Скорее!
У ворот его вдруг остановили: «Кто это? Кто идет?»
– Как кто? – сердито огрызнулся он. – Я иду; Вересов, из восьмой квартиры! Не видите, что ли? Скорее!
– Какой еще Вересов? – сказал очень ворчливый и недовольный старушечий голос. – Вересов у нас был Андрей Андреевич, так тот убитый давно... О господи! Да никак это вы, товарищ Вересов?..
Он пересек двор, раза три запнувшись о непривычные во тьме неровности мостовой. Хлопнула лестничная дверь; за ней было синё и тихо. Первый этаж, второй... Звонок, долгий, как всё его накопленное за целые недели нетерпение. Нерасчитанный, нерегулярный звонок! Легкие шаги за дверью... Спокойный, веселый, как всегда, бесконечно знакомый голос.
И вот...
Нет, он не знал, что это так получится.
...Ярко освещенная прихожая, желтое дерево вешалки у стены, зеркало возле двери, и около него бледное как смерть лицо жены, Мики. Белое, как известь, с широко открытыми, полными непередаваемого ужаса глазами!
На один миг... На тот единственный, которого даже лучшая актриса не сыграет.
Пошатнувшись, Милица Владимировна Вересова прислонилась к стене, чтобы не упасть. Потом, схватившись рукой за горло, – «Андрей! – проговорила она, видимо, ничего не понимая. – Андрей!? Ты? Не может быть...»
Ей много раз приходилось блестяще, с удивительным правдоподобием и искусством падать в обморок на сцене или под «юпитерами» кинофабрики. Теперь она сделала это неумело, бездарно, неестественно. В самом дурном стиле... Зато по-настоящему!
Но, вероятно, именно из-за этого он и не заметил того главного, что ему следовало бы заметить.
Очнувшаяся Милица лежала в постели. Она рыдала судорожно, отчаянно.
Дома, на счастье, оказалась маленькая домработница Варя, удивительно изменившаяся, совсем другой человек. Без нее что бы делал он, со своей раненой, еще не «восстановившей функции» рукой?
Варя помогла перенести бесчувственную Мику в постель. Варя – сон мигом соскочил с нее – помчалась на крышу за Лодей. «На крышу? – не понял Андрей Андреевич. – Ах, хотя... да, конечно... Варюша, милая!»
Лодя бросился к нему, прижался, как затравленный зверек. Не говоря ни слова, он стискивал отца всё сильнее, всё крепче. Он весь дрожал: и от страшного усилия не зареветь в голос, не закричать сквозь до хруста стиснутые зубы; сквозь них вырывался один только придушенный глухой звук: «м-м-м-м!»
Да, да, конечно, Андрей Вересов привлек его к себе: сын, сын!.. Он много раз без счета крепко целовал эту дорогую, не по росту большую, круглую, как шар, голову. Он что-то говорил, не ожидая ответа, сжимая его плечи, задыхаясь... Но... Мика, Мика?! Мика лежала в спальне, всё еще в полуобмороке... Думал ли он, что она так его любит? Надеялся ли он? Почти не смел надеяться!
«Лодя! Мальчик! Сын... Ты понимаешь, – мама...»
Полчаса спустя они опять все трое, как если бы еще ничего не случилось страшного, сидели в спальне на низкой и широкой, нерусского фасона кровати грушевого дерева. Большую лампу в фонаре наверху Мика не позволила зажигать: «Андрей!.. С этим теперь очень строго!» Поэтому горела только маленькая, над туалетом.
Гудел на кухне примус. На хрустальных флаконах туалета, на золотистых коробочках, бутылках с разноцветными лаками и кремами весело дробились пышные нарядные искры.
Лодя, зажав кисти рук в коленях, ни на секунду не отводил глаз от отцовского лица. Андрей Андреевич только похлопал себя по карману (выучился курить на фронте!), а он уже мгновенно понял: «Спички, папа?»
Раскрыв чемодан, Лодя благоговейно носил на кухню «сухой паек» – банки консервов, кету в пергаментной бумаге, две бутылки вина («Это еще Эстония!»), много пакетов с концентратами. «Немецкие! Или даже французские. Трофейные! Пригодятся!» – сказала Варя одобрительно.
Мика говорила: «Андрей... Я не понимаю. Мне же прислали такую ужасную бумажку... «Без вести пропал! ..» Я так боялась за этого ребенка! ..»
Он спрашивал: «Вы так-таки никакой телеграммы и не получили? Ну... безобразие! Ты знаешь, впрочем, мне Белобородов (ох, какой это человек! Если бы вы знали, что это за человек!), мне Белобородов...»
– Погоди; ты мне скажи лучше, – когда тебя ранило? Было очень больно?
– Больно! Ха! Тут, матушка моя...
– Адя! Это что еще за новости! Что за «матушка моя?!» Скажите, – старый морской волк! Нет, а ты знаешь: Всеволод вчера четыре «зажигалки» потушил... И я – одну. Милый, как ты загорел!.. Ты возмужал как-то... Милый!.. Да не смотри ты на одного Лодю... Посмотри и на меня!..
Вот тут он, пожалуй, обратил внимание на одну странность. Лодя не такой, как всегда. Да, Лодя глядел на него широко раскрытыми глазами. Да, Лодя отнял от матери его руку и не отпускал ее. Но когда он вытащил из чемодана замечательные для каждого мальчика вещи – немецкий разряженный снарядик, совсем целый, железный крест, наконец – пистолет с патронами, мальчик принял всё это не так, как обычно, не с тем шумным восторгом, какого можно было ожидать. Да, он обрадовался, конечно... Да, он еще теснее прижался к нему... Но он ничего не говорил ему...
Только раз он открыл рот:
– Пап? А ты... Ты когда опять уедешь?
И глаза его остановились на Андрее Андреевиче с таким страхом, что тот не рискнул сказать: «Девятнадцатого!»
– Это еще не известно, сын! – неопределенно ответил он.
«Наверное, бомбежки всё-таки его придавили... Ведь тринадцать лет, и... Зажигалки! Нет, завтра же узнаю всё, отправлю самолетом... Прочь отсюда обоих!»
Поспел самовар, яичница с колбасой. Откупорили трофейное вино старку. Потом Мика сказала: «Ну?..»
Обычно, когда Лоде приказывали: «Спать», начинались долгие прения, итальянская забастовка. Происходили «торги с переторжками» за каждые пять минут. На этот раз по первому слову он встал и пошел в свою комнату. Прямо подменили мальчика!
Андрей Андреевич, конечно, пришел к его постельке, попрощаться еще раз.
В спальне было полутемно. «Три-те прасенца» попрежнему таращили глазки и играли на скрипочках. Модель планерчика, как раньше, крутилась под потолком.
– Спи спокойно, мальчик! – проговорил Андрей Вересов. – Шесть дней – это куча времени. Завтра, куда я ни поеду, тебя с собой возьму! Ладно?
Лодя смотрел на него большими потемневшими глазами. В них была любовь – неистовая, сыновняя любовь и счастье, и благодарность, и робкая тревога... И еще что-то незнакомое было в них.
– Папа! – проговорил он, точно стараясь одним этим словом сказать всё несказуемое. – Па-па!..
В ту ночь, с тринадцатого на четырнадцатое сентября, немцы дали Ленинграду передышку. Их авиация не бомбила город. Их сухопутные силы, охватив город железным кольцом, занимали исходные позиции для штурма. Враг подошел вплотную к несуществующим, воображаемым «стенам» города. Ленинград лежал там, впереди и внизу, перед ними. Стоило ли особенно разрушать его? Два-три дня – и всё кончится! А утомленным войскам нужны всё же, после долгих походов, хорошие квартиры...
В ту ночь ленинградцы могли отдохнуть.
Нельзя сказать, чтобы Андрей Андреевич Вересов не заметил странного состояния, в котором пребывал в момент его приезда Лодя. Завтра он, безусловно, обратил бы на него должное внимание, даже если бы ничего особенного не случилось. Он бы расспросил мальчика. Ему – как ни страшно подумать об этом – пришлось бы немедленно на что-то решаться.
Но... Трудно даже обвинять его в чем-либо. Четыре месяца он не видел их обоих, был на волосок от смерти, несколько раз терял надежду на встречу. И вот он с ними на шесть дней. А потом?
Радость встречи, жадность к своему счастью заслонила перед его глазами в тот вечер самого Лодю. Он был по отношению к нему недостаточно внимателен.
Зато Мика, можно думать, не успустила из виду чего-то странного в настроении «этого ребенка». Должно быть, оно ее поразило; в момент приезда отца Всеволоду никак не надлежало бы быть таким. Что с ним? Что это еще за странность?
Лодя проснулся очень рано, потому что по его комнате кто-то двигался. Он чуть-чуть приоткрыл глаза. Мика?.. Да! Мика в одной рубашке и босиком, даже не в ночных туфлях, на цыпочках прошла по детской к его столу. «Лодя? Ты спишь? – спросила она еле слышным шопотом. – Тебя папа хочет видеть, мальчик!»
Вряд ли Лодя Вересов мог бы объяснить, почему он промолчал тогда. Он еще не был твердо уверен ни в чем. Его обманывали, – ну вот и он стал обманывать. Он не поверил. Но и Милица тоже ведь не верила ему; она стояла и прислушивалась.
«Нет, спит, должно быть!» – беззвучно сказали ее губы. Выдвинув ящик стола, она долго рассматривала там что-то, потом снова бесшумно закрыла стол. Лодя совсем замер, стараясь дышать глубоко и ровно. Ведь он «спал, спал»!
Светлая фигура постояла еще немного на месте. Потом она перешла к шкафику с книгами, оглядела полки, заглянула в старый короб с игрушками. Повидимому, того, что она искала, не оказалось и там.
Тогда она задумалась. Внимательно, вещь за вещью – где бы «это» могло быть? – она ощупала глазами всю комнату. Лодино сердце забилось: «она» шагнула к стулу, на который он, раздеваясь, вешал свою одежду.
Ей было нетрудно найти здесь то, что ее интересовало: ракетная гильза лежала в правом кармане штанишек. Но, еще до этого, она ощупала и левый карман курточки. Небольшая сложенная бумажка сразу же попалась ей под пальцы. Вынув, она развернула ее... «Буду субботу тринадцатого целую и Лодю папа». Долго читала она эти шесть простых слов. Аккуратно сложив бумажку, она положила ее на место в тот же карман. А потом... Потом она нашла и гильзу.
Лоде показалось, – она чуть-чуть вздрогнула. Стоя над стулом, она вдруг положила руку себе на лоб, наклонила голову и замерла. Грудь ее поднималась, ноги дрожали; правда, в комнате было прохладно.
Мгновение спустя, так же бесшумно она вернула на место и гильзу. Потом, подойдя к самой Лодиной постели, не издавая ни звука, пристально, неотрывно уставилась на спящего мальчика.
Долго он, вероятно, не выдержал бы этого взгляда. Но вдруг она выпрямилась. «Ну, что ж, – сказала она не громко, но уже и не шопотом. – Значит, так угодно судьбе! Думай обо мне теперь, что хочешь, маленький русский...»
Почему она сказала это? Что это значило? Он не знал.
Легко повернувшись, она ушла в дверь. А он остался лежать один, боясь шевельнуться. И «три-те булгарские прасенци, округленички, розовички» продолжали завивать над ним свои «весели опашчицы». Глупые «прасенцы!»
Два часа спустя он встал, потому что и папа и Мика тоже уже поднялись.
Опять урчал примус.
Мика стряпала сама. Трудно было поверить, – папа громко и весело рассказывал что-то, а она смеялась, как всегда, звонким стеклянным смехом, похожим на щебетанье подвесок люстры, когда ее толкнешь рукой.
Они напились какао; у Мики имелся целый запас его в буфете, несколько кило. Папа был такой веселый, счастливый; как всегда, он, фыркая, окачивался холодной водой под душем; как всегда, запел старинную песенку «Мальбрук в поход собрался». Если бы только не это...
Потом Милица, в шляпке и в черном костюме, поцеловала Лодю легким душистым, ничего не значащим поцелуем; ей надо было сделать тысячу дел, чтобы совсем освободиться на вечер; главное – трудно было поймать кого-то, кто жил в «Астории», а он завтра улетал туда, «за кольцо». Поймать его было совершенно необходимо: ее очень просили! Впрочем, и папе всё равно нужно было тоже уходить из дому: ему надлежало явиться к коменданту города, на Инженерную; потом зайти к вице-адмиралу, потом...
Милица унеслась, как на крыльях, как всегда. Они оба вышли на балкон проводить ее глазами. Вот она вышла из ворот, вот она свернула налево и пошла по деревянному Каменноостровскому мосту, легкая, стройная, небольшая. Ее туфельки – тридцать пятый номер – стучали по доскам, как копытца. На середине моста она обернулась и помахала им рукой. И папа, вспыхнув от удовольствия, тоже замахал ей... Новый папа – в синем кителе с золотыми шевронами на рукаве: два широких и один узенький! Папа, милый!
Весь день они вдвоем путешествовали по городу: он и папа. Им отдавали приветствия бесчисленные красноармейцы и краснофлотцы. На Невском их застала тревога, но папа очень равнодушно сказал: «Ерунда! Идем!» – и они пошли по пустым улицам. И ни один милиционер не остановил их: моряки! Нет! Разве можно в такой день смущать отца нелепыми сомнениями?
Тревога кончилась. Потом папа «отмечался» у коменданта и встретил там двух фронтовых лейтенантов. Они крепко жали ему руку, шумно поздравляли с возвращением, радовались, что он благополучно вырвался из немецкого окружения. Далее они поднялись на второй этаж, к коменданту по морским делам. Лодя навсегда запомнил красивые круглые запонки на белейших целлулоидных манжетах коменданта. После этого папа повел его в столовую, тут же, в этом же доме; суп и гуляш были здесь необыкновенно вкусными: ведь их тут ели одни только военные! Лодя оказал честь комендантскому обеду.
Они кончали уже компот, когда на улицах загрохотало. Радио спокойно сказало: «Граждане! Противник ведет артиллерийский обстрел Октябрьского и Куйбышевского районов». Папа, косясь на Лодю – как он? – заговорил с армейским капитаном про такие обстрелы: бить сейчас по городу противник мог только с юго-западных азимутов. Следовательно, надо в этих случаях придерживаться теневой стороны улиц – вот и всё! Просто, оказывается... А сам по себе такой обстрел – вещь совершенно бессмысленная. Просто – нелепое варварство, рассчитанное на паникеров...
Когда грохот стих, они зашли в «Гастроном», купили три последних больших коробки сливы в шоколаде. «Мика ее очень любит!» – сказал Андрей Андреевич, а Лодя про себя подумал, что насчет сливы в шоколаде он и сам спуску не даст. Они заехали на квартиру к вице-адмиралу, жившему где-то около площади Восстания, и – наконец-то! – отправились домой.
Было около пяти часов, когда они прибыли на Каменный. Сразу же был задуман настоящий артиллерийский обед из картошки, консервов и концентратов. Папа, вскрыв целую банку сгущенного молока, дал Лоде огромный кусок ситного и сказал: «Лопай!» Папа – не Мика! Было пять часов с небольшим.
Пробило семь часов, когда в первый раз Андрей Вересов поглядел на свой артиллерийский хронометр с секундомером и сказал рассеянно: «Интересно, где это наша мать пропадает?»
Стрелки показывали девять, когда он, помрачнев, в сотый уже раз вышел на балкон, чтобы вглядеться в сумрак затемнения: «Что за безобразие в конце концов? Ну хоть бы позвонила откуда-нибудь! Ведь знает же, что...»
А в полночь он уже сам обзвонил всех до одного знакомых, телефоны которых еще работали. Тот человек, который жил в «Астории» и которого отправилась ловить Милица, уехал вечером на аэродром. Самолет его уходил ночью. «Кажется, – сказала коридорная, – гражданка в черном костюмчике у них была днем...» Кажется.
На кинофабрике никого уже не оказалось: поздно! Наконец, когда совсем расстроенный Андрей Вересов дозвонился до канцелярии начальника городской милиции, ему, после долгих справок, ответили оттуда: «Нет, у нас такой нигде не числится... Да нет, знаете: теперь такие сведения к нам моментально приходят... А вы не волнуйтесь, товарищ капитан; запоздала ваша хозяйка и сидит где-нибудь без пропуска. Это сейчас – сплошь и рядом. Что? Как вы говорите? Днем в «Астории» была... Гм, гм... Тогда одну минуточку...»
И вот в час ночи на пятнадцатое сентября какой-то другой басистый голос, еще раз спросив капитана Вересова, кто он такой и что с ним случилось, сказал ему довольно спокойно:
– Видите, товарищ капитан, дело-то вот в чем... Человек вы военный... У нас сведений никаких тревожных о вашей супруге нет. Думается, что она утром благополучно заявится домой. Но, поскольку вот вы говорите – «Астория»?.. Да, тут, знаете, немец как раз сегодня четыре штучки около Синего моста уложил. Ну... Жертвы, конечно, были... Нет, нет! Среди них такой фамилии я тоже не вижу. Однако если ее не будет и завтра, – вы не заехали бы к нам поглядеть? Да вот, одежда тут кое-какая собрана; сумочки две-три есть, зонтик. Ведь снаряд, товарищ капитан, – штука не ласковая. Сами, наверное, понимаете...
Капитан Вересов положил трубку на вилку и лег подбородком на свой кулак.
– Иди-ка ты спать, Лодя! – слишком спокойно сказал он. – А не верю я этому! Этого не могло случиться! Сегодня? Не могло!
В ночь с четырнадцатого на пятнадцатое сентября Ленинград опять-таки спал сравнительно спокойно. Налетов на город не было. Немцам самим в эти дни стало уже очень хлопотливо. На севере, путая их планы, начал действовать внезапно сформированный русскими Карельский фронт. Между двумя великими озерами, Ладожским и Онежским, обнаружилось скопление свежих войск: Москва подтягивала сюда мощные резервы. Всячески стремясь облегчить положение ленинградских братьев, яростно переходил в новые и новые контратаки и ближний к Ленинграду фронт – Северо-западный. Дело фашистов, не успев еще наладиться, начинало уже затягиваться. Борьба за Ленинград оказывалась борьбой со всей страной.
Так или иначе, ночь прошла в относительной тишине.
Глава XXXVIII. ФАЛЬШИВЫЙ БРИЛЛИАНТ
– Я вас слушаю, товарищ капитан... – сказал человек с покрасневшими от бессонницы глазами, подвигая Вересову коробку «Пальмиры». – Курите? Э, да вы ранены!? Может быть, – тогда лучше на диван? Ну, так... что же у вас стряслось такое?
Андрей Андреевич машинально взял папиросу из коробки. Не легко было ему, повидимому, начать.
– Случилось у меня, товарищ полковник... очень тяжелое! – проговорил он, слишком пристально рассматривая мундштук папиросы. – Такое тяжелое, что... И хуже всего, что во всем виноват я сам.
Человек с усталыми глазами внимательно вгляделся в лицо своего собеседника. Он был очень бледен, этот капитан. Лет не так много, а две глубокие складки уже легли вдоль щек! Под глазами – тени нескольких бессонных ночей! По пустякам лица людей не принимают такого выражения.
– Понимаю вас. Но... Что ж поделать? К нам с радостями мало кто приходит, особенно сейчас. Мы вроде докторов. И по опасным болезням, к сожалению.
– Товарищ полковник! – вдруг заторопился Вересов, как будто что-то его подстрекнуло. – Прошу прощения. Я лучше сразу, без обиняков. Иначе у меня ничего не выйдет... Я – Вересов, кристаллограф, специалист по самоцветам. Я не знаю, получили ли вы мое письмо (я вчера только занес его), но я – муж артистки Вересовой, Милицы... Я думаю, – вы слыхали?
Полковник поднял на него глаза.
– Ах, вот оно что! Киноактрисы Вересовой? Понятно... Вчера как будто в городе говорили, что она...
– Простите, товарищ полковник! В том-то и несчастье, что я сам не знаю еще, что с ней случилось. Я потому и решился потревожить вас... В милиции мне дали простой ответ; страшный, но ясный. Снаряд на площади. Найдены ее сумочка и шляпка. Выходит, она убита.
– То есть как это: «выходит»? А у вас другие предположения? Вы думаете, что она не убита? Ну так тем лучше!
Андрей Вересов перевел дыхание.
– Я боюсь... боюсь, что не лучше... – глухо сказал он. – Пожалуй, хуже... Не легко мне говорить это!
Теперь паузу сделал уже полковник. Он не сразу ответил на то, что сказал Вересов. Впрочем, его глаза уже трудно было, пожалуй, называть усталыми: выражение его лица мало-помалу менялось, менялось что-то и в глазах. Они постепенно становились из утомленных – спокойными, пристально-внимательными.
– Я очень хорошо понимаю вас, товарищ капитан... Вы артиллерист? Береговик? А где ранение получили?.. Да, там было жарко, у Кингисеппа. Понимаю вас. Всё это трудно! Но чаще всего нужно Так же, как очистить рану от грязи: легче будет! И – скорее заживет. Вы умно сделали, что пришли прямо к нам. Думаю, что помогу вам... Пожалуй, я начну сам, а вы поправите меня, если где ошибусь. Идет? Тогда устраивайтесь.
Он приподнял и так повернул зеленый колпак лампы, чтобы свет не падал ему прямо в лицо, закурил, почесал в раздумье бровь.
– Ну, так вот! Много лет назад молодой способный ученый потерял свою первую жену, – начал он глуховатым, не то что спокойным, скорее успокаивающим голосом. – Потерял и остался один с маленьким сыном на руках. Он очень любил усопшую, этот ученый, любил он и ее сына. Любит его и теперь... Но тогда он был еще совсем молод. Ему казалось, что его печаль, – навек; что теперь вся его жизнь сведется к заботе о сыне. Ну, не считая, конечно, большего: страны, науки... Ведь так? Ну, хорошо! Прошли годы. Потеря стала понемногу забываться... Что ж, бывает. Время! И вот тут он встретил на своем пути другого человека... Блестящего, по-своему, человека: талантливую красивую артистку, умницу, и... Впрочем, никаких «и» он в ней тогда не заметил. Она очень понравилась ему. Так понравилась, что он уже мог замечать в ней одни только достоинства. Так ведь?
– Просто полюбил ее, товарищ полковник! – не поднимая головы, пробормотал Вересов.
– Ну, конечно! А что же я говорю? Вот именно – полюбил. Полюбил настолько, что решил сделать ее – именно ее! – матерью своего сына. Ну... а – она вас? Тоже?
Андрей Андреевич молчал, пристально вглядываясь в свою измятую папиросу.
– Может быть, в этом очень трудно признаться, – мягко сказал полковник, – но я уверен, признаться всё-таки надо, капитан. Хотя бы самому себе, но честно. Нет. Не полюбила она вас. По-настоящему – нет! Я не спорю: пять лет! Привычка образовалась, кое-какие теплые чувства... Но разве это – любовь? И скажите мне, друг мой, откровенно: а она-то была достойна вашей любви? Любви нашего товарища, советского человека? Была она достойна стать матерью вашему сыну – чудесному мальчишке, если судить по вашему письму к нам? Ведь безусловно нет! И вы сами это давно поняли.
Теперь Андрей Андреевич выпрямился. Щеки его вспыхнули. Голос окреп.
– Вы совершенно правы, товарищ полковник! – заговорил он – Было бы и нечестно, да и глупо спорить с этим. Да, я давно понял всё! И мне стыдно теперь признаться, что в свое время я не нашел в себе силы, я не смог...
– Э, голубчик! Если бы каждый из нас в нужный час имел эту силу... Тогда бы... Тогда моя, скажем, работа намного бы упростилась, поверьте слову! Ведь беда-то в том, что любая ошибка начинается всегда с малого... С таких пустяков!.. Как, кстати, фамилия вашей супруги до замужества?
– Симонсон. Она родилась в одиннадцатом году в семье чиновника... довольно крупного. Отец – полуангличанин, мать – немка, некая Людвигсгаузен-Вольф... Но ее отец служил и в советское время. Он был финансовым работником. Потом умер. От рака.
– Так, так... Симонсон, Симонсон? Владимир Симонсон?! Впрочем, конечно; я же читал это в вашем заявлении! Да и вообще. . . Дело не в фамилии, дело в человеке, в его личности. Киноактриса. Талант! Жадное честолюбие... Воспитание не наше... Умна. . . А впрочем, так ли уж она была умна, как вам казалось? Ум-то ведь разный бывает! Вы, товарищ кристаллограф, вы видели в ней драгоценный камень, бриллиант чистой воды, так сказать. Но бриллианты ведь оказываются порой и фальшивыми... Впрочем, простите, я перебил вас? Продолжайте, продолжайте, пожалуйста...
– Я все эти ночи не спал, товарищ полковник! – говорит Андрей Вересов. – Я перебирал все эти годы, всю нашу совместную жизнь. Нет мне никаких оправданий! Каким же я был слепцом, недостойным слепцом! Как я не заметил всего сразу, как не разгадал этого человека?
Полковник чуть приподнял бровь, как бы не считая возможным до конца согласиться с ним.
– Меня это не слишком удивляет, – заметил он по– прежнему очень спокойно, даже мягко. – Слов нет – это очень печально. Очень! Но с другой стороны: что же это был бы за враг, если бы он позволил быстро разгадать свою сущность, и кому? Вам! Некстати доверчивому, любящему человеку! Не разгадали вы ее по простой причине, дорогой капитан! Потому, что она всё сделала, чтобы вы этого не могли открыть. Она вообще превосходно гримировалась, ваша актриса! Очень хорошо! Настолько тщательно, так умело, что я уверенно скажу – около вас несколько лет жил очень опасный, очень коварный, крупный враг! Зачем мне скрывать от вас это? Я убежден, что ваша жена... Простите, бывшая жена! – не мелкая она сошка в своем деле; о нет, отнюдь! Давайте-ка прикинем еще раз, что же вам о ней известно?
Они беседовали долго, очень долго. Андрей Вересов несколько успокоился; точнее сказать, овладел собою. Он тщательно вспоминал всё, что замечал, на что натыкался сам. По большей части это – пустяки, отдельные мелкие черточки холодного, расчетливого, честолюбивого, скрытного характера. Черты человека без привязанностей, без жалости, без чести, может быть... Каждая из них в отдельности не значит почти ничего. Но какое отвратительное лицо складывается из всех этих черт, когда вдруг соединишь их вместе!
Вспоминал Андрей Андреевич и то, о чем сегодня, вчера в эти страшные для них дни успел рассказать ему сын, Лодя.
Вот неизвестный, приходивший к Милице в самый день объявления войны и привезший ей чемоданы. Никаких чемоданов ему, разумеется, не могли прислать.
А странный воспитатель белых крыс в башнеобразной надстройке неизвестного, только в бинокль видимого дома? Кто он такой? Был ли он и на самом деле знакомым Милицы Лавровским или ручные зверьки там и тут – только случайное совпадение? Вчера Вересов сделал попытку зайти на квартиру Лавровского. Он жил где-то на Крестовском. Ему сказали там, будто Эдуард Александрович вот уже месяц, как эвакуировался в Ярославль. Хорошо! Но Лодя говорит, что видел его всего несколько дней назад у Милицы, в их квартире!? Что это значит?
Теперь: чемоданы с ракетами в их прихожей... Нет, нет! Не ожидал он никакой посылки с Урала... Но, допустим, что ему подобные чемоданы всё же прислали... Тогда какое, собственно, отношение имеет к ним вот эта гильза? Он почти со страхом прикоснулся к лежавшей на письменном столе алюминиевой трубочке с немецкими надписями. Это же не уральская, не советская; это немецкая гильза! Откуда же она взялась на полу его кабинета в ночь с восьмого на девятое сентября?
И кто выпустил две ракеты в ту ночь с территории городка? Их видел не один только его сын. Их видел и пожилой человек Кокушкин, и другие городковцы! А поведение Милицы утром в Лодиной спаленке? А ее внезапное исчезновение? Что же это всё такое: бред, фантазия людей с расстроенным войной воображением, или ужасная правда? Что?
Полковник видел, как нервно вздрагивали пальцы этого командира, артиллериста, уже раненого и, вероятно, много успевшего испытать за два тяжких месяца на фронте. И в то же время думал о чем-то своем...
– Андрей Андреевич, – мягко, почти как с больным, заговорил он наконец, – то, что я вам уже сказал, остается в полной силе: нехорошо я думаю о вашей покойной (простите за невольную остроту, скорее о беспокойной, и еще какой беспокойной!) бывшей жене. Совсем нехорошо. А в остальном?.. Белые крысы эти и вся подобная мишура?.. Пока – не знаю и не хочу гадать...
Убита ли она? Не могу отрицать и это с уверенностью. Но рассчитывать на это, пожалуй, не приходится... Во всяком случае, вот моя просьба: каждое новое сведение... Ну, просто хотя бы тень какого-то подозрения... Ничего не предпринимайте сами: я – всегда здесь!
Вы одно поймите как следует, товарищ капитан: не вам с ней тягаться. Пожалуй, она много легче разобралась бы в вашей кристаллографии, чем вы в ее делах... И знаете, что меня в этом убеждает? Вовсе не то, что она пять лет вас водила вокруг пальца. Это, простите, дело не слишком трудное... А вот то, что она наблюдательного и чуткого мальчугана вашего как-то умудрилась обойти...
Кстати, что вы намерены с ним сейчас делать? Вам же, видимо, надлежит возвращаться в часть? Ну, а он как? Одному ему здесь оставаться никак не следует...
– Нет, что вы, товарищ полковник! Ни в коем случае! Я сегодня буду говорить с вице-адмиралом. Лучше всего, если бы его удалось отправить «за кольцо», к моей сестре. В крайнем случае я возьму мальчика к себе, на поезд. Разве я могу оставить его тут одного?
– Ладно, вам видней! Если так, – добро... В крайней нужде звоните сюда, мне. Пусть он и сам позвонит, ежели что; передайте ему номер, фамилию... Обещать мне сейчас что-либо, вы сами понимаете, трудненько, но... Что можно, во всяком случае, сделаем! Не забудем вашего парня!
Андрей Вересов медленно шел по улице Воинова в сторону Гагаринской, к Кировскому мосту. А в кабинете за его спиной, на третьем этаже затемненного здания, полковник долго ходил в глубокой задумчивости по диагонали ковра, застилающего пол. Время от времени он слегка морщился и крепко потирал руки. По этому простому домашнему жесту легко можно было угадать, как всё-таки он устал.
Минуты пролетали быстро. Полковник подошел к окну, чуть отодвинул край занавеса затемнения, поглядел в щелку. Глухая ночь; не видно ни зги... Эх, как легко было бы жить, если бы на каждый вопрос, который жизнь ставит перед человеком, всегда б без труда находился нужный ответ!..
На столе всё еще лежали исписанные листы: заявление инженера Вересова, протокол допроса... Сев в кресло, полковник еще раз прочитал и то и другое, внимательно, слово за словом. Потом, вздохнув, он вынул из ящика что-то вроде папки...
На заявление, написанное от руки, ложится другая бумага; ее текст напечатан на машинке. Внизу можно прочесть подпись: Лев Жерве.
К этому обширному документу подколоты скрепкой несколько меньших – повидимому, какие-то справки или квитанции. Полковник отколол их. Две фотографические карточки. «Мика – Сольвейг и Мика – воспитанница детдома» смотрели на полковника большими, загадочными, бессовестными глазами.
Он тоже внимательно всмотрелся в ее лицо – совсем еще юное, по-молодому округлое, не слишком выразительное, но вместе с тем уже способное принять в любой миг любое нужное выражение... Актриса!
Вот еще засаленная книжечка: «Выдана сия водителю автомашины, т. Худолееву...» Копия одного письменного запроса, другого, третьего. Печать отделения ОРУДа; жактовская полустершаяся печать...