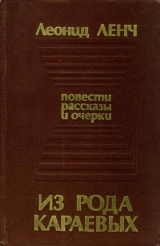
Текст книги "Из рода Караевых"
Автор книги: Леонид Ленч
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
Всадники в зеленых матерчатых шлемах, с нашитыми на них красными звездами, в лохматых папахах, в кубанках с позументом, в солдатских фуражках – замасленных, смятых, помнящих Карпаты и Западную Двину – по трое в ряд проезжали по главной улице. Кто в шинелишке тридцать третьего срока, кто в кожушке, кто в синей франтовской венгерке, отороченной серым каракулем, кто в черкеске с газырями. Разноплеменное, бедное и победоносное войско революции!
Игорь стоял на тротуаре, всматриваясь в лица красных кавалеристов.
Они были очень разные, эти лица: суровые, хмурые, словно высеченные из камня, веселые, открытые, и безразлично-усталые, и полные молодого задора и огня. Острая монгольская скуластость и рядом славянская мягкая округлость, льняной кудрявый чуб и тут же черные завитки восточной шевелюры. Но что-то общее было в этих таких разных, непохожих лицах. Игорь думал об этом и мучился оттого, что, смутно понимая, в чем тут дело, не мог, однако, осознать причину этой общности до конца. А причина была простая: лица проезжавших всадников выражали убежденность в правоте того дела, за которое они боролись и умирали, и эта общая убежденность делала разные лица значительными и в чем-то схожими.
Кругом говорили:
– Может, сам Буденный тут?
– Нет, Буденный – на главном направлении. Гонит беляков – в море купать.
– Он искупает!
– Какой из себя, не знаете?
– Буденный? Такой… представительный. Борода генеральская, на две стороны… в плечах косая сажень.
– Не бреши, старик! Буденный росточком невелик и с усами. В жизни никогда бороды не носил, тем более генеральской.
– Дождались наших голубчиков! Слава тебе, матушка царица небесная, помогла!
– Брось, тетка, креститься. Не царица небесная помогла, а товарищ Ленин. А он в богов не верит и тебе не советует.
– Ну, дай ему господи здоровьичка, товарищу Ленину!
С тротуара к крайнему всаднику, чубатому молодцу в кубанке с алым верхом, с огненно-алым башлыком на богатырских плечах, кинулась маленькая женщина в белом подсиненном праздничном платочке, завязанном под подбородком узлом.
– Ванюшка! Сынку!
Всадник ласково склонился к плачущей матери.
– Живой! Господи! Когда до хаты-то вернешься, непутевый?
Сын, показав в улыбке ровные сахарные зубы, сказал громко, так, чтобы народ на тротуаре слышал:
– Добьем, маманя, контру окончательно – звернусь. Потерпите еще чуток!
И, толкнув коня, галопом помчался обочь тротуара догонять своих.
Игорь смотрел на конников, слушал разговоры и чувствовал, как токи общего радостного волнения с каждой минутой все глубже проникает в его сердце. Ему хотелось, как и воем стоящим на тротуаре, шутить, смеяться, весело и громко выкрикивать слова привета, улыбаясь проезжавшим всадникам.
Кто-то сильно толкнул его в бок. Пробиравшийся вперед мужчина в черном пиджаке, в старой солдатской фуражке с треснутым зеленым козырьком бросил: «Виноват», – и встал рядом с Игорем. У него было бритое, потасканное лицо. Оно показалось Игорю удивительно знакомым – в особенности уши, торчавшие из-под фуражки, большие, хрящеватые, жадные. Незнакомец обернулся и тоже в упор посмотрел на Игоря. И вдруг Игорь понял: это вокзальный жандарм, который хотел арестовать его в день возвращения из Ростова. Усы сбрил! Не успел Игорь опомниться, как жандарм – глаза его хищно сузились – показал пальцем на Игоря и негромко сказал, обращаясь к стоявшим на тротуаре людям:
– Этого субчика я знаю, товарищи! Он доброволец марковского полка, кадет, сукин сын и палач трудового народа!
У Игоря даже рот раскрылся – так неожиданно и нагло первым сделал выпад жандарм.
– Не успел улизнуть со своими, белый гад! Помогите-ка, товарищи!
Помощники нашлись тотчас же. Игорю вывернули руки за спину, оттащили в сторону, притиснули к забору.
Жандарм в фуражке, натянутой на самые глаза, торопливо объяснял:
– Я, как глянул, сразу вижу: он! У нас они на квартире стояли… я этого запомнил, глазастого!
Многопудовая тетка с корзинкой, полной жареных семечек, подскакивая на месте от страстной жажды немедленного самосуда, поспешно подкинула в огонь свою вязанку хвороста:
– Да у него все обличье кадетское! Ишь, барчонок, так и рыскает глазищами! Тьфу на тебя!
Она сладострастно плюнула Игорю под ноги.
Хмурые, отчужденные лица, глаза, горящие ненавистью. Только что эти люди улыбались и шутили вместе с Игорем.
– Господа! – сказал Игорь, беспомощно озираясь. – Господа, даю вам слово…
Толпа свирепо зашумела:
– Нету здесь господ!
– Господа к Черному морю тикают!
– Посуньтесь трохи, я з этим господином побалакаю!
– Я не доброволец! – выкрикнул Игорь с отчаянием. – Я гимназист здешней гимназии, даю вам слово. Моя фамилия Ступин. А он, – Игорь – его держали за руки двое – показал глазами на своего врага, – переодетый жандарм с вокзала! Усы сбрил, чтоб его не узнали!
Жандарм побелел. Его бритая верхняя губа по-собачьи поднялась, обнажив мелкие желтые зубы. Он засмеялся скверным деланным смехом, обернулся к толпе:
– Вот заливает! Обыскать его надо! Оружие при нем должно быть!
Содрогаясь от омерзения, Игорь ощутил, как по его карманам стали шарить.
Тетка с семечками поднесла к носу Игоря извлеченные из бокового кармана его шинели две карамельки в бумажной обертке, сказала с чувством:
– Конхветами питается, паразит!
Жандарм запустил руку в нагрудный карман и вытащил на свет божий… черные марковские погоны, которые Игорь сорвал, спасаясь от этого же жандарма тогда, на вокзальной площади, и про которые потом совсем забыл!
– Видали! – Жандарм со злобным восторгом показал толпе свою находку. – Погоны носит в кармане, змееныш!
Толпа грозно загудела, придвинулась вплотную. На Игоря пахнуло жаром ее дыхания, как из распахнутой настежь печки. Сейчас кто-то ударит первый… Только бы сразу потерять сознание! Игорь зажмурился. Вдруг он услышал какую-то возню, крик, ругань и, открыв глаза, увидел, что рядом с ним стоит красноармеец его лет – в белой папахе с красной лентой, в ловком кавалерийском кожушке. В кулаке – маузер.
– Назад! – кричал красноармеец, угрожая пистолетом самым нетерпеливым и горячим крикунам. – Прекратить самосуд!..
В ответ посыпалось:
– Товарищ военный, отойди, не мешай народу!
– Они наших дорогих товарищей без суда стреляли и вешали!
– Убери от греха свою пушку, солдат!
– Нельзя, граждане! – надрывался в крике красноармеец в белой папахе. Его доброе курносое лицо налилось кровью от натужного крика, но даже тени растерянности или страха не было на нем. – Дисциплинку надо соблюдать, товарищи! Советская власть категорически против самосудов!
Крикуны не унимались.
– Что же, по-твоему, по головке его сейчас погладить?
Заслонив собой прижавшегося к забору Игоря, красноармеец бесстрашно выкрикнул в ответ:
– Нужно будет – его в особом отделе по головке без тебя погладят! Без проверки нельзя, граждане!
– Да ты видел – у него погоны нашли марковские в кармане!
– Все проверят! Заслужил – безусловно передадут в трибунал. И – к стенке! От пролетарской руки ни один белый палач не уйдет! А самим – нельзя! Иначе у нас получится анархия, мать беспорядка. В ревком его надо отвести. Или в комендатуру.
Вперед выдвинулся жандарм.
– Товарищ военный! – льстиво и вкрадчиво обратился он к красноармейцу в белой папахе. – Его же, гада, все равно шлепнут! Зачем же тянуть с этим делом? Одолжите нам ваш пистолетик на пять минут… тут вот как раз дворик удобный имеется… Сделаем все чистенько. Ни нам, ни вам, как говорится!
Игорь отстранил своего защитника.
– Даю вам слово, это – переодетый жандарм, самый настоящий палач. Я его узнал, и поэтому он хочет меня убить!
– Ах ты!..
Жандарм грязно выругался, оттолкнул красноармейца и вцепился Игорю в горло железными руками. Но в тот же миг парнишка в белой папахе схватил его сзади за шиворот, сильно рванул на себя, отбросил назад и, подняв руку с маузером, выстрелил в воздух.
Толпа отхлынула от забора. И сейчас же в образовавшемся пустом пространстве возник перед Игорем Иван Егорович – живой, целый, только очень похудевший и осунувшийся. Теперь он был в черной поношенной кожаной куртке с красным бантом в петлице.
Игорь радостно бросился к нему:
– Иван Егорович!
– Здорово, Иго́рь!
Иван Егорович обратился к толпе:
– Что тут было? Из толпы ответили:
– Марковца словили!
– Вот и погоны его! На груди прятал!
Иван Егорович брезгливо, двумя пальцами взял протянутые ему черные погоны, бросил в лужу. Остановив порывавшегося заговорить Игоря, обратился к толпе:
– Кто из вас меня здесь знает?
Веселый густой бас из толпы:
– Я знаю! Вы товарищ Толкунов, Иван Егорович, председатель революционного комитета!
Иван Егорович кивнул:
– Правильно! Это я и есть. Товарищи, объявляю вам, что этот парнишка, – он показал на бледного как смерть Игоря, – наш парнишка. Я за него ручаюсь. Понятно?!
– Иван Егорович! – произнес наконец Игорь. – Это все жандарм с вокзала подстроил! Он переоделся и усы сбрил, а я его узнал!
– Где он?!
Но жандарма уже не было. И никто не видел, когда и как он успел скрыться.
– Ладно, далеко не уйдет! – сказал Иван Егорович и обратился к притихшим людям: – Разбираться надо, товарищи. Враг у нас хитрый, верткий, смотрите, как вас всех обштопал и утек. А вы в это время с гимназистом в кошки-мышки играли… Заходи, Иго́рь, в ревком ко мне… Ступайте на вокзальную площадь, сейчас митинг начнем!
Он ушел. И снова Игорь посреди возбужденной, гомонящей, потрясенной тем, что произошло, и еще более тем, что могло произойти, толпы.
– Гляди, какое дело: чуть было не пришибли безвинного ученика!
– Спасибо надо сказать красноармейцу этому: не побоялся вступиться.
– А где он?
– Красноармеец? Побег куда-то.
– А вот я сразу подумал, что этот с бритой мордой – форменный бандит.
– Подумал, а сам громче всех кричал и на ученика с кулаками кидался. Усы тебе за это надо выдрать, старый таракан!
– Оставьте, бабы!.. Бабоньки, не надо!.. Караул! Усов лишают!
Крики, смех, шум и гам! К Игорю подошла тетка с семечками, обласкала жалостливым бабьим взглядом:
– Отец-то, мать есть у вас, молодой человек?
– Мать есть, отец умер.
– Сирота!
И насыпала Игорю полный карман семечек.
– Я завсегда на этом угле стою. Будете гулять – заходите угощаться!..
…На вокзальной площади яблоку негде упасть. Иван Егорович говорит речь, стоя на тачанке. Вот густой бас затянул «Интернационал», и вся площадь подхватила. Поют стройно, величественно. А ведь больше двух лет здесь не звучал пролетарский гимн!
Кто-то сжал локоть Игоря.
Он оглянулся. Красноармеец в белой папахе с красной лентой – его спаситель – прошептал на ухо:
– А ты чего не поешь, товарищ?
Смутившись, Игорь ответил тоже шепотом:
– Я слов не знаю!
– Надо, брат, выучить! Подвигайся ближе и повторяй за мной.
Игорь подвинулся. Плечо его коснулось плеча красноармейца.
– Слушай и подхватывай.
Звонкий, чистый тенорок ручейком вливался в поющую площадь, четко выговаривая слова:
Лишь мы, работники всемирной,
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право…
Он подмигнул Игорю, и уже вдвоем, вместе со всей площадью, бесповоротно и грозно они грянули:
А паразиты – никогда!
ИЗ РОДА КАРАЕВЫХ
Или грудь в крестах, или голова в кустах!
Старая солдатская поговорка
Часть первая
ВЫБОР
Я – дворянин! Ни черт, ни воры
Не могут удержать меня!..
А. Пушкин
В те времена дворянских привилегий
Уже не уважали санкюлоты…
В. Рождественский
1
Когда человек молод, ему кажется, что у него нет прошлого, а есть только настоящее. И будущее!
Его утлую лодчонку несет на своем хребте непостижимая река времени, и неизвестно, что ждет пловца за первым же ее поворотом, а он знай себе плывет и плывет, не оглядываясь.
Поручик Караев плыл, не оглядываясь. Может быть, не на что было ему оглянуться? Нет, было! Был застывший в четкой неподвижности строй юнкеров, были парадно сверкающие люстры актового зала, был серебробородый генерал с отечными подглазьями, начальник училища, отечески басивший:
– Юнкера, поздравляю с досрочным производством в офицеры, с милостивой телеграммой монарха. Уверен, что в ратных делах покажете пример доблести и бесстрашного служения царю и отечеству! Ура!
Молодые глотки громово рявкают в ответ свое многоголосое «Ура!», и хрустальные висюльки парадных люстр отзываются на звуковую волну тоненьким печальным позваниванием.
Ничего этого уже нет! Ни серебробородого генерала, ни царя, ни доблестных ратных дел, поскольку фронт рухнул, как подгнившее в сердцевине дерево. Есть только отечество – бывшая Российская империя, Россия, матушка Русь и… как там еще?! Изнемогшая, измученная неудачной войной, разрухой в тылу, потрясениями революции. И есть он, поручик Сергей Караев, сын полковника Петра Георгиевича Караева, убитого под Мукденом еще в русско-японскую. Из предков поручика никто постельной смертью не умирал: прапрадед – офицер-гренадер – погиб в бою с конницей Мюрата в 1812 году, прадед пал смертью храбрых от английского ядра под Севастополем, дед – скобелевский офицер – от турецкой пули под Плевной.
На голове у их потомка защитного цвета фуражка с темным овалом на месте содранной офицерской кокарды, на плечах шинелишка солдатского сукна (складно, впрочем, пошитая), продутая и промороженная насквозь свирепыми эрзерумскими ветрами. На гимнастерке под шинелью Георгиевский солдатский крест – тот, что давали офицерам за личную храбрость в бою. А в нагрудном кармане шинели – завернутые в марлю погоны с одним просветом и тремя звездочками. Он при шашке, на поясе в кобуре верный друг – наган.
В дорожном документе поручика сказано, что он уволен в отпуск для отдыха после ранения и направляется к семье в станицу Софиевскую на Кубань. Документ составил и подписал командир полка – добрая душа! – полковник Закладов. Вручая его поручику, сказал:
– Берите, поручик, и улепетывайте на законном основании! Правильно сделали, что сняли кокарду и погоны, чтобы христолюбивых гусей не дразнить по дороге. Да хранит вас аллах от сыпняка и от солдатских самосудов!
Глядя на осунувшееся, желтое от частых малярийных приступов лицо командира, любя и жалея его, поручик спросил:
– А как вы сами думаете жить дальше, Евгений Андреевич?
Полковник усмехнулся невесело:
– За нас начальство думает! Но вообще-то… капитаны с тонущих кораблей сходят, как известно, последними… если, конечно, хотят и могут сойти! Ну, ладно, давайте-ка лучше выпьем с вами отвальную парочку, поручик!
Достал из ларца, стоявшего на колченогом столике в его землянке, две серебряные стопки, из настенного шкафчика – бутылку водки, налил вровень с краями.
– За вас, Сергей Петрович. Вы были одним из моих лучших офицеров. Будьте живы, здоровы и счастливы!
Выпили. Командир закусил водку порошком хинина, поручик – рукавом шинели. Истово, троекратно расцеловались. Через два часа поручик Караев должен был покинуть расположение полка, в котором прослужил всю войну, впоследствии названную историками первой мировой империалистической. В последнюю минуту к нему в землянку зашел штабс-капитан Окунев, один из немногих офицеров, еще не оставивших под разными предлогами разложившийся, как считали наверху, в штабах, полк. Кривя рот – результат старой контузии, – сказал:
– Пришел попрощаться. Уезжаешь, значит, Сергей?
– Уезжаю, Юра! Спасибо Закладушке – отпустил.
Штабс-капитан понизил голос:
– Строго конфиденциально. Как офицер с офицером – уполномочен офицерским союзом. Есть обращение к нам генерала Алексеева: направлять офицеров фронта на Дон, к генералу Корнилову. Он уже там – формирует Добровольческую армию. Пора кончать с товарищами из Советов рабочих, солдатских и рачьих депутатов… Вообще – со всей этой митингующей вшивой сволочью.
Поручик молчал. Штабс-капитан усилил натиск:
– Я могу снабдить тебя наружными документами и деньгами, чтобы ты мог добраться до Ростова. Заезжай на денек-другой в родительский дом на свою родную Кубань – и айда к Корнилову! Даст бог, встретимся.
– Нет, Юра! – сказал поручик с деланной беспечностью. – На Дон не поеду!
– Не разделяешь наши взгляды?!
– Я устал… я был трижды ранен…
Штабс-капитан ядовито прищурился.
– Конечно, залезть под мамкину юбку и оттуда наблюдать, как гибнет родина, – позиция весьма удобная. Но позорная для боевого офицера, каким я вас считал, поручик Караев!
Ушел, не подав руки. Черт с ним, с этим криворотым истериком! Мамкина юбка! Нет у поручика Караева ни отца, ни матери. В станице Софиевской живет его бездетный дядька по материнской линии – местный нотариус Николай Иванович Колобов с женой – доброй толстухой, станичной акушеркой Олимпиадой Трофимовной. Они согревали своей лаской его сиротство.
Живя в старом кавказском военном городе – под его крышами витала тень Ермолова, – Сережа Караев учился там сначала в кадетском корпусе на полном пансионе, а потом в юнкерском училище. А на вакации ездил в Софиевскую к дядюшке и тетушке. И еще в Софиевской живет Ната Ярошенкова, сметанно-беленькая золотоволосая «барышня-крестьянка» – так называл ее дядюшка-нотариус, или «моя морская царевна» (тут имелись в виду Натины аквамариновой яркости глаза) – так с галантностью лавочника величал ее Федор Кузьмич Ярошенков, вдовец, владелец трех паровых мельниц, оборотистый и ловкий станичный богатей. Нату он обожал, еще бы – единственная дочь и такая красавица! Ната – его, Сережи Караева, тайная возлюбленная. Когда грянула война, она писала ему на фронт, он отвечал на ее письма. Несколько восторженные и наивные, они заканчивались одной и той же неизменной фразой: «Я жду, я надеюсь, я верю, что ты вернешься и мы никогда не расстанемся».
Нет, пусть генерал Корнилов без него делает свою игру в Ростове. Он, поручик Караев, едет в Софиевскую, на Кубань! И баста!..
2
Ехать пришлось долго – и воинскими эшелонами, и санитарными поездами, и какими-то совершенно одичавшими пассажирскими, давно уже позабывшими, что такое расписание и график движения, и товарными – на подножках и вагонных крышах. Все поезда были битком набиты людьми в серых шинелях – Кавказский фронт стихийно уползал с войны по домам.
После Тифлиса на полпути до Баку цепочку поездов остановили вооруженные отряды – какие-то меньшевистские закавказские формирования. Их командиры потребовали от фронтовиков сдать оружие:
– Иначе дальше не пустим!
Офицеры, какие еще нашлись в передних эшелонах, сдать винтовки отказались:
– Не пустите – пробьемся силой!
Но тут зашумели солдатики:
– Опять золотопогонникам нашей кровушки захотелось! Братва, сдавай винтовки, навоевались, хватит!
Никакие доводы не действовали на окопных мучеников, рвавшихся к матерям, к женам, к малым ребятам. Стали бросать винтовки в кучу, а когда она выросла в целую гору, вдруг появились спустившиеся с окрестных холмов пароконные и одноконные фуры и ездовые – проворные усачи в каракулевых папахах, вооруженные до зубов, – деловито погрузили оружие в свои повозки. Попутно они так же деловито обшарили и ограбили все санитарные и пассажирские поезда, угодившие в пробку. Вспыхнули пожары – ад кромешный! Здесь поручик Караев лишился чемодана со всеми своими нехитрыми пожитками и дальше ехал уже налегке.
Наконец он добрался до большой узловой станции – от нее до Софиевской, собственно говоря, рукой подать. Но ведь это только так говорится, а попробуйте помесите осенью черноземную грязь раскисших степных дорог лошадиными ногами!
При станции поселок не поселок, город не город, но сорок тысяч жителей, две гимназии – мужская и женская, – крупное железнодорожное депо, элеватор, мучные и винные военные склады. Вспомнил: фронтовой приятель прапорщик Соломко – его потом забрали в штаб дивизии – родом отсюда. Нашел в записной книжке адрес Володи Соломко и решил попроситься на ночлег к его родителям. Авось не прогонят!
У стариков Соломко его приняли радушно: отец прапорщика – бывший железнодорожный машинист, степенный, седоусый – и мать – худенькая старушка с испуганными, кроткими глазами – сами предложили погостить у них сколько нужно. От денег отказались наотрез. Мать даже обиделась, когда поручик вытащил бумажник:
– Ой, что вы, как можно! Вы Володечкин фронтовой товарищ. Какие же тут могут быть деньги!
– А что слышно про Володю?
Старушка горестно вздохнула:
– Ничего не слышно. – Сказала и отвернулась, скрывая слезы.
…Каждый день теперь стал ходить поручик на базар – искать попутную подводу до Софиевской. И все напрасно! Привозу совсем не было. Если кое-кто и торговал на базаре всякой чепуховой зеленью, то лишь местные казаки и казачки из ближайшей к поселку станицы, где еще сидел атаман отдела – древний войсковой старшина со своей полусотней пластунов[4]4
Пластун – кубанский казак-пехотинец.
[Закрыть]. Власть кубанского краевого правительства и рады – казачьего парламента – была эфемерной и зыбкой.
По базару в шинелях нараспашку шатались солдаты из эшелонов, застрявших на станции, – голодные, горластые, злые. Кто с винтовкой, кто вовсе без оружия. С базарными торговками объяснялись матом, за семечки платили тем же.
– Вы, паразиты, так вашу и так, совсем здесь в тылу одичали? Какие у солдата-фронтовика могут быть деньги, тем более за семечки?! Полней насыпай, тетка! Всё, хватит! Мерею и больше не просю!
Все внутри кипело у поручика, когда он наблюдал эти сцены. Подойти бы к этим потерявшим всякий стыд и воинский облик «нижним чинам», накричать, призвать к порядку. Черта с два подойдешь! Они сами подошли к поручику. Двое – один с винтовкой, другой со штыком на поясе гимнастерки. Тот, кто был с винтовкой, спросил:
– Эй, землячок, ты какого будешь полка?
– А тебе какое дело? – огрызнулся поручик.
– Из кавалерии, что ли?
– Ну, из кавалерии.
– Уж больно ты форсистый, малый! На офицерика смахиваешь! – сказал тот, кто был со штыком. – Может быть, к Корнилову собрался? Идем с нами, мы тебя к нему проводим!
– А ну прочь лапы! – поручик отбросил цепкую руку, ухватившую его за рукав шинели.
Первый солдат сорвал с плеча винтовку, поручик выхватил из кобуры наган. И вдруг из-за ларька появился третий солдат – фуражка едва держится на затылке, пшеничный чуб растрепан, глаза шалые, счастливые.
– Петруха, Степка, что вы тут чикаетесь? Я самогончиком разжился!
Петруху и Степку как ветром сдуло! Поручик – от греха подальше – быстрым шагом пошел с базара домой.
Через станцию продолжали катиться волны эшелонов, и наконец грянул девятый вал. Солдаты с застрявших поездов пошли «пощупать» винные склады. Пластуны из охраны сопротивления не оказали и перепились вместе с погромщиками.
Два дня и две ночи поселок пил мертвую. Хозяйственные обитатели мещанских домиков – три окна на улицу – потащили домой на горбу, сгибаясь в три погибели, мешки с даровой водкой в бутылках и сотках-мерзавчиках. На третий день поселок очнулся и узнал, что войсковой старшина – атаман отдела исчез, как бы испарился со своей пластунской полусотней и что власть взял ревком. Председателем объявил себя солдат Дербентского пехотного полка Голуб.
Голуб правил поселком несколько недель, порядки завел простые и ясные. Провинившихся перед новой властью судили «народным судом». Обвиняемого выводили на балкон второго этажа бывшего купеческого особняка. На груди – дощечка, на дощечке крупными печатными буквами написано, за что судят. Потом на балкон выходил сам Голуб – краснорожий, с белесыми, нетрезвыми глазами – и коротко, но не очень вразумительно объявлял народу, стоявшему на улице, за что ревком решил «отправить к Аврааму на покаяние» понурого человека с дощечкой на груди. Народ безмолвствовал. Обвиняемого уводили и взашей выталкивали на балкон другого.
Приговоры были только двух видов: или «к Аврааму», или «на волю».
Один такой «суд» поручик наблюдал сам, затерявшись в толпе любопытных. На балкон вывели сразу двоих: священника в подряснике, тощего, бледного, с фиолетовым синяком под глазом, и молодого курчавого блондина в солдатской гимнастерке без пояса. Стоя на балконе, блондин озирался по сторонам тоскливо и злобно, по-волчьи.
В толпе заахали:
– Господи, да это же отца Никодима судят!
Голуб снял с головы фуражку, поклонился народу, выкрикнул надсадно:
– Отца Никодима Самоварова вот этот кудряш (кивок на курчавого блондина) крепко обидел, чуть глаза не лишил. По просьбе граждан-прихожан мы отца Никодима проверили, оказалось, этот пес бесстыжий (новый кивок на курчавого блондина) зря батюшку обидел. Батюшка Самоваров не контра, отзывы народа о нем хорошие!
– Наш батюшка очень даже хороший! – пискнула старушонка, стоявшая рядом с поручиком в толпе, и сейчас же – на всякий случай – по-мышьи шмыгнула прочь.
– Мы решили священника Самоварова отпустить на волю, а кудрявенького этого за самоуправное рукоприкладство отправить к Аврааму на покаяние.
– Ну, батюшка, – обернулся Голуб к священнику, – катись к своей матушке синяки залечивать. Всё! Аминь!
На следующий день после этого «суда» на площади поручик, как всегда, пошел с утра на базар – искать подводу, и наконец ему повезло: встретил софиевского станичника, да еще дядюшкиного соседа. Он знал поручика, когда тот приезжал в Софиевскую еще юнкером – на побывку.
Пожилой казак – ветеран русско-японской войны – ото всяких расспросов деликатно воздержался, сказал просто:
– Довезу, Сергей Петрович, в лучшем виде, лягите под кожух, в случае чего скажу: племяша везу из больницы после операции.
– Когда выедем?
– Насчет сеялки я с кумом уже договорился, кабанчика продал. Собирайтесь, вечером, на ночь глядя, и махнем. Сейчас в степи ночью спокойнее ехать, чем днем, – такие времена настали на Кубани на нашей!..
Поручик простился с четой Соломко, и вечером, когда уже стало смеркаться, они выехали. Доехали благополучно, без происшествий, на третьи сутки, а за эти дни в поселке произошли чрезвычайные события. На станцию прибыл особый поезд: два пассажирских вагона третьего класса и паровоз. Из вагонов на платформу выскочили матросы в бескозырках с георгиевскими ленточками. С ними был командир, в кожаной тужурке, на поясе парабеллум в деревянном футляре. Лицо каменное, губы накрепко сжаты. Он повел свой отряд прямо в ревком, вошел с тремя матросами в кабинет, где за изящным письменным столом красного дерева с бронзовыми амурчиками до краям окаймлявшей его решетки сидел и чистил тараньку председатель Голуб, и объявил ему, что он арестован по распоряжению областной революционной власти. Тем же поездом Голуба увезли. Вскоре было объявлено, что он расстрелян «за анархо-бандитизм».
Ничего этого поручик Караев, тащившийся в ту пору по степным проселкам в свою станицу Софиевскую, не знал.
3
Постарел дядюшка-нотариус, постарел! Под глазами дряблые мешки и худой стал – куда девалась прежняя его вальяжная округлость? Кремового цвета чесучовый пиджак висит на его плечах, как на вешалке. А тетушка Олимпиада такая же – скорая, легкая в движениях, даже изящная, несмотря на свою полноту. В черных с масленым отливом глазах сияние догорающего бабьего лета. Тараторит, как прежде, – сто слов в минуту.
– Ой, Сереженька, каким же ты красавчиком стал! И Георгиевский крестик очень тебе к лицу! Воображаю, как Наточка Ярошенкова обрадуется, когда тебя увидит. Она ведь, бедняжечка, сейчас одна осталась в доме с Федотовной, с их кухаркой. Федор Кузьмич подался в Екатеринодар. Тут на него зубы точат наши местные большевики. И пуще всех Фрол Забейко. Помнишь его?
Фрол Забейко! Как не помнить! Плечистый, кровь с молоком, высокий не по годам парубок-казачонок. Не из богатой семьи, но и не из голытьбы. Умница, книгочей и притом весельчак: яростный плясун, на гулянках станичные девчата тогда еще на него заглядывались. Когда кадет Сережа Караев приезжал на вакации в Софиевскую, он дружил с Фролом. Позже, в юнкерскую пору, отношения их изменились. Какая может быть дружба между будущим офицером и простым станичником – рядовым казаком!
Тетушка Олимпиада продолжала тараторить:
– Он на фронте большевиком заделался. На всех митингах в станице выступает. Да говорит так складно, красиво. И, знаешь, очень убежденно. Встретил меня недавно на улице, любезно поздоровался. Спрашивал про тебя, где ты воюешь.
– Бог с ним, с Фролкой! – сказал поручик, поднимаясь. – Вы, если его снова встретите, не говорите, что я приехал в станицу. Ни к чему это!.. Я пошел, тетушка, вернусь, наверное, поздно…
…Все было как прежде: яблоневый сад, сейчас не нарядно зеленый, а черный, оледеневший. За высоким забором хриплым пугающим басом лаял, гремя цепью, славный пес Постой, притворялся сердитым, бдительным стражем.
Калитка оказалась запертой, пришлось долго трясти железное кольцо замка. Наконец послышались легкие шаги на дорожке, и за калиткой раздался тревожный старушечий голос:
– Кто тут колотится?
– Мне к Наталье Федоровне.
– Никого не велено пускать!
– Вы ей скажите, что Сергей Караев приехал с фронта и хочет ее видеть!
Калитка чуть приоткрылась, высунулась старушечья голова доброй колдуньи – из-под белой хустки видны седые космы. Старуха, скользнув по стройной фигуре поручика молодым зорким прищуром, заулыбалась.
– Вчерась только я барышне гадала, и, представьте, выпала карта король бубей – нежданный гость… Проходите, пожалуйста, в дом, мы тут с барышней как под турецкой осадой в крепости живем!
…Боже мой, вот они, ее золотые волосы, ее неправдоподобно синие глаза «морской царевны», ее милая, добрая улыбка!
– Сереженька, родной! Знала, что приедешь, сердцем чуяла!
Обнял, крепко прижал к себе, долго целовал волосы, щеки, губы. Целовал, как целуют ту, с которой – навсегда! Как жену.
Когда объятия их разомкнулись, она засуетилась, захлопотала:
– Идем скорее в столовую! Федотовна, давайте все, что у нас есть!
За столом угощала нежданного гостя вяленым лещом, холодной свининой, мочеными помидорами и соленым арбузом, домашними пирогами – всякой кубанской доброй снедью, подливала в пузатенькую стопку вишневую настойку. И снова он подумал: «Да, жена, хозяюшка!»
Ната говорила:
– Ты мог меня не застать здесь. Со дня на день за мной должен приехать папин человек, повезет в Екатеринодар. Все тут брошу на Федотовну, пусть будет как будет. Очень неспокойно у нас, Сереженька. Мы ведь теперь с папой считаемся буржуями!
– А как вообще казаки настроены?
– По-разному, Сереженька. Вон Фрол Забейко – он первый большевик, а другие… ждут! А чего ждут, понять трудно. Но у всех такое ощущение, что вот-вот что-то должно роковое случиться… Еще будешь кушать?
– Что ты?! Спасибо! Забыл, когда так вкусно ел!
Она поднялась из-за стола. Он тоже встал, подошел к ней, обнял, заглянул в глаза – синева их грозно сгустилась. Сказала тихо:
– Иди в мою комнату, я сейчас приду, только распоряжусь тут!
…Была уже ночь, когда сонная, зевающая и крестящая после каждого зевка рот Федотовна и Постой, спущенный с цепи, проводили поручика до калитки.








