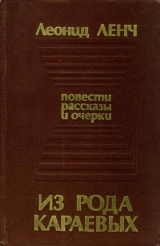
Текст книги "Из рода Караевых"
Автор книги: Леонид Ленч
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Опустив голову, прижав ко лбу ладонь, Алевтина Иоанновна плачет, подавленная своими воспоминаниями. Мелкие слезинки катятся по ее увядшим щекам. Потом она берет себя в руки, выпрямляется и вновь превращается в светскую пожилую даму. Мы продолжаем наш разговор.
– Как же вам тут живется, Алевтина Иоанновна?
– Я благодарю бога и поминаю добром папу и маму за то, что они учили меня музыке. Музыкант – это та профессия, с которой не пропадешь!.. Видите там, у стены, стоит мужчина? Вон тот, седой, красивый. Это наш виолончелист и певец! Он грек, его зовут Теодор. Известная личность! Ему шестьдесят семь лет, но девчонки до сих пор за ним бегают, назначают свидания. Он – мой друг, мы давно вместе работаем, – в ее голосе звучат горделивые нотки, – можно смело сказать, что публика на нас ходит!.. В прошлом году с нами случилась большая беда!
– Какая?
– Сгорел ресторан, в котором мы работали, и все наши ноты погибли, весь репертуар. Представляете? Мы полгода были без работы, – Алевтина Иоанновна зябко поводит плечами, – но, слава богу, все обошлось!
– Много русских живет в Стамбуле?
– Я общаюсь только с теми, кто из первой волны, – таких мало. У нас есть своя церковь, мы там встречаемся. Я среди наших дам самая молодая.
– Каждый день работаете, Алевтина Иоанновна?
– Каждый день. До часу ночи.
– А живете далеко?
– На том берегу.
Скользящей походкой ловкого танцора к нашему столу подошел Теодор. Мы познакомились. Он заговорил по-французски, но, говорил так быстро и так свободно, что я спасовал и разговор наш не состоялся. Теодор перебазировался от меня к Дабри-бею. Он стоял подле его стула, почтительно пригнувшись почти пополам (владелец ресторана – это же персона для ресторанного певца!), и Дабри-бей ласково гладил его по седым кудрям, а потом в знак особого расположения подцепил вилкой со своей тарелки немного салата и дал Теодору, и тот ловко сглотнул с хозяйской вилки угощение.
Я сказал Алевтине Иоанновне:
– Можно мне задать вам один не очень деликатный вопрос?
– Пожалуйста, задавайте!
– Представьте себе, что у вас появилась бы возможность вернуться на родину. Как бы вы посмотрели на это?
Слабая улыбка тронула ее губы.
– Ну, вы же понимаете… вся жизнь прошла здесь, а потом, – в ее блеклых глазах вспыхнул огонек непримиримости, – все-таки мы живем здесь кто как хочет!..
Сказала и сразу поднялась. Видимо, мой вопрос не поправился ей, да и пауза кончилась, пора было приниматься за работу.
Оркестр играл в честь «профессора» весь свой русский репертуар: «Подмосковные вечера», «Эй, ухнем…». «Очи черные…» и «Калинку». С легкой руки, вернее, ноги наших блистательных фигуристов «Калинка» покорила весь мир.
Теодор оказался на высоте. Он пел эти песни по-своему талантливо, выкидывая всякие неожиданные коленца. «Калинку» он не только пел, но и танцевал, комично подкидывая фалдочки пиджака, демонстрируя бешеный темперамент.
Потом опять была пауза, но включили магнитофон, и начались танцы. С Теодором пошла танцевать женщина с милым лицом мягкого славянского типа. Танцевала она с каким-то исступленным отчаянием. Алевтина Иоанновна шепнула мне, что это вдова министра, миллионерша, очень хорошая женщина, жаль только сильно пьет не то от горя, не то от скуки.
– Она не похожа на турчанку! – сказал я.
– А она только по отцу турчанка. Она из Киева, ее мать хохлушка!
Всему приходит конец, даже гостеприимству в квадрате. Мы попрощались с Алевтиной Иоанновной и Теодором, и сын Дабри-бея – им оказался бледный молодой человек, поцеловавший мою руку, – отвез меня в отель.
Я поднялся к себе в номер и, не зажигая света, вы шел на балкон. Стамбул, таинственный, греховный, сверкающий, дышал ночной свежестью. По Босфору медленно двигались судовые огни. Осмелевшие к ночи собаки лаяли навзрыд. Река времени спокойно текла в своем обычном русле в заданном ей природой направлении.
…Утром меня снова разбудил муэдзин.
ШОК
Счастье – понятие относительное. Что такое, например, солдатское счастье?
В том немецком полку, в котором служил во время войны Иоганн Кюхель, уроженец маленькой австрийской деревушки, расположенной в долине Дуная, недалеко от Вены, счастьем считалось потерять левую руку. Ведь с одной правой рукой жить можно! Хуже остаться совсем без рук или без ног. А еще хуже не вернуться на родину вовсе, навсегда лечь в чужую мерзлую землю под чужим неласковым небом. Поэтому, с точки зрения однополчан, Иоганн Кюхель был самым доподлинным счастливчиком; его погрузили в санитарный поезд целехоньким, с руками и с ногами, безо всяких телесных повреждений.
Получилось так, что полк угодил в русский котел и варился в нем целых две недели. Сдаться в плен Иоганну Кюхелю не удалось – очень уж свирепствовали бдительные полевые жандармы. Когда жалкие остатки полка через узкую трещину в стальной стенке котла вытекли наружу, Иоганн Кюхель был готов. Нет, он не был трусом, просто нервы его не выдержали напряжения непрерывных боев и шквального огня русской артиллерии. Он стал заикаться, в разговорах с товарищами нес чепуху, и во взгляде его серых, женственно-красивых глаз появилось выражение затравленности и страха.
В тыловом белорусском городке разгромленный, потерявший три четверти состава полк выстроили на площади. Оборванные, угрюмые, худые солдаты встали в одну шеренгу.
Производивший смотр генерал, командир корпуса, надменный пруссак с гордо, по-гусиному выпяченной грудью, пошел вдоль фронта, раздавая Железные кресты и медали бледным оборвышам, более похожим на призраки солдат, чем на лихих гренадеров непобедимой армии фюрера.
Когда ой поравнялся с Иоганном Кюхелем, стоявшим в строю в середине шеренги, произошла неприятность. Солдат испуганно отвел генеральскую руку с Железным крестом, а когда командир корпуса, недоумевая и негодуя, оглянулся на сопровождавшего его майора, жалко улыбнулся и, сложив губы трубочкой, причмокнул ими громко и крайне неприлично.
Пепельно-серое лицо генерала стало белым, он коротко, через плечо бросил майору: «Убрать идиота!» – и пошел дальше по фронту. Сразу же после смотра Иоганна Кюхеля отправили в госпиталь. Врачи признали его негодным к военной службе, и через неделю он уехал домой.
С тех пор прошло много лет. Много бурь пронеслось над черепичными крышами маленькой австрийской деревушки, в которой жил бывший гитлеровский солдат Иоганн Кюхель. Наступили новые времена, и они принесли людям новые страхи и новые тревоги. И только один Иоганн Кюхель был спокоен.
Он делал всю крестьянскую работу, ухаживал за своим виноградом, но делал все кое-как, словно во сне. Он жил, не замечая жизни. Его жену Марту – здоровую, полногрудую женщину – кумушки слишком уж часто встречали в укромных местах вдвоем с мельником Кранцфельдом, местным богачом. А Иоганну было все равно! И по-прежнему стоял страх в его красивых глазах, будто, оглохнув от первого разрыва тяжелого снаряда, ждет солдат второго разрыва, третьего, четвертого.
Деревенские озорники любили дразнить его. Они кричали ему в спину: «Русские идут!» – и, когда Иоганн, втянув голову в плечи, пускался бежать по улице, хохотали, улюлюкая и визжа от удовольствия.
Летом 1954 года деревушку постигла беда. Несколько недель подряд во всей округе бушевали небывалые ливни, они переходили в снегопад, а потом снова в хлесткий, сильный холодный дождь. Старухи уверяли, что наступил конец света и что дождь – это не дождь, а всемирный потоп; пастор советовал молиться и уповать на милость божию, а кое-кто утверждал, что этот циклон – последствия испытаний американской водородной бомбы в Тихом океане. Дунай вздулся, пожелтел и наконец, прорвав последним яростным штурмом дамбы и валы, затопил всю долину. Разлились и его притоки. Огромные пространства плодородной земли с городами и деревнями стали желтым пенящимся морем. Погибло много людей и скота.
Деревушку, в которой жил Иоганн Кюхель, тоже затопило. Люди спасались на крышах домов и на высоких деревьях.
…Было мрачное, холодное утро. Дождь ослабевал, но эскадрилья тяжелых набухших облаков продолжала свой стремительный, зловещий полет. Иоганн Кюхель, Марта и мельник Кранцфельд, продрогшие, полуживые, скорчившись, сидели на крыше церкви среди других жителей деревни, которых загнало сюда великое бедствие.
Вторые сутки ожидали они помощи, с ужасом наблюдая, как невысокие злые волны разлива уносят плоды их долголетнего тяжелого труда. Жалобно мычали, блеяли, лаяли и ржали тонущие животные, громко плакали голодные, напуганные дети, стонали старики и старухи. И все же эти надрывающие душу звуки не могли заглушить ровного, то утихающего, то усиливающегося плеска падающего в воду дождя.
Вдруг новый звук ворвался в эту печальную какофонию. Это был веселый, сильный перестук моторов.
Люди на крыше вскочили, стали вслушиваться. Да, это стучат моторы! Значит, идет помощь. Спасение!..
Одни, упав на колени и подняв руки к разверзшимся небесам, громко благодарили бога, другие просто кричали от радости, размахивая палками и шляпами. Сквозь мутную белесую пелену дождя уже можно было различить странные, ни на что не похожие силуэты.
Всмотревшись, мельник Кранцфельд крикнул:
– Это русские идут! На своих амфибиях!..
На крыше поднялась радостная суматоха, и никто не заметил, как Иоганн Кюхель, услышав крик мельника, вздрогнул, втянул голову в плечи и стал быстро-быстро карабкаться по крыше вверх. Потом он лег и замер, с ужасом глядя на подплывающую амфибию с русскими солдатами на борту. Амфибия остановилась, и советский офицер, молодой человек, почти мальчик, с румяным озябшим лицом, в потемневшем от дождя плаще, поднялся и громко, так, чтобы на крыше слышали, крикнул по-немецки:
– Я – лейтенант Советской Армии Макар Голубев. Слушайте меня. Все будут спасены. Только – без паники!..
Мельник Кранцфельд сейчас же подполз на брюхе к краю мокрой крыши. Он хотел первым спуститься вниз по водосточной трубе, но русский офицер остановил его властным окриком:
– Сначала женщины и дети!
Действуя быстро и ловко, советские солдаты установили привезенные ими лестницы, взобрались на крышу и на руках стали опускать в амфибию ребят и женщин.
Маленький мальчик, сидевший на крыше с перепуганным насмерть щенком на коленях, громко заплакал, когда молодой белобровый русский сержант хотел взять его на руки: мальчик боялся не за себя, а за щенка. Он решил, что собачонку оставят на крыше. Но сержант энергичным жестом показал мальчику, чтобы тот покрепче держал щенка. Потом он осторожно, словно хрупкий сосуд, одной рукой прижал к себе ребенка с собакой и бережно спустил в амфибию свой двойной груз.
Когда все женщины и дети были сняты с крыши, стали спасать стариков. Тут всех насмешил семидесятилетний Карл Бухгейм, славившийся в деревне своими чудачествами. Он заявил, что спустится вниз сам, без посторонней помощи, как полагается бывшему «гусару смерти» старой австрийской армии. Лейтенант Голубев, улыбаясь, перевел солдатам слова старого чудака, и белобровый сержант Даниленко под общий хохот сказал:
– Я, товарищ лейтенант, на всякий случай буду дедушку страховать… а то как бы этот «гусар» не перешел в другой род войск – в подводники.
Предосторожность сержанта оказалась не лишней, потому что на середине лестницы у «гусара смерти» закружилась голова, он покачнулся и наверняка бухнулся бы в воду, если бы Даниленко, спускавшийся сзади, не поддержал старика своей крепкой рукой. Наконец все оказались в амфибии, и лейтенант Голубев уже собирался скомандовать отплытие, как вдруг заметил прижавшуюся к крыше плоскую фигуру Иоганна Кюхеля.
– Стоп! – сказал лейтенант. – Там еще один остался.
Тогда мельник Кранцфельд, покосившись на сидевшую рядом с ним безмолвную, ничего не замечавшую, как бы окаменевшую Марту, подобострастно улыбаясь, шепнул лейтенанту:
– Не стоит из-за него беспокоиться, господин офицер. Это дурачок, совсем ненужный человек. Он… сам… как-нибудь… Едемте скорей!..
Лейтенант Голубев так посмотрел на мельника, что тот весь съежился и отвел глаза.
– Сержант Даниленко! Снять человека! – скомандовал лейтенант.
Марта очнулась, тихо сказала:
– Спасите его. Это мой муж!
Белобровый сержант скинул с себя сапоги, сказав, что «босиком будет способней», быстро залез на крышу и, пригнувшись, стал карабкаться по ее скату, приближаясь к Иоганну Кюхелю. Тот уже стоял во весь рост, и вся его дрожащая тощая фигура выражала страх.
Вот Даниленко оказался почти рядом с ним, протянул ему руку. Но Иоганн Кюхель сделал шаг в сторону, потом стал быстро спускаться вниз. Даниленко спускался следом за ним, крича по-русски:
– Куда ты, геноссе? Убьешься, дурень!.. Обожди!..
Потом сидевшие в амфибии люди увидели, как бедняга, словно петух, отчаянно взмахнул длинными руками-крыльями, как бы собираясь перелететь с одной крыши на другую, и вдруг тяжело рухнул вниз, в воду. Мгновенно классической «ласточкой» Даниленко кинулся туда же, в кипящий желтый водоворот. Он вовремя подплыл к захлебывающемуся австрийцу, уносимому сильным течением и уже терявшему сознание, и схватил его за волосы. С амфибии ему бросили спасательный круг. Не прошло и десяти минут, как их обоих втащили на борт плавучего броневика.
Русские солдаты бережно уложили Иоганна Кюхеля так, чтобы голова его оказалась на коленях Марты. Мокрые, спутанные волосы Иоганна прилипли к его бледному лбу, нос заострился, глаза были закрыты. Он казался мертвецом. Но вот он открыл глаза, и всех поразила непривычная осмысленность его взгляда.
– Выпейте! – сказал ему лейтенант Голубев, протягивая фляжку. – Это русская водка. Вам полезно!
Иоганн Кюхель схватил руку Голубева с фляжкой и прижал ее к своей груди, потом, приподнявшись, сделал глоток, сморщился, улыбнулся и снова опустил голову на колени жены.
Недели через три, когда Дунай уже вошел в свои берега, в казармы полка, в котором служил лейтенант Макар Голубев, явился Карл Бухгейм, бывший австрийский «гусар смерти». Лейтенант вышел к нему на казарменный двор. Старик, в черной паре и праздничной шляпе с традиционными перышками, был слегка «под хмельком», но держался с достоинством и не без торжественности.
Он долго тряс руку лейтенанта и благодарил его «от имени всего народного населения», а потом сказал:
– Вы знаете, господин лейтенант, вот этот наш Кюхель Иоганн… которого вы вытащили из воды… Он был совсем… – Тут старик постучал пальцем себе по лбу. – А сейчас парня не узнать! Пастор говорит, что это шок налетел на шок и второй шок выбил к черту первый… Вы его напугали, вы его и вылечили, выходит!.. – «Гусар смерти» засмеялся скрипучим смехом и стал набивать табаком свою короткую трубочку.
– А почему вы решили, что парень стал нормальным? – спросил его лейтенант Голубев.
Старик не спеша зажег трубку, раскурил ее как следует и потом уже, вынув изо рта, сказал:
– О человеке надо судить по его поступкам, правда? Пока разумного он сделал не много. Но уже кое-что сделал. И это кое-что означает, что парень встал на правильный путь в своей жизни.
– А что же он все-таки сделал разумного?
– Он так отколотил эту скотину – мельника Кранцфельда, что тот и носу не кажет к его Марте. Я вам говорю: парень встал на правильный путь!
Они долго еще стояли вдвоем на казарменном дворе и разговаривали.
Прощаясь со стариком, лейтенант Голубев отдал ему воинскую честь, и тот в ответ, лихо щелкнув каблуками, тоже вскинул сморщенную руку к своей шляпе с перышками и еще раз повторил:
– Благодарю… от имени всего нашего народного населения.
ДРУЖЕСКАЯ УСЛУГА
Ненастный осенний день. Холодный, злой ветер мечется по размокшим улицам районного городка, срывает последние черные листья с нагих веток молодых берез.
Быстрой рысью бегут куда-то на запад рваные, набухшие тучи. Дождь то пойдет, по перестанет – мелкий, нудный, будто из испорченной лейки.
На базарной площади грязь по колено, но здесь, в колхозной чайной, тепло, сухо и относительно чисто.
Румяная кокетливая гардеробщица Дуся грозным сопрано предупреждает всех входящих:
– Граждане, снимайте верхнюю одежду. И обувь очищайте. У нас для этого имеются веник и персональные щепочки!
Граждане послушно сдают Дусе свои мокрые ватники, куртки, пальто и долго орудуют веником и «персональной щепкой», счищая с сапог налипшие комья грязи. Потом, крякнув и поправив перед зеркалом волосы (а у кого их нет, то просто с душевным сокрушением погладив себя по лысине), идут в зал.
Приятно после осенней мокроты посидеть в тепле и сухости, попить чайку из пузатого белого чайника, а то и водочки попросить, закусить чем бог послал, послушать патефон, почитать газету или поговорить с хорошим человеком о жизни.
В чайной всегда полно. Подавальщицы носятся, как на роликах, но все равно не успевают подавать.
Зал басисто гудит, смеется, сыплет шуточками, гомонит. А патефон на стойке у буфетчика с хватающей за сердце красивой грустью выводит тенором:
С берез, неслышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист…
За столиком у печки сидит пожилой, плотный, усатый мужчина с мощными плечами, туго обтянутыми военной гимнастеркой без погон. На груди у него три медали и орден Славы. Лицо у усача красное, распаренное, подобревшее от песни. Далеко-далеко, видать, унесла она его из этого зала!
Но вот к его столику подошел цыганский смуглый, низкорослый, худощавый паренек в кожаной шоферской тужурке, сел на свободный стул, скользнул беглым безразличным взглядом по мечтательному лицу усатого кавалера, и вдруг его зеленые, как у кошки, узкие глаза зажглись веселым огоньком.
– Эй, друг! – после некоторой паузы сказал он тенорком. – Очнись, милый! Все равно всю водку не выпьешь, всех песен не переслушаешь!
Усач вздрогнул, обернулся:
– Чего тебе?
– Ничего конкретного! Просто смотрю на твою усатую, довольно симпатичную физиономию и не могу вспомнить: где я ее видел? Посмотри ты на мою: может быть, ты вспомнишь?
Усач внимательно и серьезно посмотрел на улыбающееся цыганское лицо веселого паренька в кожаной тужурке.
– Личность твоя мне, безусловно, тоже знакомая, – сказал он с той же солидностью, – только, дорогой товарищ, припомнить тебя я… тоже не могу!
– Интересная получается ситуация! Тогда… давай заполняй анкету! Фамилия? имя? отчество?
– Никитов Лука Петров, – по-солдатски отрапортовал усач.
– Никитов? Ничего мне твоя фамилия не говорит. Лука Петров? Ни синь пороху! А меня зовут Донькин Яков Нилыч! Тебе что-нибудь говорит эта благородная фамилия?
– Донькин! – Усач пожал богатырскими плечами. – Вроде что и говорит, но таким, понимаешь, шепотком – ничего не разберешь. Откуда родом-то сам?
– Родился я на берегах Невы! – с чувством продекламировал Донькин. – Где, может быть, родились вы или блистали, мой приятель?
– Нет, я под Суздалем… блистал. Деревня Веткино, колхоз «Первенец коллективизации». Слыхал?
– Нет, не слыхал. Сейчас где работаешь?
– Плотничаю тут по району. Новые избы рублю в колхозах.
– Понимаю!.. А я шофером работаю в леспромхозе, сто километров отсюда. Бывал у нас?
– Нет, не бывал. Воевал где?
– На Первом Украинском. Танкист. Потом по случаю ранения генерала возил. А ты?
– Первый Белорусский. Сапер, труженик войны!
– Где же мы с тобой встречались, труженик войны?
– Не знаю, брат! Может, где и встречались! Ведь какой был коловорот! Слушай, Донькин: может, мы с тобой в одном госпитале лежали?
Они стали вспоминать госпитали, в которых лечили свои раны во время войны, но все это были разные госпитали. И в конце концов веселый Донькин не выдержал:
– Предлагаю прекратить прения и потребовать половинку… Для подогрева памяти!
– Я уже нынче, признаться, подогревался, – смущенно отозвался Никитов.
– Видать, успела она остыть, твоя боевая память, сапер! – сказал Донькин и ухватил пролетавшую мимо официантку за пухлый локоток. – Примите заказ.
Официантка стала принимать донькинский заказ, но тут к их столику подошел громадный человечище в брезентовом, жестком, как железо, плаще, с которого на пол шумно стекала дождевая вода, и сказал сердитым басом, как из бочки:
– Я тебя ищу, Донькин, а ты тут чаи гоняешь!.. На, распишись на накладной!
Он с сердцем положил на стол бумагу и химический карандаш. Донькин расписался. Никитов взглянул на его подпись – затейливую, с закорючкой, и, вдруг просияв, улыбнулся широкой, детски счастливой улыбкой.
– Вспомнил я тебя, Донькин! – сказал он, продолжая улыбаться. – Мы с тобой на рейхстаге в Берлине вместе расписывались. Я еще тебе дружескую услугу оказал. В порядке боевого взаимодействия… Помнишь?
Шофер посмотрел на плотника, тоже просиял и хлопнул себя по коленкам.
– Верно, – закричал он, вскакивая с места. – Правильно! – И, обращаясь к человеку в брезенте, стал торопливо объяснять: – Когда Берлин взяли, многие наши ходили расписываться на ихнем рейхстаге. Я тоже отпросился у своего генерала, пошел. А ростом-то меня природа обидела – сам видишь, мужичок с ноготок. «Эх, – думаю, – Донькин, историческая твоя подпись будет стоять ниже всех». А тут он идет, сапер, уже расписался. «Помоги, – говорю, – браток, в порядке боевого взаимодействия. Дай я тебе на плечи встану».
– Все уши мне сапогами оттоптал! – с той же детской улыбкой сказал плотник. – Зато расписался выше всех! Донькин! Скажи пожалуйста, как из головы вылетело!..
Человек в брезенте посмеялся, ушел. А Никитов и Донькин остались и долго еще вспоминали славные майские дни в разбитом Берлине, где столкнула их прихотливая солдатская судьба.
Потом шофер, подняв стаканчик, сказал:
– Давай выпьем, сапер, за военную русскую славу, за Родину, за нашу работу… Тронет еще какой умник Советскую нашу Родину – мы с тобой опять где надо распишемся…
Они чокнулись и выпили.
А зал по-прежнему гудел, смеялся, сыпал шуточками, гомонил. И патефон на стойке у буфетчика с прежней красивой грустью выводил:
…И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы,
Товарищи мои!..








