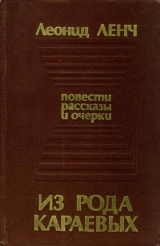
Текст книги "Из рода Караевых"
Автор книги: Леонид Ленч
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
ДРУЗЬЯ
– Пойду! – говорил Федя Ласточкин, бывший лихой фронтовой шофер, а сейчас по инвалидности ставший нарядчиком в большом гараже. – Пойду – и все! И вы меня, мамаша, не сбивайте. Мы с ним фронтовые дружки! Это понимать надо!..
– Ой, не ходи, Феденька! – горячилась Федина мать Пелагея Петровна, женщина сырая и хмурая. – Тебя до него и не допустят даже. Какой он тебе друг? Из начальников начальник. У него одних телефонов небось на столе шесть штук. Секретарши дверь стерегут: почему, зачем да по какому делу?
– А я скажу: «Никаких просьб и жалоб у меня нету, а просто я имею желание поговорить с Николаем Ивановичем как со своим фронтовым дружком».
– А тебе скажут: «Много вас тут таких дружков!.. Он человек перегруженный. Приходите… после дождичка в четверг».
– А я скажу: «Вы только доложите товарищу бывшему полковнику, что до него рвется Федя Ласточкин, – и все».
– А они тебе – от ворот поворот.
– А мы можем, как в приказах говорится, штурмом овладеть. Мне бы только к нему прорваться, а там уж – порядок!
– Да он, поди, и забыл тебя давно!
Федя Ласточкин затянул потуже ремень на шинельке без погон, поправил ушанку без красной звездочки и гордо сказал:
– Плохо вы обо мне понимаете, мамаша. Те, кого Федя Ласточкин возил, те его не забывают. Пойду!..
Вернулся он домой через час, печальный, бледный, расстроенный. Молча снял шинель, бросил ушанку на печку и, не снимая сапог, повалился на кровать.
Пелагея Петровна, возившаяся у плиты, посмотрела на сына, вздохнула и сказала:
– Говорила тебе, дураку: не ходи!
Федя сердито засопел и ничего не ответил.
– Не пустили, что ли?
– Когда она как обезьяна цепная! – горячо заговорил Федя Ласточкин звонким от обиды голосом. – Юбочка шелковая, в зубах «Казбек», на голове ей парикмахер траншеи полного профиля наворотил. Я, мамаша, сначала с ней вежливо разговаривал, по-культурному. Прошу, мол, по всей форме доложить Николаю Ивановичу, что пришел Федя Ласточкин. «По какому делу?» – «У меня не дело, у меня желание». – «Какое желание?» – «Желание обыкновенное: хочу повидать, – говорю, – товарища бывшего полковника, которого на своем боевом «виллисе» от самой Волги до Вислы довез». – «У него совещание, к нему сейчас нельзя». – «А вы подите и доложите, что пришел Федя Ласточкин, и тогда посмотрим, какой будет приказ товарища бывшего полковника». – «Вам сказано, нельзя, у него совещание». Я сел. Сижу. Жду. И она сидит. Потом говорит: «Идите, товарищ, ваше сидение бесполезное». Ох, меня тут злость взяла! «Это, – говорю, – у вас сидение бесполезное, гражданка. Не хотите, – говорю, – доложить Николаю Ивановичу – тогда я сам ему доложусь». И – к двери в кабинет. Она прыг из-за стола и не пускает меня. Красная стала, как бурак, и вроде у нее шерсть дыбом поднялась. Я говорю: «Гражданка, меня «тигры» и «пантеры» не могли остановить. Неужели же вы остановите?» А она мне давай милицией грозить. Ну, тут я, мамаша, не сдержал себя… и пошумел маленько… Я ее не ругал, но овцой бесчувственной назвал раза два, не больше. Она шасть в кабинет. Выходит через минуту и с такой ехидной насмешкой мне выкладывает: «Я вам советую прийти завтра». Меня как по сердцу ножом! Я налево кругом… и в тыл!..
Губы у Феди Ласточкина задрожали, он повернулся лицом к стенке.
– А все потому, что мать не слушаешь, – сказала Пелагея Петровна. – Говорила я: какой он тебе друг? Из начальников начальник! А ты кто?
– Эх, мамаша, мамаша! Ничего вы не понимаете! За Днепром, помню, попали мы с ним в переплет. Только переправились на тот берег, «юнкерсы» нас и защучили. Мы – в канаву. Николай Иванович мне кричит: «Держись, Федя! Сейчас он даст нам прикурить». А я ему: «Если он, товарищ полковник, с пикирования будет кидать, мы, безусловно, имеем шанс закурить, а так… авось дальше поедем некурящими». Только я это сказал, он ка-ак пикнет на нас – и бросил «сотку». Тут меня в первый раз ранило… Николай Иванович со мной тогда как родной отец… Перевязал, сам за баранку сел и в госпиталь отвез. Степка Никитин к нему ловчил навсегда в шоферы, а он сказал: «Нет, вернется из починки Федя Ласточкин, я его опять к себе возьму». Он меня, мамаша, за лихость любил, а за квалификацию уважал… Я, бывало, и по целине и по проселкам. Он только смеется! «Тебя, Федя, взять с твоей машиной живым в небо – ты и там по облакам пойдешь чесать, все небесное народонаселение разгонишь!..»
Долго рассказывал Федя Ласточкин матери про свою фронтовую жизнь, про Николая Ивановича, про бомбежки и обстрелы, а чувство обиды не исчезало, и горечь, которой до краев было полно его простое сердце, искала выхода.
Тогда он стал ругать секретаршу, не пустившую его к бывшему полковнику. Ругал он ее шепотом, чтобы мать не слышала, расстраиваясь еще больше при мысли, что все эти заковыристые словечки, полнозвучные эпитеты не сказал вовремя и теперь уже секретаршу не заденет его запоздалое острословие.
Вдруг в дверь постучали. Пелагея Петровна пошла отворять и вернулась бледная, с испуганным лицом.
– Довоевался, Аника-воин! – сказала она сыну. – Милиционер пришел. Требует тебя немедленно! Ох, будет тебе теперь! Пропишут тебе ижицу за характер твой характерный!
– Не пойду я! – буркнул Федя, не поднимаясь с кровати. – Ничего я такого не сделал!.. Подумаешь, овцой ее назвал… Овцы очень даже полезные бывают. Это не протокольное слово – «овца»!
– Я сказала ему, что ты заболел, лежишь.
– А он что?
– А он говорит: «Велено немедленно доставить!»
…У ворот домика, где жил с матерью Федя Ласточкин, стоял новенький, блестящий ЗИС. Федя сел рядом с шофером. Лицо у него было строгое, сосредоточенное, губы поджаты.
– Не волнуйтесь, мамаша! – сказал он перепуганной насмерть Пелагее Петровне. – Еще раз вам говорю: это не протокольное слово – «овца».
…Когда Федя вошел в приемную Николая Ивановича, секретарша с заплаканными глазами говорила по телефону. Увидев Федю, она положила трубку, не окончив телефонного разговора, и сказала:
– Вы думаете, я бесчувственная? Я не бесчувственная, товарищ Ласточкин. Но если я не буду регулировать прием, Николаю Ивановичу некогда будет работать.
Прошел час. Федя Ласточкин все еще не выходил из кабинета Николая Ивановича. Бывший шофер сидел в кресле, вытянув несгибающуюся в колене правую ногу, и влажными, преданными глазами глядел на бывшего полковника, у которого из-под рукава пиджака виднелась черная тугая перчатка протеза.
– А помнишь, Федя, – говорил Николай Иванович, – когда мы к Висле выходили, как у тебя ночью горючего не хватило. А?
– Спасибо танкисты выручили!
– Ох, и дал я тебе тогда жизни!
– Разве рассчитаешь, товарищ полковник, когда мы десять раз за час в грязи застревали! А помните, как нас шестиствольный чуть не накрыл, когда мы к переднему ехали?
– А помнишь…
Робко вошла секретарша и сказала:
– Николай Иванович, там этот ждет… из коммунального банка.
– Попросите немножко обождать!
Когда секретарша скрылась, Федя Ласточкин, повинуясь внезапно нахлынувшему доброму чувству, сказал:
– Вы ее не ругайте, Николай Иванович. Тоже ведь ей туго приходится… от нашего брата!
– Хорошо, Федя. Только ради тебя! А ты помнишь…
И друзья снова стали вспоминать «битвы, где вместе рубились они».
ВЕСЕЛЫЙ ПОПУТЧИК
Война шла к концу.
Фронтовую газету, в которой я служил, занимая штатную должность писателя, перебрасывали по железной дороге с одного фронта на другой, и это было отличное путешествие.
В самом лучезарном настроении мы с майором Тесленко вышли ночью из нашего классного вагона на пути большой узловой станции, разбитой «юнкерсами» еще в начале войны. Между рельсами мутно белел снег, но ветер, насыщенный влагой, шумел уже по-весеннему.
Майор Тесленко, наш секретарь редакции, будучи по натуре человеком глубоко штатским, хотел казаться настоящей «военной косточкой». С этой целью низенький, худой и сутулый Тесленко затягивал пояс на шинели до того, что дышал с трудом, а вместо нормального пистолета в кожаной кобуре носил трофейный парабеллум в огромном деревянном футляре, который больно бил его по бедру при ходьбе.
Кроме того, Тесленко на все вопросы отвечал в категорической и определенной форме. Ведь «военная косточка», занимающая столь высокое положение в редакции, должна все знать! К черту всякие штатские неясности, неопределенные междометия и увиливания!
Слушая, как маленький Тесленко обсуждает военные проблемы, можно было подумать, что он, Тесленко, по своей осведомленности первый человек в армии! При этом он был отличным газетчиком и добрым товарищем.
Вот он меня тогда и подвел – майор Тесленко, милая «военная косточка».
Бес дернул меня за язык, и я спросил его:
– Ты не знаешь, сколько мы будем здесь стоять?
– Сорок минут! – не моргнув глазом, ответил осведомленный Тесленко.
– Значит, я успею сходить на вокзал и посмотреть, что там и как?
– Ты не только успеешь посмотреть, что там и как, ты даже успеешь взять для нас пива. Здесь продают великолепное пиво!
– Откуда ты знаешь, что здесь продают великолепное пиво?
– Здесь продают великолепное пиво! – железным голосом повторил Тесленко. – Обожди, я вынесу тебе бидон.
Он сходил в вагон и торжественно вручил мне жестяной сосуд емкостью в пять литров – гордость редакционного завхоза.
Пива на вокзале, конечно, не оказалось, но зато в киоске продавали относительно свежие московские газеты и журналы. Я купил их целую охапку и, легкомысленно помахивая своим бидоном, не спеша покинул полуразрушенное, затемненное, гудящее, как гигантский орган, здание вокзала.
Эшелон наш стоял на пятом пути. Обратную дорогу я проделал быстрее и без особых происшествий, если не считать гибель бидона. Нырнув под товарный вагон, я услышал над головой лязг буферов – состав вдруг тронулся. Я успел выскочить из-под вагона, но уронил бидон, и он упал между рельсами. Я решил обождать, пока пройдет поезд, чтобы поднять «гордость редакционного завхоза». Но состав оказался ужасно длинным. На тридцатом вагоне я не выдержал, мысленно простился с красавцем бидоном и уже бегом устремился к пятому пути, где стоял наш эшелон.
Увы, пятый путь был пуст! Где-то далеко-далеко издевательски мигал зеленый глаз семафора.
Худо бывает военному человеку, отставшему от своего эшелона, дорогие товарищи, ох худо! Бдительные коменданты станций читают ему нотации. Суровые начальники питательных пунктов дают еду с таким скрипом, что кусок не лезет в горло. А когда ты, окончательно изнемогший, догоняешь наконец на тормозной площадке случайного поезда свой эшелон, твое же начальство встречает тебя нахлобучкой, а товарищи – смехом и нелестными шутками.
Я постоял на пустом пятом пути и бросился назад на вокзал, к коменданту, проклиная Тесленко.
Комендант станции оказался типичным комендантом. Он сидел за столом, уставленным телефонными аппаратами всех видов и размеров, прозрачно-желтый от бессонницы, с красными набрякшими веками. Выслушав мой рапорт, он сказал ровным глухим голосом то, что, наверно, говорил не раз в день таким же растяпам, как я:
– Не надо отставать от своего эшелона!
Мне оставалось лишь пожать плечами и опустить грешную голову.
– Номер эшелона знаете?
– Не знаю!
– Надо знать номер своего эшелона! – тем же глухим, равнодушным голосом сказал комендант. Он заглянул в тетрадь, лежащую на столе, и, назвав цифру, прибавил: – Идите на десятый путь, там стоит эшелон, который отправляется через пятнадцать минут. Может быть, вы догоните своих через перегон. Советую торопиться!
И вот опять я ныряю под молчаливые, зловещие товарные составы и перелезаю через площадки, пробираясь на десятый путь, где стоит уже под парами спасительный эшелон.
Вот он – десятый путь!
Я стал вглядываться в темноту. Впереди мелькает красный огонек. Я быстро пошел по шпалам на огонек и вдруг услышал смех. Нет, это был даже не смех, а хохот. Дружный хохот многих здоровых мужских глоток. Мне он показался дивной музыкой. Я уже не шел, а бежал туда, где люди смеялись так весело, так дружно, так неудержимо.
Красный огонек оказался сигнальным фонарем последней теплушки длинного товаро-пассажирского состава, а смех раздавался в соседней.
Я подошел, постучал в стенку вагона. Смех смолк, дверь с грохотом отодвинулась в сторону, и я увидел сидевших и лежавших на полу солдат. На табуретке стояла свеча. Молодой человек в общеармейской ушанке, но в шинели травянисто-зеленого цвета не нашего покроя, с узкими погонами, примостившийся у свечи, держал на коленях раскрытую книгу.
Коренастый старшина, открывший дверь, увидел мои офицерские погоны и, обратившись ко мне по форме, спросил, что мне нужно. Я сказал. Он проверил мой документ (на счастье, мое редакционное удостоверение было со мной) и, подав мне руку, помог влезть в теплушку. В тот же миг состав дернулся, задребезжал и тронулся.
Я прошел в угол и опустился на солому. Старшина сел рядом со мной и шепнул, показав глазами на молодого человека в зеленой шинели с книжкой на коленях:
– Из чешского корпуса. Тоже своих догоняет!
– Что он вам читал?
– Про бравого солдата Швейка. Их писатель Гашек сочинил. Слыхали про такого?
– Слыхал.
– Мы тут животы надорвали, смеявшись! – И громко сказал: – Давай читай дальше, Водичка!
Солдаты подхватили:
– Читай! Читай!
Покосившись на меня, легионер улыбнулся, отчего его круглое, здоровое лицо стало совсем мальчишеским, и начал читать.
Читал Водичка отлично. Легкий и очень милый акцент, с которым он произносил русские слова, усиливал неподражаемый юмор Гашека. Я знал «Швейка», что называется, назубок, много раз слышал отрывки из романа в исполнении первоклассных чтецов, но этот молодой солдат читал «Швейка» по-своему и заставлял как бы заново воспринимать много раз читанное и слышанное. Наверное, тут главную роль играла обстановка… Воинская теплушка… ночь… предчувствие близкой победы. И этот чешский юноша, читающий русским братьям-солдатам любимого Гашека!
Через минуту я хохотал вместе со всеми, слушая чтение Водички.
Захваченные его чтением, мы даже не заметили, как состав стал сбавлять скорость и вскоре остановился. Водичка снова положил книжку на колени. Кто-то из солдат недовольно сказал:
– Черт эти станции выдумал!
Коренастый старшина поднялся и открыл дверь теплушки. Холодный ветер ворвался в наше убежище и колыхнул пламя свечи.
Старшина выглянул из теплушки и сказал мне:
– Посмотрите, товарищ майор, уж не ваших ли мы догнали!
Я подошел и увидел стоящий на соседнем пути эшелон с классным вагоном посреди состава. У вагона на путях кто-то стоял. Присмотревшись, я узнал маленькую фигурку Тесленко с его осиной талией.
Я простился со своими спутниками, пожал руку Водичке и побежал к своему эшелону.
Тесленко, увидев меня, обрадовался, но, сдержавшись, спросил так, как будто ничего не произошло:
– А где бидон?
– Пропал без вести, – с удовольствием ответил я.
Тесленко пробурчал:
– Шпак – он всегда шпак! – И не стал меня ни о чем расспрашивать.
Раздался свисток нашего паровоза, и мы полезли в вагон.
МАГИЧЕСКИЕ СЛОВА
Мы стояли в лесу под Брянском в домике лесника. Был 1941 год, конец августа – синие, сияющие, прохладные дни.
В газете нашего фронта, прикрывавшего Москву с фланга, я вел вместе с художником-карикатуристом Евгением Ведерниковым сатирический отдел «Осиновый кол».
Делая сатиру, я понимал, что это не все, что я хочу и что могу делать во фронтовой газете. Но для того чтобы делать это другое, нужно было ездить с редакционными заданиями на передний край. А наш редактор не давал мне таких заданий. В ответ на мои просьбы, жалобы и нытье он повторял одно и то же:
– «Осиновый кол» должен выходить регулярно. Вы прекрасно знаете, что вы у меня один писатель-сатирик. Я обязан вас беречь.
Эта фраза произносилась хладнокровным голосом старшего по званию, но при этом карие женственные глаза редактора улыбались.
Наконец редактор дрогнул и отпустил меня в распоряжение одной из наших армий. Вместе со мной поехали старший политрук Б-в, спокойный, обстоятельный человек, работавший до войны в газете какого-то волжского города, и шофер Шарапов, москвич, пожилой, тихий.
На полном ходу мы проскочили на нашей полуторке Брянск (я сидел рядом с Шараповым в кабине, а бедняга политрук трясся в кузове) и вскоре очутились среди полей, удивительно тихих, печальных и безлюдных в этот бодрый утренний час. От страшного безлюдья и зловещей тишины – ни стука тележного колеса, ни рокота мотора – поля казались беспредельно-огромными, и я подумал, что они, наверное, были такими в половецкие времена.
Вдруг Шарапов толкнул меня локтем в бок и глазами показал на что-то, неподвижно лежавшее на дороге, на какую-то коричневую груду. Из-за своего плохого зрения я не сразу разобрал, что это такое, и лишь когда Шарапов остановил машину, увидел, что коричневая груда – это труп коня.
Мы вышли из машины. Ладный упитанный мерин лежал на боку, откинув голову с оскаленными зубами, вытянув в последнем напряжении все четыре ноги. Он был неправдоподобно велик – настоящий богатырский конь! – и неправдоподобно красив на фоне таких декораций, как неоглядные пустынные поля и золотой лучащийся солнечный шар, медленно поднимавшийся над горизонтом. Я сказал об этом политруку. Он неодобрительно покачал головой.
– Труп не может быть красивым!
– Да вы посмотрите, какие у него стати! На такого коня можно Микулу Селяниновича посадить!
– Это его газы так раздули. Обыкновенный подержанный рабочий конек, – сказал политрук. – Интересно, чей он?
– Либо наш брат солдат, – сказал Шарапов, закуривая, самокрутку. – Либо – колхозный. Сколько тут народу уходило от немца! Вот и загнали коня! У него, по всему видно, сердце разорвалось.
Мы еще постояли немного, покурили и поехали дальше на запад. Оглянувшись, я увидел, как на тушу бедного мерина, мягко спланировав, опустился крупный степной ворон.
Следы войны стали встречаться чаще. В мелколесье, куда привела нас полевая дорога (мы ехали в одну из самых дальних от Брянска фланговых наших армий), мы наткнулись на колонну обугленных вражеских военных грузовиков – это была славная работа наших «илов», или «горбачей», как прозвали летчики-штурмовики свои могучие бронированные машины.
Тут же в кустарнике стояла немецкая сгоревшая танкетка, от нее зловонно несло спекшимся железом, на траве валялись разорванная бумага, очень много бумаги, и целая пачка иллюстрированных журнальчиков – с цветных фотографий на их глянцевых обложках зазывно улыбались полуголые красотки, дебелые Валькирии из солдатских и офицерских кабаре.
Лишь под вечер мы наконец въехали на широкую улицу деревни, обозначенной на карте политрука как конечный пункт нашей поездки. В районе этого чудом уцелевшего населенного пункта, на днях лишь отбитого у противника, по, данным штаба фронта, располагалась бригада мотопехоты и танковая часть, остановившие в ходе встречных боев натиск танков генерала Гудериана, пытавшихся прорвать здесь наш фронт[14]14
Гудериану удалось сделать это чуть позже и в другом месте. – Прим. авт.
[Закрыть].
Мы медленно проехали мимо солдатского немецкого кладбища – ровные шеренги обязательных березовых крестиков с надетыми на них касками – и выбрались за околицу. Деревня казалась пустой, вымершей. Ни одной живой человеческой, даже собачьей души мы не встретили.
Шарапов, по наитию, остановил машину подле крайней избы, – пятистенки с резными наличниками на окнах.
Мы с политруком вышли из полуторки и услышали доносившийся из дома женский плач и жалобные причитания. Мы переглянулись. Окно соседней избы открылось, и в нем появилась седобородая голова с хитрющими цепкими глазами.
– Вам чего, товарищи военные? – спросил обладатель седой бороды и цепких глаз.
– Местный житель? – строго спросил его политрук.
– Не житель, а считай – дожитель.
– Чего это соседка твоя голосит?
– Мужа забрали.
– Немцы?
– Нет, наши. Он полицаем был, а сбежать не успел – застукали его. Вот она и воет: хоть и иуда, а все ж таки муж. Супруг!
– Слушай, дед, ты знаешь, где наши стоят?
– Я даже и того не знаю, кто ваши, а кто не ваши! – сказал дед, намереваясь закрыть окно.
– Обожди! – сказал с прежней строгостью политрук. – Ты что – сомневаешься? Не видишь, чья форма на нас?
– В одежде вашей я не сомневаюсь! – неопределенно сказал дед.
– Тогда на, гляди документы!
Политрук достал из кармана гимнастерки свое удостоверение и подал деду в окно. Дед долго елозил по документу бородой и глазами, потом, смягчившись, отдал его политруку и сказал шепотом:
– Поищите в том лесочке! – Он показал рукой на черневшую вдали сосновую рощу и с треском захлопнул окно.
В сосновом лесу мы нашли то, что нам было нужно. Начальник политотдела бригады, замороченный, охрипший, по всем признакам смертельно усталый батальонный комиссар, все разговоры с нами отложил до утра, распорядился, чтобы нас покормили и широким гостеприимным жестом показал на зеленый мох у красавиц сосен:
– Располагайтесь по-солдатски: кулак под голову, шинель на голову. В палатках «местов нет»!
Нет так нет! Мы поужинали и, решив, что утро вечера мудренее, улеглись по-солдатски на земле-матушке. Вскоре я собственными ягодицами ощутил, что земля-матушка не только поката, как сказал поэт, но и жестковата. Тем не менее я уснул и проснулся лишь утром.
Политрук – лицо его было помято от неудобного сна, но сам он был уже на ногах, бодр и полон энергии – сказал мне:
– Я уже поговорил с батальонным комиссаром. Вас сейчас отведут к мотострелкам – это тут же, в лесу, – там у них есть лейтенантик, фамилию его вам скажут, три немецких танка подбил гранатами, не дал им прорваться. Герой! Потом поедете к танкистам. Ночевать будете у них, утречком они дадут провожатого, и пойдете на передовую в окопы. Но тут сейчас полное затишье, ничего интересного не увидите.
– А вы?
– У меня свои дела и свои темы! – сказал политрук. – Идемте!
Лейтенант с кроткой фамилией, если не ошибаюсь, Голубь – румяный, мило застенчивый юноша, почти мальчик, оказался московским студентом одного из технических институтов и к тому же классным спортсменом. Выпытывать у него подробности боя было очень трудно, потому что лейтенант закидал меня встречными вопросами.
– Вы давно из Москвы? Не знаете, как там наше Замоскворечье? А театры работают? А как Большой театр охраняется от воздушных налетов? Правда, что он в таком камуфляже, что сверху не узнать, что это и есть Большой?
Все же мне удалось исписать почти весь блокнот, и мы с лейтенантом расстались друзьями.
К танкистам я приехал, когда уже стемнело. Они стояли на берегу мелкой речушки, быстрой и очень холодной. Их машины были замаскированы копнами сена и ветками. Высокий офицер привел меня в избу, представил своим товарищам и сказал мне:
– Давайте так договоримся: ничего мы вам рассказывать не будем, а вот вы будете. Почитайте ваши рассказы, говорите, о чем хотите, короче – у нас сегодня вечер отдыха. Понятно?
– Понятно! – сказал я, внутренне радуясь тому, что, уезжая из домика лесника, сунул в вещевой мешок на всякий случай книжку своих рассказов.
Много я выступал на своем веку и перед разными аудиториями, но этот литературный вечер никогда не забуду! Потом был ужин – мужской солдатский ужин с солеными анекдотами, с добрыми шутками, с рассказами моих новых друзей из их боевой жизни. Я не записывал их рассказы – это было бы бестактно. Тут же я получил гонорар за свое выступление – командир танкистов отчислил в мою пользу свои законные армейские сто граммов водки! А утром начались неприятности. Мы с командиром танкистов умылись на берегу и почистили зубы ледяной речной водой. По-прежнему было тихо, лишь иногда эту тишину рвали одиночные выстрелы или короткие пулеметные очереди: передовая там, вдали за речкой, жила своей жизнью. Мы возвращались в избу, и вдруг я увидел своего политрука, мчавшегося мне навстречу. Мы поздоровались.
– Я получил приказ редактора через армейскую связь немедленно отправить вас с Шараповым в редакцию, – сказал политрук с непроницаемым видом. – Я останусь здесь, а вы – собирайтесь.
– В чем дело?
– Не знаю. Наверное, специальный номер будут готовить, и ваше перо понадобится. Шарапов все знает. Вон он стоит.
Он показал мне на нашу полуторку, слегка замаскированную сосновыми ветками, стоявшую у избы.
И вот мы с Шараповым катим под Брянск. Погода резко и сразу испортилась, пошел дождь, сначала мелкий, нудный, потом он превратился в ливень. Карты с нами не было, и мы сбились с дороги – желтые раскисшие ее суглинки хватали нас за колеса, мы застревали, кое-как вылезая из колдобин и ухабов, и катили дальше. На одном таком треклятом перегоне мы догнали небольшую группу – их было человек десять – двадцать солдат-пехотинцев во главе со старшиной, скуластым, серьезным, даже суровым мужчиной в черной мокрой пилотке, в разбухшей от дождя шинели, с автоматом на ремне через плечо.
Шарапов затормозил полуторку.
– Садись, царица полей, подвезу!
Промокшие и, видимо, озябшие солдаты молча залезли в кузов машины, и мы поехали дальше. И только доехали до развилки, как застряли в глубокой колдобине, да так крепко, что Шарапову, несмотря на все его усилия, не удалось вырвать машину из глины. Дождь хлестал как из ведра. Шарапов вышел из кабины, мрачно посмотрел на колеса и сказал, обращаясь к солдатам:
– Подсобите, ребята. Я газану, а вы сзади толкайте!
Солдаты один за другим спрыгнули через борт в ливень, в глинистое месиво дороги, и началась пытка, знакомая каждому, кто мотался по военному бездорожью на попутных и прочих машинах. Из-под колес летели фонтаны желтой жидкой грязи, машина ревела, урчала и содрогалась, солдаты толкали ее изо всех сил, Шарапов, не жалея, жег бензин – и все без толку! Так мы промучились минут пятнадцать. Скуластый старшина взглянул на ручные часы и подал команду построиться. Солдаты построились в колонну по два в ряд. И пошли, направляясь к развилке. Наверное, у них не было больше времени возиться с нами, да и не по пути уже было!
Они уходили, а мы с Шараповым беспомощно стояли под дождем на дороге и не знали, что делать. И вот тут тихий, безответный Шарапов на моих глазах чудесным образом преобразился. Он подбоченился, сдвинул на ухо мокрую пилотку (мне показалось даже, что он стал выше ростом) и выкрикнул в спину уходящим солдатам – не жалобно, не просяще, а озорно, звонко, как-то по-хозяйски даже:
– Куда же вы уходите, так-то вашу и так! Тут Москва засела, а вы ее бросаете. Кто из вас московский, остановись!
Солдаты услышали этот звонкий веселый вопль – я понял это по их дрогнувшим спинам. Старшина подал новую команду, «царица полей» повернулась и побежала к нам.
На этот раз Шарапову и солдатам удалось довольно быстро вырвать машину из ее глинистого плена, и мы выехали на относительно твердую колею. Солдаты снова построились по два в ряд. Я сказал скуластому старшине:
– Вы – москвич?
– Нет, – сказал он, – татарин из Казани.
– А кто-нибудь тут есть из Москвы?
Солдаты помолчали. Один, низенький, коренастый, бросил простуженным тенорком:
– Я из Подольска, почти москвич.
– Москву нельзя бросать! – сказал скуластый старшина и впервые улыбнулся. – Москва – всему делу голова!..
Солдаты ушли. Они дошли до развилки и свернули налево, а мы с Шараповым поехали прямо.
До сих пор звучат в моих ушах эти простые и сильные слова, сказанные под ливнем на военной дороге скуластым старшиной из Казани:
– Москва – всему делу голова!








