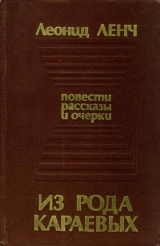
Текст книги "Из рода Караевых"
Автор книги: Леонид Ленч
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
ГОСТИНИЦА «МОСКВА»
1
Уже только пятидесятилетние москвичи помнят – и то слабо, туманно, – как выглядел когда-то Охотный ряд, доставшийся Москве советской в наследство от Москвы купеческой.
Длинный строй съестных лавок и лавчонок. Кадки и бочки с квашеной капустой, с клюквой, с селедками, грибами, выставленные прямо на улицу. Рубщики мяса – ражие детинушки в белых халатах, заляпанных кровяными пятнами. Стук их топоров, их надсадное – на всю улицу – хеканье в такт ударов, их ярая ругань. И над всем этим устоявшееся, плотное, как бы материализовавшееся зловоние от плохо смытой вчерашней и позавчерашней коровьей, свиной, бараньей и заячьей крови!
Когда Охотный ряд ломали, тысячи крыс покидали свои нары и ночами куда-то уходили. Рассказывали в Москве тогда про милиционера, который, стоя на посту, видел, как крысы длинной, растянувшейся на сотни метров колонной двигались от Охотного вниз к Зарядью.
– Я стою, а они текут и текут!
– На что это было похоже?
– На живую серую степную речку.
В декабре 1935 года сняли леса, и перед глазами москвичей предстало огромное – на весь квартал – здание, построенное по проекту Щусева, с участием архитекторов Савельева и Стапрока.
Снобы находили, что здание по своей конфигурации похоже на каменный торт, но большинству оно понравилось.
Гостиница «вписалась» в новую Москву, москвичи к ней как-то сразу привыкли. А полюбили позже, во время войны, когда она – в особенности в первые, трудные годы – стала для многих родным домом, своеобразным тыловым санбатом.
2
В декабре 1941 года в связи с болезнью – обострившимся старым легочным процессом – приказом заместителя Наркома обороны я был отозван с Брянского фронта, из редакции фронтовой газеты «На разгром врага», в распоряжение политуправления. Из Тамбова в санитарном поезде, тащившемся несколько дней по взбаламученной России, добрался я наконец до Куйбышева, куда переехало правительство и некоторые редакции центральных газет и журналов. Мне надо было попасть в Казань, но полковник Баев из политуправления, властитель писательских душ и тел, посоветовал мне не отлучаться из Куйбышева до особого распоряжения. По таинственному и многозначительному тону, с каким мне был преподан этот совет, я понял, что надо ждать каких-то больших событий на фронте. Ждать пришлось недолго. Грянул разгром немцев под Москвой. Я снова явился к Баеву, и он, сияя, сказал мне:
– Ну вот, поздравляю, можете теперь ехать прямо в Москву!
В пустой квартире моей на Серпуховке лопнули все трубы, которые обладают способностью лопаться от мороза, вода залила комнаты, превратилась в лед, жить там было нельзя. О ремонте нечего было даже и мечтать. Демобилизовавшись, я поселился в холодной, почти не отапливавшейся комнате в квартире на Плющихе и стал работать – писать рассказы, фельетоны, сценки на военные темы для «Крокодила», для «Правды», для «Красной звезды», для радио, для эстрады. Мне сообщили из Верховного Совета, что я должен явиться для получения ордена Красной Звезды, которым я был награжден в ноябре 1941 года Военным советом Брянского фронта.
Я тщательно побрился, начистил сапоги до зеркального блеска, затянул потуже офицерский пояс на гимнастерке, несколько пожухшей после того, как она побывала в парилке куйбышевского санпропускника, пожалел, что знаки различия интенданта второго ранга уже не украшают больше петлицы ее воротника, и пошел получать орден.
Ордена вручал сам Михаил Иванович Калинин. Нас, награждаемых – в большинстве своем это были офицеры-фронтовики, – собрали в просторной холодной комнате. Перед тем как выйти Калинину, работник его секретариата попросил нас не очень крепко жать руку Михаилу Ивановичу.
– А то у него потом очень правая рука болит! – сказал он, улыбаясь смущенно и доверительно.
Я посмотрел на своего соседа – лейтенанта-разведчика, могучего парня с ладонью как лопата, и подумал, что это предостережение не лишнее.
Калинин был бледен, проницательные и добрые стариковские глаза под стеклами очков глядели мудро и, как мне показалось, печально. Слова поздравления он произносил тихим, но внятным голосом. Когда лейтенант-разведчик получил от него свое Боевое Красное Знамя, он, в нарушение церемониала, быстро сунул коробочку с орденом в карман галифе, а протянутую руку Калинина принял бережно и нежно в свои обе руки. Помня предостережение, он, видимо, не был уверен в своей деснице и опасался автоматизма своего пожатия.
Я вернулся к себе на Плющиху уже вечером. Сидел один, досадуя, что не с кем мне разделить свою радость. Вдруг зазвонил телефон. Я снял трубку и услышал голос Сергея Алымова – человека щедрой и широкой души, поэта и песенника доброй гусарской закваски:
– Леня, ты что делаешь?
– Сижу дома, Сережа.
– Один?
– Один, Сережа!
– С ума сойти! – прокричал в трубку Сергей Яковлевич. – В такой день нельзя быть одному. Немедленно вали ко мне в гостиницу «Москва». У меня все готово. Будем тебя чествовать. Давай быстро!..
После тревожного мрака московских улиц оказаться в ярко освещенном, большом, теплом номере первоклассной гостиницы – какое это наслаждение!
В алымовском номере дым стоял коромыслом! Какие-то военные и штатские, в большинстве незнакомые мне люди, уже сидели за столом, пили знаменитую по тем временам водку «тархун» ядовито-зеленого цвета и закусывали омлетом, приготовленным из яичного порошка. «Тархун» и омлет можно было заказывать без установленных продталонов. Алымов представил меня собравшимся, и началось… Конец вечера я помню смутно. Помню только, что в номере вдруг появился приехавший на машине прямо с фронта на один день комиссар доваторского конного полка, очень озябший в дороге, веселый человек. Он быстро отогрелся и стал нашим запевалой. Мы хором пели песни Алымова, а также «Землянку» Суркова – она только родилась тогда и быстро покорила сердца фронтовиков.
Я остался ночевать у Алымова, а вскоре после этого и совсем перебрался в гостиницу, получив разрешение в Моссовете занять номер, поскольку квартира моя попала в список аварийных. Бессменный директор гостиницы «Москва» Василий Елисеевич Егоров помог мне получить такое разрешение. Он был не только отличным хозяином, деликатным и умным администратором, но и душевным человеком, большим другом многих писателей, артистов, художников. Умер он сравнительно недавно. В последний путь его проводили сотни, если не тысячи, любивших его москвичей.
В гостинице «Москва» я прожил около года, выезжая отсюда на Северо-Западный и Южный фронты в командировки от разных редакций.
3
Кто только – если взять одних лишь писателей – но пользовался гостеприимством гостиницы «Москва» в тяжелые, переломные годы воины! Один жил тут неделю – приехал с фронта и уехал назад на фронт, другой – месяц, ожидая нового фронтового назначения, третий – полгода, чтобы подлечиться и поправиться, или год, как я, – пока не дадут новое жилье или не отремонтируют старое.
Илья Эренбург своей быстрой, семенящей походкой проходил по длинному полутемному (экономия электроэнергии) коридору и потом с той же быстротой спускался по лестнице, торопясь к себе в «Красную звезду». Фадеев отсюда улетел в Ленинград с подарками для ленинградских писателей-блокадников. Сюда привезли из Ленинграда больного Вячеслава Шишкова, и здесь он, отдохнув и окрепнув, стал писать для «Красного воина», тряхнув стариной, потешные солдатские рассказы. Мы часто гуляли с ним по Охотному ряду. В шубе с бобровым воротником, в бобровой шапке, с бородой фавна, с бровями, приподнятыми к вискам, с хитроватыми монгольскими глазами – он был похож на героя своего романа, знаменитого удачливого добытчика золотишка, только словесного. На него оглядывались прохожие – так он был необычен и колоритен среди серошинельной военной уличной толпы.
Здесь живали Зощенко, Катаев, Тихонов, Симонов, Микола Бажан, Янка Купала, Ванда Василевская, Корнейчук, Рыльский… Здесь я встретил своих друзей-белорусов, с которыми вместе пережил прорыв нашего Брянского фронта генералом Гудерианом в начале октября 1941 года, – Михася Лынькова, Петруся Бровку, Максима Танка. Петрусь Бровка был строен и худ, а розовощекий Максим Танк и совсем выглядел комсомольцем.
В номере у меня часто собиралась веселая компания, в которую входили художник Борис Ефимов, Ираклий Андроников (когда он наведывался в Москву с фронта) и Евгений Петров. Забегала на огонек артистка МХАТа Нина Валериановна Михаловская, непременная участница мхатовских фронтовых концертных бригад. Отличная чтица, она читала на фронтовых концертах мои рассказы.
Однажды – это было летом 1942 года – утром ко мне в номер зашел Евгений Петров и попросил дать ему иголку – пришить белый подворотник к гимнастерке. Я нашел иголку и дал ему. Горничная, убиравшая номер, сказала:
– Нельзя так давать иголки – поссоритесь. Надо сначала друг дружку уколоть – тогда ничего, обойдется.
Смеясь, мы кольнули друг друга иголкой, хотя знали, что вряд ли мы когда-нибудь поссоримся, потому что дружеские наши отношения были построены на прочном фундаменте.
Выполнив ритуал, Евгений Петров взял иголку и ушел. В тот же день он улетел в осажденный Севастополь, в свою последнюю фронтовую командировку – за материалом для американских агентств печати, советским корреспондентом которых он был в Москве. Прошло какое-то очень короткое время, и я узнал о его гибели при авиационной катастрофе на обратном пути из Севастополя – Новороссийска в Москву.
4
Еще тридцать с лишним лет прошло с того дня. Кого только не видела гостиница «Москва» за это время в своих стенах! В книге, где знатные постояльцы оставляют свои автографы-записи, вы найдете фамилии бывшего министра иностранных дел Великобритании, лейбориста Эрнеста Бевина, знаменитого физика, борца за мир Жолио-Кюри, поэта Пабло Неруды, архиепископа Хьюлетта Джонсона и советского дипломата Трояновского. Вот уж точно – «все побывали тут»!
Я прохожу частенько мимо фасада гостиницы, с которой так много связано у меня дорогих воспоминаний, занятый своими будничными, каждодневными делами и мыслями. Но бывает иногда – вдруг почему-то забьется сердце чаще. Подняв голову, я ищу глазами окно комнаты на седьмом этаже, в которой я жил. В памяти возникает ледяная, темная, военная Москва, черные громады домов, черные улицы, голос Левитана по радио, милые лица ушедших друзей. Все это было, было, и от этого никуда не деться! Ни прибавить, ни убавить – как сказано у поэта.
ЭХО ВОЙНЫ
1. ТРЕТЬЯ ГРУППАЯ хочу вам рассказать, как я замуж вышла за собственного мужа. Совершенно серьезно!.. Очень странный случай, просто как в романе.
Я перед войной с ним развелась. У нас вечные ссоры были, скандалы.
Он на меня кричит: «Ты из меня кровь пьешь!» Я на него кричу: «Стану я всякую дрянь пить! Вот ты из меня действительно кровь пьешь!»
Одним словом, семейное счастье!
Он меня знаете в чем обвинял? В том, что я какая-то такая… никуда не приспособленная.
А главное – если бы он сам был каким-нибудь особенным человеком, а то художник по рекламе. Подумаешь, Айвазовский! Да я сама, если меня хорошенько разозлить, могу рекламу не хуже его рисовать.
Нет, ты действительно сначала сам сделайся настоящим Айвазовским, а потом уж упрекай женщину!
Ну что тут вспоминать! В общем, разошлись, как в море корабли… Я стала у подруги жить, поступила на службу. Тут как раз и началась война с немцами.
Проходит месяц, другой… И вы знаете: мне как-то неловко вдруг сделалось. Все воюют, все участвуют, только я одна какая-то неприспособленная!.. Хожу на службу – и все… Даже неудобно!
В общем, я решила стать донором. Я молодая, здоровая. Почему бы мне, действительно, и не стать донором?
В общем, пошла в институт.
Меня освидетельствовали, взяли кровь, говорят:
– Можете быть донором. Ваша группа третья.
Так я и стала донором.
Однажды мне сказали:
– Одному раненому бойцу срочно нужна кровь третьей группы. Мы пошлем вашу кровь для него в госпиталь. Если хотите, можете послать записочку ему.
Ну, я и написала:
«Дорогой боец! Посылаю тебе немножко своей крови третьей группы и желаю скорее поправиться».
И подписалась: «Шура Иванова».
Через месяц сижу вечером дома, жду воздушную тревогу, злюсь, что она сегодня опаздывает. Вдруг в дверь стучат.
Входит товарищ в армейской шинели. Лицо ужасно знакомое.
И вдруг говорит:
– Шура, это же я!
Смотрю – это он, мой бывший муж. Совершенно серьезно!
А он продолжает:
– Шура, очень странный случай произошел. Дело в том, что меня твоя кровь спасла. Это мне ее тогда из института прислали! Спасибо тебе, Шура!..
Знаете, я даже растерялась. «Знала бы, – думаю, – что тебе моя кровь достанется, ни за что бы не дала!..» Говорю:
– Вот видишь, Юра, я всегда говорила, что ты из меня кровь пьешь. Так оно и есть.
Он смеется:
– Тебя не узнать! Ты совсем другая стала, Шура. Глаза серьезные. И вообще…
А я смотрю – и он совсем другой. То был пижон пижоном – в пиджачке заграничном с платочком, – а теперь возмужал, лицо интересное, военная форма ему идет. И глаза тоже… другие.
Я говорю:
– И ты, Юра, другой. Ты что же на фронте делал? Картинки рисовал?
– Нет, Шура, у меня другая специальность: я минометчик…
Вы знаете, он у меня просидел до половины двенадцатого ночи, все рассказывал про фронт, как его ранили… В общем, я в него влюбилась… Совершенно серьезно!
На следующий день он опять пришел. Я его ждала, как тогда, весной, в 1938 году… когда я за него первый раз замуж выходила. Он пришел с цветами…
Посидели, поговорили. А потом он сказал:
– Шура, ведь у нас даже кровь одной группы – давай снова будем вместе… И поклянемся, что никогда не расстанемся…
В общем, я поклялась…
Теперь он снова на фронте. Вот – полевая почта № 127. Я, между прочим, наверное, скоро туда тоже поеду. Вот окончу курсы сестер и поеду… Будем с ним рядом. А в чем дело? Ведь я же поклялась, что мы никогда не расстанемся… Значит, надо клятву сдержать. Совершенно серьезно!..
2. ТРУДНЫЙ ХАРАКТЕРХарактер у Капитолины Антоновны всегда был трудный. Ей казалось, что люди – это сплошь обманщики и лгуны.
Поэтому она всегда держала ухо востро и в любых самых невинных словах и поступках видела скрытый, тайный смысл.
Скажет ей соседка:
– Здравствуйте, Капитолина Антоновна! Какой нынче вечер хороший!..
А Капитолина Антоновна уже насторожилась и соображает: «Сейчас деньги будет в долг просить». И, поджав губы, соседке:
– Вам он, может, и хороший, а мне с моими достатками он очень даже плохой!..
Соседка видит, разговор не получается, возьмет и уйдет.
А Капитолина Антоновна рада:
«Не прошел твой номер, голубушка!»
…Сейчас Капитолина Антоновна сидит у себя в комнате, штопает носки и жалуется знакомой старухе Липухиной на своего сына, пятнадцатилетнего Сережу, которого она подозревает в отсутствии сыновних чувств.
– Если он танки делает на заводе, это еще не причина, чтобы меня не уважать! – говорит она, глядя на рваную пятку носка поверх очков. – Не танк его девять месяцев под сердцем носил, а я!
Старуха Липухина сейчас же бурно соглашается с Капитолиной Антоновной:
– Да разве они способны на родительское уважение, Капитолина Антоновна, милая! Зверушка есть такая, млекопитающаяся, из зайцев он, только фамилия ему тушканчик. Люди, которые его видели, говорят, будто он весь насквозь шерстяной. Сердце, говорят, и то у него мохнатое – на кашне идет. Вот и у нынешних ребят сердца, я считаю, тоже мохнатые, как у этого тушканчика! А внука моего возьмите! Шестнадцать лет парню, выше меня ростом, учится на художника, а ко мне тоже никакого уважения. Третьего дня прихожу, он смотрит на меня, говорит: «Ну-ка, встаньте к свету». Я встала как дура. Он и сказал: «Ого! А ведь вы для меня типаж!» Я так и села. Я, говорю, для тебя родная бабка, а не типаж!
Капитолина Антоновна сочувственно кивает ей головой, но продолжает говорить о своем:
– На заводе он стахановцем считается, его Сергей Степановичем называют. Я ничего не имею, пускай называют, раз заслужил. А дома он для меня Сережка! Хоть у него и рабочая карточка первой категории, а у меня иждивенческая.
– Получку-то он хоть домой приносит? – интересуется старуха Липухина.
– Приносит! Все мне отдает!..
– Ну, это до поры до времени. Пока кралю себе не завел.
– Что ты, Савельевна! – ужасается Капитолина Антоновна. – Ему же пятнадцать годов всего!..
– Они на года не смотрят, тушканчики эти нынешние-с. Водку пьет?
– Боже упаси! Не замечала, чтобы баловался!
– Наверное, зашибает втихомолку!..
– Он, главное, молчит, когда я его пробираю, вот что! – жалуется Капитолина Антоновна. – Я его и так ругаю за неуваженье, и этак! А он молчит, как змей!.. На той неделе до того его ругала – аж из сил выбилась, пар от меня пошел, как от лошади, когда она на горку воз тянет!.. Думаешь, пожалел он мать, что она устала, его ругавши?! Ничуть! Только сказал: «Охота вам, мамаша, зря расстраиваться». По всему видать, смеется он с меня!..
– Где он сейчас-то?..
– Давно пора ему с завода прийти, а вот нет… А тут сиди, беспокойся!..
– В кино, поди, подался!.. Они родную мать на кино променяют. Тоже вот пришла я ко внуку. Только в дверь – он за шапку. «Некогда, бабушка. Жди меня!» И убежал как оглашенный. Я час сижу – его жду, второй, третий. Наконец является. «Вы еще здесь, бабушка?» – «Ты же сказал: «Жди меня». Вот я и жду!» Он упал на диван и давай хохотать: «Я, – говорит, – на картину спешил, называется «Жди меня»!»
Так они долго сидят и говорят, и чувство обиды на сына у Капитолины Антоновны все растет.
Наконец Капитолина Антоновна слышит знакомые шаги в сенях и привычно поджимает губы:
– Явился!..
Входит Сережка. Он маленького роста и в своей ватной спецовке до колен и тяжелых мужских сапогах выглядит совсем мальчиком. Под мышкой у него полученный в пекарне хлеб, в другой руке какой-то сверток, завернутый в газетную бумагу.
– Почтение! – солидно говорит Сережка и снимает ватник.
Капитолина Антоновна зловеще молчит.
– В кине, поди, были? – ехидно спрашивает старуха Липухина. – «Жди меня» глядели?
– В промтоварный зашел, – серьезно, не замечая старухиного ехидства, отвечает Сережка. – А там кофты давали.
Он разворачивает бумагу и дает матери шерстяной джемпер, темно-зеленый, в клеточку, с красно-коричневыми большими пуговицами.
Ахнув, старуха Липухина выхватывает из рук у Капитолины Антоновны Сережкин подарок, ощупывает его, обнюхивает – чуть не облизывает – и наконец торжественно объявляет:
– Чистая шерсть!.. Господи, уж не тушканчиковая ли?
– Спасибо! – сухо говорит Капитолина Антоновна, а сама думает: «Это он задабривает меня! Что-то такое, видно, натворил».
Отказавшись от ужина, Сережа идет в угол за печку, где стоит его кровать, снимает сапоги и ложится. Торопливо попрощавшись, старуха Липухина уходит.
Проводив ее, Капитолина Антоновна берет красивый джемпер, рассматривает его, и сердце ее, огрубевшее от жизни, постепенно теплеет. Дело не в том, что джемпер хорош, дело в том, что он – первый Сережкин подарок ей, купленный на его, Сережкины, честным трудом заработанные деньги. Господи, а ведь еще, кажется, только вчера он носился по двору с салазками, и всегда у него были мокрые валенки и из-под шапки вылезала смешная белобрысая косичка!..
Капитолина Антоновна вспоминает всю свою жизнь, покойного мужа, и чувство горячей неудержимой любви к сыну охватывает ее со всепоглощающей силой.
«Вот дрянь какая старуха эта Липухина! – думает Капитолина Антоновна. – Пришла и начала точить, как жаба какая!.. Для чего ей надо было на Сережку клепать?.. Это она неспроста!»
Она поспешно идет за печку к Сережке, чтобы хорошенько выругать ехидную старуху Липухину и вместе с сыном разгадать ее зловредные козни, но Сережка уже спит.
Он лежит на спине и тихонько посапывает носом. Он ворочается, кряхтит и вдруг горячим шепотом быстро говорит:
– Детали давай!.. Где детали?..
С невыразимой нежностью смотрит Капитолина Антоновна на спящего сына. Потом снимает с вешалки свое пальто, покрывает Сережку и шепчет:
– Спи, Сергей Степанович! Спи!..
3. ДВЕ БОМБЕЖКИВ начале войны я служил в редакции фронтовой газеты Брянского фронта «На разгром врага», в штатной должности, которая так и называлась – писатель.
Две другие штатные писательские должности занимали покойный поэт Иосиф Уткин и ныне здравствующий прозаик Исай Рахтанов.
Сюда же нужно причислить нашего художника – совсем юного тогда карикатуриста-крокодильца Женю Ведерникова.
В августе 1941 года Брянск был еще цел. Сильная немецкая авиация играла с ним, как кошка с мышкой, и не спешила с нанесением массированного бомбового удара. Лишь иногда появлялись одинокие разведчики, кружились, высматривали что-то и, сбросив на окраину города «для острастки» одну-две бомбы, удалялись восвояси.
Брянск жил призрачной, эфемерной жизнью прифронтового города, напряженной, как перетянутая, готовая вот-вот лопнуть струна.
Редакция наша и другие управления штаба фронта стояли в лесу в десяти – двенадцати километрах от Брянска. В наше распоряжение был отдан дом лесника с подворьем, с хлевом для скотины и с сараем, на сеновале которого мы спали вповалку.
Я вместе с Женей Ведерниковым делал в газете сатирическую полосу «Осиновый кол», но мне и Уткину очень хотелось попасть на передовую, понюхать настоящего пороха. Мы долго наседали на нашего редактора, батальонного комиссара Александра Михайловича Воловца, обаятельного, умного и спокойного человека, замечательного военного газетчика, просили его дать нам «настоящую» фронтовую командировку. Воловец долго отмахивался от нас, как от надоедливых оводов, – он нас берег. Нас берег, а себя не уберег: впоследствии Александр Михайлович погиб – его машина подорвалась на мине, засунутой немцами в колею лесной дороги, – но это случилось значительно позже, когда наши войска вернулись в сожженный и разрушенный врагом Брянск.
В конце концов Воловец, которому, видимо, надоели наши приставания и нытье, не выдержал и подписал командировочное предписание. Он даже доверил нам собственную эмку с шофером.
Мы собрались ехать под Почеп, где происходили бои местного значения.
Нам бы и ехать из брянского леса прямо туда, куда нам предписывало направиться командировочное удостоверение, то есть за Десну под Почеп, а нас черт угадал «на одну минуточку» заскочить в Брянск, в городскую типографию, где временно печаталась наша газета, повидаться с товарищами. Эта «минуточка» все и решила.
– Хорошо, что вы заехали! – обрадовался нам выпускающий нашей газеты. – Звонил редактор, приказал, если вы появитесь, вернуть вас обоих назад, в лес, в редакцию.
– Что за чушь! – возмутился Уткин. – А вы спросили Александра Михайловича, почему, собственно, мы с Ленчем должны вдруг ни с того ни с сего возвращаться в лес не солоно хлебавши?!
Выпускающий тонко улыбнулся:
– Начальству нельзя задавать вопросы, тем более на фронте. Начальство само задает вопросы! – Он сделал паузу и прибавил с той же тонкой, дипломатической улыбкой: – Возможно, редактор что-то задумал, и ваши перья ему срочно понадобились. А возможно и другое. Вас, писателей, у нас в редакции три. Нерасчетливо двоих сразу посылать на передовую. Мало ля что может случиться!.. По одному – вот это по-хозяйски! Впрочем, все это мои личные домыслы.
– Мы что же, должны сейчас же ехать назад?
– Плохо вы знаете Воловца! – сказал выпускающий. – Он хороший человек и хороший психолог. Он разрешил вам переночевать в Брянске. Утром вернетесь к себе в лес. Можете до комендантского часа сходить в кино, погулять по городу. Ночевать будете не где-нибудь на ящиках и лавках, а в городской гостинице, на настоящих кроватях с настоящими пружинными матрацами. В общем, ступайте с богом и вкушайте дары цивилизации.
Что нам оставалось делать? Мы поставили нашу машину во двор типографии, а сами отправились «вкушать дары» брянской «цивилизации».
Теплый августовский ветерок хозяйственно шевелил пыльную листву деревьев, и на бульварах тенькали, прыгая с ветки на ветку, легкомысленные синички. Все совсем как в мирное время! Мы с Уткиным побродили по полупустому городу, посидели на скамейке в тенистом сквере, послушали концерт синиц и, установив, что прифронтовой Брянск из всех даров цивилизации может предложить нам лишь кино и баню, выбрали для себя, конечно, баню.
Старуха кассирша честь по чести продала нам билет в первый разряд. Мы вошли в чистенькую раздевалку и обнаружили, что будем мыться вдвоем. И вот когда мы уже намылились и стали с наслаждением растирать зудящие спины мочалками, заревели сирены воздушной тревоги. Мы с Уткиным переглянулись и принялись еще яростнее действовать своими скребницами. Вдруг дверь, ведущая в раздевалку, отворилась, и на банном пороге появился роскошный рыжеусый мужчина в военной гимнастерке без знаков различия, в галифе и в высоких сапогах, с кавалерийским карабином, висящим у него на ремне через плечо. Он был похож на мультипликационного кота в сапогах. Я успел заметить, что у него одна нога короче другой и он сильно хромает.
– Вы что, товарищи военные, не слышите, что ли, сигнала?! – грозным басом заботливого старшины закричал на нас «кот в сапогах» с порога. – Ждете отдельного приказания? Одевайтесь и ступайте во двор – там у нас щель вырыта!
– Послушайте, голубчик, – сказал Уткин с несколько надменной небрежностью, – почему вы, собственно, на нас орете? И кто вы, собственно, такой?
– Я директор бани! – прорычал «кот в сапогах».
– Пойдемте, Иосиф, – миролюбиво сказал я. – А то он еще откроет по нас огонь из своего карабина. Я готов пасть на поле брани, но пасть на поле бани… да еще от руки ее директора… не за этим я сюда приехал!
Мы кое-как вытерлись, натянули белье на влажное тело, надели штаны и гимнастерки и без сапог, босиком, вышли во двор, где в неглубокой щели нас уже ожидал строгий директор.
Замолкли хлопки зениток, прозвучал сигнал отбоя.
– Мы имеем право домыться за те же деньги, – учтиво спросил Уткин директора, подмигнув мне, – или надо брать новые билеты?
– Можете идти домываться! – милостиво разрешил усач.
И вот опять мы сидим голые на мраморной доске и раздираем себя мочалками. И опять рев сирены воздушной тревоги! И опять директор бани – о эта неистовая исполнительность старого служаки! – вырастает на банном пороге, неумолимый, как статуя Командора, приглашенная на ужин бедным Дон-Жуаном!
– Отдельного приглашения ждете, товарищи командиры?..
Опять мы натягиваем бязевые кальсоны и рубахи на влажное тело, спешим во двор и прячемся в щель. Опять хлопают зенитки. Где-то грохочет взрыв. И вот опять – отбой.
Когда в третий раз заревели сирены и на пороге снова появился наш мучитель, мы с Уткиным взбунтовались.
– Вы, Ленечка, как хотите, – сказал Уткин, – а я никуда больше не пойду. Мне это надоело.
– Я тоже не пойду! – сказал я.
Директор надулся, усы у него встали дыбом, из светло-голубых глаз, как мне показалось, посыпались искры административного восторга. Он уже открыл рот, чтобы закричать на нас, по вдруг Уткин просто и даже задушевно спросил:
– А вы сами-то когда в последний раз мылись в бане, товарищ директор бани?
Административные искры в глазах усача тотчас погасли, усы опустились. В одно мгновение он весь как-то обмяк и подобрел.
– Да я уж и забыл даже, когда купался! – буркнул директор.
– Раздевайтесь и приходите! – скомандовал Уткин. – Будем вместе мыться, втроем веселее!..
Директор повернулся и исчез вместе со своим карабином. Через пять минут он снова возник на пороге, розовый, голый, благостный, как Христос при крещении.
Деликатно прикрываясь веником, он проковылял к отдельной скамейке, налил кипяточку в шайку, и когда – еще через пять минут – снова завыли сирены воздушной тревоги, наш партнер уже фыркал, гоготал и повизгивал от наслаждения, хлеща себя веником по спине и тощим ляжкам. Ему было на все наплевать. Только прямое попадание бомбы могло бы прервать его невинное занятие!
Мы хорошо помылись, дружески простились с директором бани и пошли в гостиницу. Гостиница была почти пуста. Нам дали каждому по номеру, и мы отлично выспались на настоящих пружинных матрацах, лежащих на настоящих кроватях.
Когда мы вернулись домой, в лес, Воловец под строжайшим секретом сообщил нам, что под Почепом затевается «нечто весьма серьезное», сейчас писать о боях на этом участке фронта преждевременно. Поэтому он нас и отозвал. Нам пришлось смириться.
О своей поездке в Брянск и о «тихих банных радостях» мы, сильно приукрашивая, рассказали редакционным товарищам, не скупясь на живописные подробности. Нам откровенно завидовали, а секретарь редакции А. Я. Митлин, в прошлом редактор газеты «Кино», симпатичный и кроткий хлопотун-работяга из породы тех газетных коренников, которые, где бы они ни работали, главную тяжесть редакционного воза берут на себя, объявил, что он завтра же поедет в Брянск по неотложному делу и заодно уж, конечно, посетит брянскую баньку и передаст от меня и Уткина привет усачу директору.
Митлин действительно на следующий день отправился в Брянск – в командировку. После обеда наша изба опустела. Сотрудники разбрелись по своим делам.
Воловец ушел к начальнику политуправления фронта. У меня наметился свободный часок, и я залез на сеновал тут же, в избе, и решил, пока суд да дело, вздремнуть. Только я устроился поудобнее, как началась бомбежка. Взрывы бомб следовали один за другим. Изба лесника ходила ходуном. Нужно было выйти наружу и укрыться в щели, но я так уютно устроил свое бренное тело в душистое, мягкое сено, такая истома охватила меня, что я продолжал валяться на сеновале в сладком полузабытьи. Вдруг внизу на столе Митлина зазвонил телефон.
Я слез с сеновала и снял трубку.
– Попросите Ленча! – сказал незнакомый голос.
– Ленч слушает!
– Леонид Сергеевич, только что при въезде в Брянск тяжело ранен Митлин. Он попал под бомбежку, ему оторвало ногу. Вы, кажется, знаете хирурга Вишневского? Найдите его и попросите, чтобы он сейчас же приехал в госпиталь, он знает в какой. Действуйте быстро!..
На секунду я оторопел. Вот тебе и наша лесная идиллия!
Я выбежал из избы лесника. Боже мой, где же искать Вишневского, тогдашнего нашего фронтового хирурга?!
Я быстро пошел по направлению к землянкам штаба фронта и вдруг – так бывает только во сне или в кино – увидел пробирающийся по лесной дорожке пикап и в нем Александра Александровича Вишневского. Я закричал что есть силы:
– Александр Александрович!
Вишневский обернулся, увидел меня, тронул шофера за плечо. Пикап остановился.
Через три часа в сумрачную, притихшую избу лесника (все уже знали о ранении Митлина) вошел Вишневский. Я вздрогнул, увидев его осунувшееся, хмурое лицо и черные тени под запавшими глазами. Гимнастерка его пропотела насквозь.








