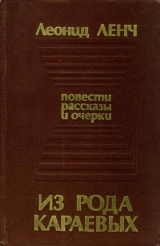
Текст книги "Из рода Караевых"
Автор книги: Леонид Ленч
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
– Что с Натой, тетя Липа? Где она, где Федор Кузьмич?
– Уехали они из города. А куда – не знаю. Дядюшка болел, не до них мне было. Один раз, помню, встретила Наточку на улице – все такая же интересная. Спросила про тебя. Говорю: «А разве он вам не пишет с фронта?» Сказала: «Давно не получала писем от него, очень беспокоюсь…» И больше ничего тебе сказать не могу про них, к сожалению. Ты отдохни и завтра пойди на Посполитакинскую, где они жили, может быть, соседи знают, куда она с отцом уехала.
– А откуда вы знаете, что они уехали?
– Когда красные заняли город, я сходила к ним. Стучала, стучала в дверь – никто не отзывается. А потом вышла женщина из соседнего двора, спрашивает: «Вы к Ярошенковым стучитесь?» – «К Ярошенковым». – «Они давно уехали. Дом пустой». – «Не знаете, куда уехали?» «Не знаю», – говорит и так подозрительно на меня поглядела. Ну я пошла не солоно хлебавши! Дом-то ведь собственный у них – Федор Кузьмич его купил, когда из Софиевской сюда перебрался…
На следующий день с утра Сергей Петрович поспешил на Посполитакинскую. Нашел знакомый двухэтажный добротный дом с таким же добротным высоким крыльцом. На дверях дома была прибита казенная вывеска: «Гортоп», видимо означавшая, что в доме помещается учреждение, ведающее топливными городскими делами. Попытки Сергея Петровича узнать что-либо у соседей тоже успехом не увенчались. Соседи отвечали: «Не знаем».
На семейном совете с тетушкой Олимпиадой решено было, что Сергей Петрович поедет в Софиевскую и там постарается навести справки о Нате.
В военкомате его взяли на учет. Ответственного работника, которому было адресовано письмо Прохорова, не оказалось на месте, сказали – появится дней через десять. Сергей Петрович решил, что за это время он успеет съездить в Софиевскую и вернуться назад в Краснодар.
Однако поехать ему туда не удалось, потому что накануне дня выезда, ночью, он был арестован и препровожден в тюрьму Государственного политического управления – ГПУ.
10
…Допрашивал Сергея Петровича следователь – молодой человек интеллигентной внешности, черноволосый и бледный, в синем бостоновом пиджаке с университетским значком на лацкане.
Он кивком головы показал Сергею Петровичу на стул, стоявший в камере подле стола.
Сергей Петрович сел. Следователь не спеша развязал тесемки лежавшей на столе канцелярской картонной папки и сказал тихим, лишенным всяких модуляций голосом:
– Я буду вести ваше дело. Моя фамилия Онегин Евгений Осипович. Называть меня надо просто «гражданин следователь». Ясно?
– Ясно, гражданин следователь! – сказал Сергей Петрович и, хотя ему было сейчас не до шуток и фамильярностей, все же подумал: «Хорошо еще, что он не назвал себя Тарасом Бульбой».
Все формальные вопросы заданы, ответы записаны. Молодой человек со странной фамилией откинулся на спинку стула, что-то обдумывая. Потом спросил:
– Хотите знать, в чем мы вас обвиняем, Караев?
– Естественно, хочу, гражданин следователь!
Четко выговаривая каждое слово, как бы прислушиваясь с явным удовольствием к самому себе, следователь сказал:
– Вы обвиняетесь в том, что, проникнув обманно в ряды Красной Армии, прибыли на Кубань для установления связи с остатками белогвардейского подполья. Советую чистосердечно признаться во всем, назвать явки и фамилии связных.
– Мне не в чем признаваться! – сказал Сергей Петрович. – Я прошел регистрацию бывших белых офицеров в Крыму, запросите Крым, там все знают про меня.
Следователь усмехнулся, достал из папки бумагу.
– Нам тоже кое-что известно. Вы про такого человека слыхали – про Друшлакова Фаддея Гавриловича?
– Первый раз слышу эту фамилию!
Следователь бросил на Сергея Петровича быстрый, цепкий взгляд и стал читать бумагу, которую вытащил из картонной папки:
– «Потом они отошли в сторону и стали промежду себя (видимо, между собой) разговаривать. Всего разговора я не слыхал, слышал только, как мой седок сказал тому, который был при погонах и с винтовкой: «Даю честное офицерское слово». А почему он так сказал, этого я не слыхал, уха не хватило». Ну-с, что вы теперь скажете, Караев? Тоже будете все отрицать?
– Нет, не буду. Я просто не знал, что извозчика, который вез меня в Керчь, зовут Друшлаковым. Он не лжет, нас действительно остановил на дороге…
Следователь перебил Сергея Петровича:
– Бывший поручик третьего марковского полка Доброво – главарь белогвардейской банды, вернее, бандочки, ныне уже ликвидированной нашими людьми. Сам Доброво, к сожалению, успел застрелиться. Признайтесь, Караев, какие директивы от него получили тогда?
– Никаких директив я от Доброво не получал! – глухо сказал Сергей Петрович. – Еще раз прошу – запросите Крым про меня.
– Слушайте, Караев, свидетельских показаний Друшлакова достаточно, чтобы закрыть ваше дело. Но если вы дадите чистосердечные показания, вы, возможно, хотя я не ручаюсь и не обещаю вам ничего, сохраните себе жизнь. Будете давать показания?
– Мне не о чем говорить. Все, что было нужно, я уже сказал в Крыму комиссии.
– Хорошо, – сказал следователь, – посидите, подумайте. Но не рассчитывайте на наше долготерпение!
– Вы меня, пожалуйста, не пугайте, гражданин следователь!
– ГПУ не пугает, ГПУ делает!
Поднялся, позвал охранника.
– Дежурный, арестованного в одиночку!
11
Тюрьма не самое удобное и приятное место на земле для жизни человека. А тюремная одиночная камера, когда только холодные стены, да вонючая параша, да недреманный «глазок» в двери под надежным запором твои единственные слушатели и собеседники, – это совсем уж никуда не годится.
Сергей Петрович просидел в одиночке три месяца с лишним, но отказывался дать «чистосердечные показания».
– Я вижу, Караев, что вы неисправимы, – с раздражением сказал ему как-то на допросе следователь. – Я не могу больше тянуть ваше дело. Вы не отрицаете встречи на дороге с бывшим поручиком марковского полка Доброво?
– Не отрицаю!
– Подпишите ваши показания. Вот здесь. Прочтите и подпишите.
Сергей Петрович прочитал и подписался.
Следователь положил протокол допроса в папку с тесемками, сказал:
– И пеняйте теперь на самого себя, Караев!
Прошло три дня. Утром в камеру за Сергеем Петровичем явился дежурный охранник и повел его по длинному коридору, но не туда, куда обычно водил на допрос, а в другую сторону.
Остановились перед дверью – такой же белой, безликой, как и соседние.
– Входите! – сказал дежурный.
Сергей Петрович открыл дверь и вошел в комнату. За письменным столом сидел пожилой человек в простой военной гимнастерке. Круглоголовый, стриженный ежиком.
– Садитесь, Караев!
Сергей Петрович сел на стул подле стола.
– Я – следователь Государственного политического управления Савельев Илья Иванович. Я буду теперь вести ваше дело.
– А следователь Онегин как же? – вырвалось у Сергея Петровича.
– А у товарища Евгения Онегина хватит других дел, – с чуть заметной усмешкой сказал Савельев. – Вот что, Сергей Петрович, расскажите, а еще лучше напишите, вот вам бумага и ручка, все, что вы знаете про Прохорова Андрея Трофимовича. Когда и где вы с ним познакомились? Ну, словом все, что вы хотите о нем нам сказать. А потом – о встрече на дороге с поручиком… как его?.. Доброво. Что вы можете и о нем сказать? Ничего не скрывайте, пишите так, как раньше на исповеди попу говорили. Небось приходилось исповедоваться?
– Приходилось!
– Мне тоже приходилось. Ну, желаю успеха. – Достал из ящика стола газету и углубился в чтение. А Сергей Петрович стал записывать свои чистосердечные показания.
Прошло еще несколько дней, и он был освобожден.
Сергей Петрович вышел из тюремных ворот и пошел пешком домой. Ноги ступали нетвердо, но дышалось глубоко и легко. Ах, как хорошо дышалось ему в то утро! Уже стояла на дворе ранняя осень – время года везде прекрасное, а на Кубани в особенности. Зелень на деревьях еще пышна, но чуть уловимый тонкий аромат увядающей листвы носится в нежарком воздухе.
«Снова «чет», – думал Караев. Свои белогородские четки он успел при аресте незаметно для сотрудников ГПУ снять и отдать тетушке Олимпиаде и теперь по-мальчишески радовался тому, что снова наденет их на запястье левой руки.
Тетушка Олимпиада, обнимая и целуя племянника, вернувшегося домой живым и невредимым, плакала, смеялась и говорила без умолку.
– Я знала, что ты вернешься домой, Сереженька! А сны такие мне снились и… О господи, у тебя же виски совсем седые, скоро тетку догонишь! Сереженька, ты в бога веришь?
– Я, тетушка Липа, за эти годы такого насмотрелся… Какой уж тут бог?!
– Все равно. Поклянись вот перед этой иконой, что никому никогда не скажешь о том, что сейчас услышишь.
– Ну, клянусь!
– В нашем роддоме рожала одна прекрасная женщина. Сереженька, откровенно тебе скажу – писаная красавица. И такая милая – прелесть! Очень тяжелые были роды, три дня не могла, бедняжка, разрешиться, и если бы не моя помощь… не знаю, чем бы дело кончилось. Доктор наш растерялся, а я… Короче говоря, разрешилась бабочка! Чудный мальчишка у нее родился. И вдруг я узнаю, что Верочка – Верой Сигизмундовной ее зовут, но я ее просто Верочкой называла – не кто-нибудь, а жена самого начальника нашего ГПУ. Ну, думаю, сам бог тебя мне послал! Выписали ее. Я узнала адрес, где они живут, и стала туда ходить. Приду и прохаживаюсь мимо их дома – должна же, думаю, она выйти на улицу когда-нибудь. На третий день, смотрю, вот она выходит. С колясочкой. Я к ней. Узнала меня, обрадовалась. Поговорили. Я набралась храбрости и… заплакала! Она меня утешает, а я реву. Наконец совладела со своими нервишками и все ей рассказала про тебя. Попросите, говорю, Верочка, вашего супруга – пусть разберутся с Сережкиным делом, я не знаю, в чем его обвиняют, но богом клянусь, никаких тайных преступных замыслов против Советской власти у него нету. Она нахмурила свой лобик хорошенький и говорит: «Муж не любит, когда я с ним говорю о его делах, но для вас, Олимпиада Трофимовна, сделаю исключение. Я вам дам знать о результатах». И что ты думаешь? Через три дня приходит ко мне домой женщина от нее и говорит: «Вера Сигизмундовна ждет вас сегодня в семь вечера на улице подле дома». Лечу туда, как на крыльях. Верочка моя мне улыбается еще издали. Я подошла, она говорит: «Муж сказал, чтобы я никогда больше ни о ком его не просила, но за Митю – они мальчика Митей назвали – сделаю, сказал, для тебя исключение. Один раз в жизни. Обещал лично дело вашего племянника посмотреть. И сегодня сказал мне, что будет назначен другой следователь, более толковый, чем прежний. Так что, как мне кажется, дела у вашего племянника неплохие». И вот пожалуйста – ты дома! Сереженька, помни, что ты мне поклялся!
Тетушка Олимпиада снова принялась всхлипывать. Сергей Петрович обнял ее, привлек к себе и стал целовать мокрые, сияющие, счастливые глаза.
В военкомате тоже все сложилось как нельзя лучше для Караева. Друг Прохорова, ответственный работник комиссариата, принял его приветливо, сказал, что письмо от Андрюхи (так он назвал в разговоре с Сергеем Петровичем Прохорова) получил и что у него есть для Сергея Петровича интересное предложение. Какое? Он может направить его в распоряжение штаба Туркестанского фронта, где происходят военные действия – идет борьба с басмачеством.
– Вы знаете, что это за штука такая – басмачи?
Сергей Петрович сказал, что не знает.
– Как бы вам покороче объяснить. После падения власти бухарского эмира туркестанская буржуазия – всякие там баи-помещики, миллионеры-каракулеводы, бывшие эмирские прихлебатели – пытаются вернуть себе власть. Организуют банды, иногда крупные – в несколько тысяч сабель. В банды уходит разная публика: и просто разбойничий элемент, и обманутые крестьяне – дехкане. Обстановка сложная. Басмачи мешают мирному возрождению огромного богатейшего края. Оружие у них хорошее, в основном английского и французского производства. А в верховном руководстве знаете кто у них? Энвер-паша!
– Старый знакомый! – сказал Сергей Петрович. – Я на Кавказском фронте воевал с ним.
– У него свои бредовые панисламистские идеи. Авантюрист, конечно, высшей марки. Ну как, Сергей Петрович, принимаете мое предложение?
– Принимаю.
Друг Прохорова полистал какие-то бумаги, задумался.
– .Тут вот какое затруднение. Вы же пехотинец, а фронт нуждается в кавалерийских командирах.
– Я вырос в кубанской станице, на коне сызмальства езжу. И кавалерийский строй знаю – с казачатами тренировался. А по сабле в юнкерском занимал одно из первых мест, хотя, откровенно говоря, не любил никогда сабельный бой. Мы, пехотинцы, кавалеристов называли мясниками на лошадях!
Военкоматчик усмехнулся.
– Тем не менее именно кавалерия решила судьбу и Деникина и Врангеля. Думаю, что для вас с вашей биографией, Сергей Петрович, Туркестан – лучший вариант из тех, что я могу вам предложить. Поедете?
– Поеду! Где наша не пропадала!
…В Софиевскую отправилась тетушка Олимпиада, пробыла там два дня и ничего утешительного оттуда не привезла. Федотовны уже не было в живых. Про Федора Кузьмича и Нату в станице никто ничего не слыхал. Сергей Петрович наказал тетушке продолжать поиски На-ты и вскоре, получив дорожные документы и деньги, уехал из Краснодара в Ташкент.
Часть третьяЕСТЬ УПОЕНИЕ В БОЮ…
– Свидетель бог – не я тому виной! —
Воскликнул он, и шашка зазвенела!
М. Лермонтов
1
Бой за кишлак Заир затягивался. Басмачи, засевшие в нем, вели сильный огонь из-за дувалов[8]8
Дувал – глинобитный забор.
[Закрыть]. Глина, прокаленная свирепым азиатским зноем, лучше всяких бетонных плит предохраняла их от ответного огня.
Командиру первого эскадрона Бородулину, которого в полку звали «коногоном» в память его былой шахтерской специальности, пришлось, укрыв коней с коноводами в лощинке, вести пеший бой. Бородулин пеший бой не любил.
Эскадрон стал нести потери: басмачи стреляли, как всегда, метко. «Коногоном» овладела буйная ярость, которая неизменно наваливалась на него, когда бой складывался не так, как ему хотелось, и он решил не тянуть волынку, а поднять своих людей в решительную атаку и взять Заир одним махом. «Главное, чтобы они дрогнули и посыпались из кишлака, – думал Бородулин, имея в виду басмачей из банды курбаши[9]9
Курбаши – командир басмаческой банды.
[Закрыть] Ише-Тюри, за которым полк гонялся уже давно. – Бежать им, кроме как на восток, некуда, а там их перехватит второй эскадрон и возьмет в сабли… Только бы командир второго… офицерик этот не подкачал!»
С Караевым у Бородулина отношения были натянутые. В полку сразу же, конечно, узнали, что присланный из Ташкента штабом фронта на службу новый командир эскадрона Сергей Петрович Караев – бывший царский офицер, служивший к тому же у белых на юге, и это всех насторожило. Но Караев держался ровно и просто, да и первые же боевые проверки показали, что новый комэск чести знаменитого туркестанского кавалерийского полка не уронит. Отношение к нему изменилось. У всех, кроме «коногона».
На первой встрече командиров с новым комэском – а выпив больше, чем следовало, трофейного рома, Бородулин стал задирать «беляка» – Караев отмалчивался.
– А ведь мы с тобой… виноват, с вами встречались на Южном! – говорил «коногон», глядя на Караева в упор прищуренными ненавидящими глазами. Его тяжелое красивое лицо прирожденного воина было на лбу и под глазами покрыто черными точечками от намертво въевшейся в кожу угольной пыли, что придавало ему еще больше суровости.
– Вполне возможно! – вежливо сказал Караев.
– Крепко давал тогда белым гадам жизни Семен Михайлович!
– Да брось ты, Бородулин! – сказал один из командиров. – Кто старое помянет – тому глаз вон!
– Не согласен! – хорохорился «коногон». – Это, по-моему, глупая пословица. И не выдержанная с классовой точки. Я вот в школе, помню, учил басню Крылова – про гадюку. «Хоть ты и в новой коже, а сердце у тебя все то же». Вот эта басня – умная, в самую точку. Правильно я говорю, комиссар?
– Оставь, Бородулин, – сказал комиссар полка Мурузян. – Уймись!
Но «коногон» не унимался.
– Порядочное количество и я лично ваших компаньонов там порубал, на Южном, ох порядочное!..
Караеву на миг изменила его выдержка.
– Ну, если так будем считаться, то ведь и я…
«Коногон» вскочил и, бешено бранясь, стал расстегивать трясущейся рукой кобуру револьвера. На него навалились, отобрали наган, потребовали, чтобы он извинился перед товарищем Караевым. Но Бородулин, буркнув: «Серый волк таким товарищ», – извиняться не стал и, ни с кем не попрощавшись, ушел к себе на ночевку.
Утром, впрочем, встретив Сергея Петровича на улице, он первым отдал ему воинское приветствие и произнес с официальной сухостью: «За вчерашнее прошу извинить!» Сказал и, не дожидаясь караевского ответа, зашагал к своим конникам. В новых бриджах с кожаными желтыми леями, в брезентовых легких сапогах в обтяжку на мускулистых ногах, прямой и стройный, он шел не оглядываясь, явно щеголяя своей выправкой, и Сергей Петрович отдал ему должное.
Не только из классовой неприязни к бывшему белому офицеру не принял Караева комэск Бородулин, тут было еще и другое. Первый признанный храбрец полка, кавалер редкого в те времена ордена Красного Знамени, он смутно почувствовал, что рядом с ним появился сильный соперник, и вот это-то и было не по нутру честолюбивому «коногону».
…Заир был взят одним махом. Два эскадронных пулемета прикрыли своим огнем бородулинских орлов – так звал Бородулин своих конников, – и те подобрались по-пластунски поближе к дувалам, а потом поднялись в рост и перемахнули через проклятую каменную глину. Басмачи, как и ожидал Бородулин, дрогнули и посыпались из кишлака, теряя по пути своего бегства тех, кому аллах присудил доблестно пасть в бою.
Сам неуловимый курбаши Ише-Тюри оплошал. Его нога была уже вдета в стремя, но верный конь вдруг взвился на дыбы, и курбаши, грузный, многопудовый мужик, не удержался и рухнул на землю, успев, однако, вовремя выдернуть ногу из стремени. Тут же он был схвачен и обезоружен подоспевшими красноармейцами.
…Второй эскадрон вступил в Заир – по трое в ряд – уже к вечеру. Багровое солнечное ядро тонуло в зыбком облачном мареве на горизонте. Утомленные кони шли шагом с опущенными головами, их крупы и шеи потемнели и лоснились от пота. Лица всадников тоже выражали крайнюю степень усталости.
Караев ехал впереди эскадрона на своем Постреле, темно-гнедом трофейном жеребчике. Сейчас, еще не остывший после скачки, он казался вороным. Рядом с ним на прекрасном сером англо-арабе ехал командир первого взвода Богдан Грицко, кубанский казак, первый в полку мастер сабельного удара.
Эскадрон Караева на этот раз не выполнил свою оперативную задачу: басмачам удалось, уклонившись от встречи с ним, ускакать другой дорогой на своих свежих дьявольски выносливых конях. Лишь двух всадников Ише-Тюри догнали и зарубили конники Караева, а надо было всех.
– Чего вы расстраиваетесь, Сергей Петрович! – утешал комэска бывалый комвзвода. – Подумаешь, беда какая – не дорубали! Сегодня не дорубали, завтра дорубаем! Кони у них сами знаете какие!
– Не в этом дело, Богдан Лукич, – болезненно поморщился Караев. – «Коногон» будет ехидничать, еще и рапорт напишет на нас командиру полка.
– Нехай его пишет. Товарищ Ладецкий – человек справедливый, он знает, какая тут война и какие случаются фокусы-мокусы… Поглядите направо, Сергей Петрович. Сколько они их тут наваляли!
Сергей Петрович повернул голову направо и увидел трупы басмачей – джигиты лежали кучно в своих полосатых халатах и черных папахах, кто лицом в пыль, кто задрав бороду к равнодушному медленно холодеющему небу. Это был почерк «коногона»: всегда после боя по его приказу трупы басмачей бойцы сносили в одно место для учета, чтобы в донесении на имя командования цифра басмаческих потерь была указана точно – ни на одного больше, но и ни на одну голову, упаси бог, – меньше!
Эскадрон продолжал свое движение. Но вот до ушей Караева и Грицко донесся какой-то странный шум, вроде бы женские крики и мужской хохот.
Караев, придержав Пострела, поднял руку, дав знак эскадрону остановиться.
Всадники натянули поводья. Эскадрон остановился. Да, где-то тут близко кричат и громко смеются люди.
Грицко обернулся, позвал:
– Рашид, ко мне!
К командирам подъехал всадник – узбек, черноглазый, женственный юноша, похожий в своем остроконечном шлеме с красной звездой на ангела воителя византийского иконного письма.
– Ну-ка, Рашид, давай по-быстрому смотай, узнай, что там за ярмарка, – приказал Грицко.
Узбек дал шпоры коню и рысью поехал туда, откуда неслись крики. Вскоре вернулся и, улыбаясь во весь рот, доложил:
– Народ собрался подле хуаза[10]10
Хуаз – пруд.
[Закрыть], много женщин и наши ребята тоже. Сам Ише-Тюри там, его они живьем взяли! Он в хуаз – буль-буль! – ныряет, достает со дна котлы для плова.
– А как они туда попали, котлы-то?
– Ише-Тюри покарал кишлак Заир за то, что дехкане для нас плов варили, когда мы тут стояли. Его джигиты все котлы, какие нашли в кишлаке, побросали в хуаз.
…Ише-Тюри, голый до пояса, в мокрых, облепивших его толстые ляжки подштанниках, сидел на берегу хуаза – видимо, переводил дух после очередного нырка. Мутно-зеленая взбаламученная вода хуаза смердила так, что Сергей Петрович не выдержал – закрыл нос и рот носовым платком. Женщины-узбечки в своих серых до пят одеяниях с черными чачванами, закрывавшими их лица, смеялись и что-то выкрикивали, показывая пальцами то на хуаз, то на ныряльщика.
– Кричат, что он не все котлы достал! «Ныряй еще, собака», – кричат! – перевел Рашид Сергею Петровичу требование женщин.
Караев подошел к Ише-Тюри, тот поднял голову с прилипшими ко лбу мокрыми, спутанными волосами, и Сергей Петрович прочел в его затравленных глазах с красными белками мольбу о пощаде.
– Скажите женщинам, чтобы они шли по домам! – приказал Сергей Петрович Рашиду. – Пленный пусть оденется, его надо доставить в штаб полка.
Рашид выполнил приказ.
Женщины в ответ загалдели неодобрительно. Ише-Тюри быстро натянул на мокрый торс грязную сорочку и, радостно схватив шаровары, запрыгал на одной ноге, ловя другой непокорную штанину. И тут на месте происшествия появился «коногон».
– По какому, собственно, праву вы распоряжаетесь в расположении моего эскадрона? – гневно обратился он к Караеву.
Сергей Петрович ответил мягко:
– Но он же пленный, Василий Васильевич. Посмотрите на него. Он еще раз нырнет – и, пожалуй, больше уже не вынырнет!
– Жалеете?!
– Жалость тут ни при чем. Жалеть не надо, но и издеваться над пленными не нужно!
– А ему, значит, можно было издеваться над этими бедными женщинами?!
– Вы меня, очевидно, не понимаете. Или не хотите понять!
– Я вас прекрасно понимаю! Слишком даже прекрасно!.. Пока все котлы не вытянет из хуаза – будет нырять.
– Не будет!..
Лицо «коногона» побагровело. Он подошел к уже успевшему надеть шаровары курбаши и, сжимая правой рукой эфес шашки, приказал:
– Ныряй! Там еще котлы остались!
Ише-Тюри понял, что от него хотят, и отрицательно замотал головой. Показав на свои шаровары, он произнес что-то по-туркменски.
– Говорит, что он уже оделся, – перевел Бородулину его ответ Рашид, – и нырять больше не станет.
– Ничего! – грозно сказал «коногон», – пускай в штанах разок нырнет напоследок!
Толпа, окружавшая хуаз, вдруг расступилась, пропустив двух всадников в шлемах со звездами. Это были командир полка Ладецкий и комиссар Мурузян. Расторопный Рашид принял от них поводья, Ладецкий, коренастый и низкорослый, бывший царский солдат армейского гусарского полка, слез с коня первым и подошел к эскадронным командирам. Они вытянулись, отдали приветствие по форме.
– Что за шум, а драки нет? – весело сказал Ладецкий. – Докладывай ты, Бородулин!
Бородулин доложил.
Ладецкий нахмурился и обратился к Караеву.
– А теперь – вы!
Караев сказал то, что уже говорил Бородулину.
– Ваше решение правильное, товарищ Караев! – сказал командир полка и обернулся к помрачневшему «коногону».
– Вам, товарищ Бородулин, за взятие Заира спасибо от командования, за то, что Ише-Тюри пленили, второе особое спасибо. А за цирк этот со сниманием штанов с пленного курбаши делаю замечание.
Бородулин в смущении развел руками.
– Ты пойми, Василий Васильевич, – сказал Ладецкий уже другим, не официально-командирским, а приятельским тоном. – Ише-Тюри не простой курбаши, а пленный, к тому же вождь туркмен, его каждое слово для племени – закон. Его беречь надо как зеницу ока. Завтра из Ташкента прилетит самолет, отправим его в штаб фронта – пусть там с ним поговорят, как надо. Чем черт не шутит – он еще и союзником нашим, глядишь, станет, если возьмет да и повернет своих джигитов против Джунаида! Надо, брат, и дипломатом быть, когда это нужно для дела революции, а не только рубить с плеча!
– Из меня дипломат, Николай Андреевич, как, извиняюсь, из чего-то пуля!
Ладецкий усмехнулся и сказал подошедшему комиссару Мурузяну:
– Как думаешь, комиссар, может Бородулин стать дипломатом, если, скажем, фрак на него надеть, манишку белую, лаковые полуботиночки, а?
Комиссар Мурузян шутку комполка охотно поддержал:
– Думаю, сможет, Николай Андреевич. Одна только есть опасность!
– Какая?
– Как бы Василий Васильевич сгоряча какого-нибудь буржуазного министра за столом переговоров не отутюжил трехэтажно. Скандал же получится на весь мир!
Командиры засмеялись, и «коногон» тоже стал улыбаться, даже на скорбно-мрачном лице Ише-Тюри, уже успевшего надеть красный богатый халат и обмотать себя по массивному животу таким же богатым шелковым поясом, появилось нечто вроде улыбки.
Командир полка покосился на него и сказал Бородулину:
– Ты его спрячь на ночь в надежном месте и охрану поставь сильную. Головой за него отвечаешь. Понятно?
– Понятно, товарищ командир полка!
С этого дня комэск Бородулин, встречаясь с комэском Караевым на полковых дневках и привалах, не здоровался с ним, делая вид, что не замечает его, а Сергей Петрович тоже не пытался наладить с ним отношения.
2
Из дневника комэска Караева [11]11
В конце повести читатель узнает, как в мои руки подал этот дневник, вернее, отдельные его страницы. – Прим. авт.
[Закрыть]
Шестой месяц пошел, как я здесь, в Туркестане. В общем – втянулся. Про Нату – ни звука. За это время получил от тетушки Олимпиады два письма, летчики доставили из Ташкента. Пишет, что не теряет надежды разыскать Ф. К. Дай-то бог!
От здешней жары я слегка усох, но в общем на здоровье не могу пожаловаться. Говорят, что здешний климат действует на людей по-разному: или солнечная энергия возбуждает к активной деятельности всякую дрянь, сидящую внутри бедного нашего организма, и человек быстро погибает от болезни, с которой в ином климате промучился бы, как с нелюбимой женой, до самой старости, или, наоборот, дрянь эта погибает сама, а человек приобретает полный иммунитет ко всем болезням и живет себе спокойно столько, сколько положено ему аллахом. Видимо, я из второй группы.
…Кажется, я начинаю понимать секрет непобедимости Красной Армии. Самое главное, по-моему, это новые отношения между командирами и бойцами. Полное единство и полное взаимопонимание. Не суворовско-драгомировские отношения: слуга царю, отец солдатам, – а старший и младший боевые товарищи, понимающие, за что и почему они воюют.
…Какие разные люди служат под моим начальством в эскадроне! Очень нравится мне Рашид Кулаев, узбек лет двадцати, наверное, не больше. Красив, улыбчив. Эстет во всем. Дикая жара, солнце не светит, а полыхает, а он едет на своем рыжем аллах-текинце с открытой головой, за ухо заткнул какой-то цветок, шлем засунут за сабельный ремень.
Говорю ему: «Наденьте шлем, Рашид, голову напечет».
Улыбается: «Моя голова привычная, товарищ Сергей Петрович! Не беспокойтесь».
Говорю: «А зачем цветок за ухо заткнули?»
«Для красоты!..»
В бою – бесстрашно хладнокровен. Прелесть что за солдат! Полюбил я и командира первого взвода Богдана Лукича Грицко, моего земляка-кубанца из станицы Платнировской. Пожилой хозяйственный мужик, добродушный и веселый, как все черноморцы – потомки запорожцев; линейцы – те народ более жесткий. Служил по мобилизации у белых в корпусе Улагая, к красным перешел после казни члена кубанской рады Калабухова. Сколько было тогда разговоров среди офицерства в связи с этой публичной экзекуцией в Екатеринодаре!
Богдан Лукич в эскадроне моя правая рука. На него я могу положиться. Как на каменную гору.
…Вчера на дневке в кишлаке Богдан Грицко показывал красноармейцам свое сабельное искусство – рубил лозу, спрыгивал и снова на всем скаку вскакивал на коня, свешивался с седла на скаку вниз головой – в общем демонстрировал высший класс вольтижировки. Имел большой успех. Артист! Потом для него слепили из сырой глины подобие человеческого туловища с глиняной головой, и по просьбе Рашида Богдан Лукич одним взмахом шашки отсек глиняную башку.
Рашид спросил:
«А в бою можете так, Богдан Лукич?»
Грицко ответил:
«Могу, но в бою это потруднее. Человек сделан не из глины, а из самого прочного на свете материала. И вдобавок у него в руке такая же шашка, как и у тебя! Поимей в виду. Но бывает, что и повезет, махнешь – она и покатится как перекати-поле: кувырк, кувырк!..»
Говорил он об этом просто, благодушно, словно речь шла не о человеческой голове, а о футбольном мяче.
…Вчера моя голова чуть было не сделала такой «кувырк». Мы схлестнулись с джунаидовцами, которые приняли нашу сабельную атаку. Какой-то громадного роста басмач (а может быть, он показался мне тогда великаном?!), сидевший на таком же долговязом коне, налетел на меня. Пострел, как всегда в таких случаях, дико ржал и крутился подо мной вьюном. Басмач оказался искусным фехтовальщиком. Он парировал мои удары уверенно и легко, потом сделал обманный замах – я на него клюнул; и тут бы мне пришел конец, но Пострел, почуяв беду, вовремя отпрыгнул в сторону. Шашка басмача рассекла воздух, а его самого пристрелил из нагана кто-то из моих эскадронцев. После боя вечером я велел Рашиду – он мой вроде как бы ординарец – дать Пострелу двойную порцию зерна, а сам лично угостил его хлебцем из своего пайка. Милый дружочек Пострел, сколько раз уже он меня выручал! Сабельный бой как не любил, так и не люблю. Отвратительное ощущение, когда чувствуешь, как твой клинок врезается в человеческую плоть. Мясники на лошадях! То ли дело огневое сражение!
…От тетушки писем нет. Может быть, больна? Стали нападать на меня приступы ужасной тоски. Где же Ната?! Вчера прилетал «юнкерс», летчик – бывший офицер-гатчинец[12]12
В Гатчине действовала офицерская школа, готовившая летчиков для царского воздушного флота. – Прим. авт.
[Закрыть]. Мы с ним приятели. Я так надеялся, что он доставит мне письмо из Краснодара. Письма не было, я впал в минор. Летчик заметил это и заменил письмо бутылкой настоящего дореволюционного шустовского коньяку, которому мы о ним, как говорится, отдали честь. Вот кто настоящие герои – так это наши летчики. «Юнкерсов» у нас мало. Летают они больше на «этажерках» – на этих летающих гробах. Вынужденная посадка в здешних местах почти всегда верная гибель. Или разобьешься, или, еще того хуже, не успеешь застрелиться и попадешь в лапы к басмачам. А у тех с летчиками особые счеты. Летчики – незаменимые разведчики, во-первых, а во-вторых, бомбометание! Оно приводит в священный ужас басмачей. Едва только они увидят в небе «шайтан арбу», как в панике скачут кто куда. И неизвестно, кто паникует больше – конь или всадник!








