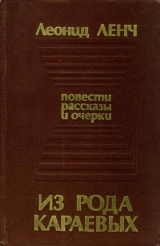
Текст книги "Из рода Караевых"
Автор книги: Леонид Ленч
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
НА ШОССЕ
Когда Груня Купавина из далекого ярославского колхоза «Красный луч» уезжала на войну, дядя ее Дмитрий Михайлович, старый солдат, инвалид и георгиевский кавалер, обидел девушку смертельно.
Он скептически оглядел толстенькую, короткую фигурку племянницы, вздохнул и сказал густым басом:
– Нет, Грунька, не солдат ты!
– Если я противоположного пола, это еще ничего не значит! – вспыхнув, отрезала Груня.
– Противоположный пол тут ни при чем! У другой бабы и рост и осанка – хоть в гвардейцы ее записывай. Взять мою покойницу, царство ей небесное. Она, бывало, оседлает технику, ухват там или кочергу, – куда мне против нее! Я сейчас руки кверху: «Сдаюсь на милость победителя!» А у тебя видимость не солдатская!
– Уж какая есть, дядя Митя! Она мне не помешает стрелять в фашистов.
– Стрелять, конечно, не помешает. Может, ты даже попадешь в какого-нибудь фон-барона. С перепугу. А вот в плен врага никогда не возьмешь. В плен взять – это самое трудное: это значит сильно противника напугать.
И дядя Митя ласково зажал жесткими пальцами крохотный, но очень самостоятельный Грунин носик.
– Пустите, дядя Митя! – окончательно рассердилась Груня. – Цыплят по осени считают. И вообще… давайте прощаться, а то я из-за вас на станцию опоздаю.
Много месяцев спустя после этого разговора Груня Купавина в побелевшей от солнца и частых стирок гимнастерке, с тяжелой винтовкой за плечами и с красным флажком в руке стояла у развилки шоссейной дороги недалеко от города, вчера лишь взятого штурмом гвардейцами Н-ской части. На фронте стрелять ей не пришлось: она стала регулировщицей.
Четко взмахивая своим флажком, Груня пропускала машины, мчавшиеся на запад, и думала:
«Так дело пойдет – я, пожалуй, скоро буду под самым Берлином регулировать!»
Перед вечером на шоссе остановилась запыленная, видавшая виды полуторка. Из шоферской кабины вылез водитель – черный, как дьявол, от загара и дорожной грязи, в засаленной, сдвинутой набекрень пилотке.
Он вежливо козырнул Груне и спросил медовым голосом:
– Тут поблизости не валяется ли вражеская техника, товарищ ефрейтор? Покрышек бы разжиться в запас!
– Их в городе били, – сухо сказала Груня.
– Жаль, что не здесь. В городе, поди, все уже комендант подобрал! Покурить желаете? А то ведь солдат без цигарки все равно что кипяток без заварки.
– Некурящая!
– Что же вы не научились? К вашей красоте очень пойдет самокрутка. Прошу!..
– Я на посту стою, товарищ сержант!
– Меня, между прочим, Сережей зовут. А вас?
– Вы бы ехали, товарищ сержант!
Веселый водитель, поняв, что с суровой регулировщицей каши не сваришь, притворно вздохнул, козырнул вторично и заявил:
– И то… надо ехать. Мне сегодня же и обратно. А вы не боитесь здесь одна стоять, товарищ ефрейтор?
– Кого же мне бояться? Уж не вас ли?
– Зачем меня! Кругом в лесах фашисты бродят одичавшие. Их здесь сотнями, а то и тысячами вылавливают. Как бы они не присватались к одинокой девушке.
Груня гордо поправила свою винтовку и сказала:
– Ну, я их быстро отсватаю. Счастливого пути, товарищ сержант! Не теряйте золотого времени.
Черный сержант улыбнулся, показав Груне все свои тридцать два зуба, залез в кабинку, дал газ и умчался.
Наступил вечер. До смены было часа три. Машины больше не пролетали мимо Груни, и ей стало скучно.
От скуки она тихо запела песню, которую очень любили петь регулировщицы ее части.
Песня называлась «Прощанье», и достоинство этого произведения заключалось не столько в его мелодичности, сколько в длине: по Груниным расчетам, ее должно было хватить до конца дежурства.
Шагая по пустынному шоссе туда и обратно, Груня за час успела в песне попрощаться с отцом, с матерью и дедом и находилась на полпути к бабушке, как вдруг услышала позади себя, в придорожных кустах, какой-то шорох.
Она обернулась и застыла на месте: перед ней стоял гитлеровец.
Это был здоровенный, красномордый верзила в изодранном мундире, с автоматом в руках.
Ахнув, Груня стала рвать с себя винтовку, но фашист сделал умоляющий жест рукой, быстро наклонился и положил на дорогу свой автомат и ручную гранату.
– Не беспокойтесь, баришня, – сказал он на ломаном русском языке. – Их вилль… я хотел… сдавался в плен… Гитлер капут!..
И сейчас же из-за других кустов вылезли еще гитлеровцы. Они тоже сложили свое оружие к Груниным ногам, и каждый, заискивающе улыбаясь, сообщил регулировщице, что Гитлеру капут!
Когда церемония сдачи в плен закончилась, красномордый гитлеровец сказал:
– Водиль нас скорей в плен… Мы есть голодный, как… дер вольф… волк!
– Смена придет, тогда отведу вас в город к коменданту! – строго ответила Груня. – А пока… ждите здесь. Ничего, не сдохнете!
– Сдохнем! – убежденно сказал гитлеровец. – Нам надо шнель… бистро нах комендатур. Город далеко?
– Недалеко!
Красномордый обернулся к своим и что-то отрывисто и гнусаво сказал, будто пролаял. Гитлеровцы закивали головами, одобрительно зашумели.
– Ми решаль идти в город! – любезно сказал красномордый. – Ми будем сдавался передней баришня… Битте, давайть нам наш автомат!
В ответ на эту любезную просьбу Груня наставила на красномордого винтовку, внушительно щелкнула затвором и грозно крикнула:
– А ну, назад! И тихо у меня сидеть!
Гитлеровцы попятились – такая решительная сила была в глазах у этой маленькой, курносой девушки.
– Обождать они не могут! – сказала Груня, опуская винтовку. – Подумаешь, какие господа!..
Гитлеровцы опять заговорили по-своему, и красномордый объявил:
– Ми решаль… ожидать половина часа!
– Сколько надо, столько и обождешь!
Гитлеровские вояки присели на обочину шоссе и стали ждать. Худые, заросшие, оборванные, они действительно напоминали волчью стаю, испытавшую и гон борзых, и пулю охотника, и капкан зверолова.
«Кинутся они на меня – что я с ними сделаю? – тревожно подумала Груня. – Их двенадцать образин, а я одна! И не едет никто!»
– Пойдем в плен, баришня! – жалобно сказал красномордый.
– Не канючь! Сиди тихо!
И тут Груня услышала приближающийся веселый перестук колес и фырканье мотора. Из-за поворота шоссе выскочила знакомая полуторка. Груня замахала флажком, приглашая водителя остановиться.
Заскрежетали тормоза, полуторка остановилась, и веселый сержант выскочил из кабинки:
– Что случилось, товарищ ефрейтор?
– Гитлерюги мне сдались, – небрежно сказала Груня. – Двенадцать штук. Вон сидят. А вот тут их автоматы.
– Присватались, значит?
– Присватались. Отвезите их в комендатуру, товарищ сержант, будьте столь любезны, а то мне на них глядеть противно!
– Можно! – охотно согласился сержант. – Это мы быстро провернем. Помогите мне ихние автоматы погрузить в кабинку!
Когда оружие пленных было уложено в кабинку, а сами немцы, повторяя: «Гитлер капут», залезли в кузов, Груня положила на плечо сержанту свою маленькую загорелую руку и сказала:
– У меня еще к вам просьба, товарищ сержант! Возьмите у коменданта справку с печатью, что двенадцать фашистов действительно мне сдались. Моя фамилия Груня Купавина.
– А зачем вам такая справка, товарищ Груня?
– Домой вернусь, мне же не поверят, что я двенадцать фашистов в плен взяла. Вы знаете, дядя у меня есть такой вредный – он без документов ни за что не поверит! Сделайте, товарищ сержант… товарищ Сережа?
При этом Груня посмотрела на сержанта так красноречиво и выразительно, что веселый водитель сразу понял, что сделать придется.
– Сделаю, Грунечка! Ждите! Эй вы, завоеватели, держитесь крепче! Поехали!
Не прошло и часа, как полуторка примчалась назад – к развилке шоссе.
– Получите, Груня! – сказал сержант, отворяя дверцу и подавая регулировщице листок бумаги. – Не хотел комендант давать. Насилу уговорил. Только для вас и старался.
На листе бумаги, вырванном из записной книжки, было написано:
«Удостоверяю, что ефрейтору А. Купавиной действительно сдались в плен десять солдат и два унтер-офицера 78-й немецко-фашистской пехотной дивизии.
Комендант капитан Супрунов».
Печать была на месте, число, месяц и год поставлены – документ был настоящий, исправный!
– Порядок! – сказала Груня и спрятала бумагу в левый карман гимнастерки, у сердца.
ЭНЗЕ
Я в нашем партизанском отряде была, как это говорится, и швец, и жнец, и на дуде игрец. И стряпала, и варила, и лечила, и чинила.
Мы в лесу стояли лагерем, в горах. Все ребята с нашего завода. Выкопали землянки, жили там и воевали.
Немцы в горы боялись идти, они в предгорьях построили линии обороны против нас, с дотами, с блиндажами – все как полагается.
Только не помогали им ихние доты.
Ночью, бывало, прошмыгнут наши партизаны мимо немецких дорог – и айда гулять по степи. Потом возвращаются, докладывают нашему начальнику, товарищу Н.
Голодные придут, грязные, оборванные – штаны ватные так и висят клочьями. Прямо беда с ними!
Я их накормлю, одежонку починю да еще и поругаю как следует.
– Что же вы, ребята, – говорю, – обмундирование совсем не жалеете? Вы бы поосторожней как-нибудь, а то, ей-богу, без штанов буду вас пускать на операцию.
Смеются:
– Без штанов легче.
А другой осерчает:
– Не бухти, Тимофеевна, попробовала бы сама три километра по колючкам на брюхе ползти, да еще тридцать килограммов взрывчатки на горбу тащить.
И ведь верно: герои, если подумать!
Хорошо я с ними жила, жалела их, как родных детей. Они меня тоже любили. Я – только вы не смейтесь – гадаю очень хорошо. Конечно, с научной точки зрения, гадание – это бабье суеверие, по от скуки почему не погадать?
У меня были карты-самоделки. Вот я замечу, что какой-нибудь наш партизан ходит сумный, невеселый, слова от него не добьешься, – сейчас к нему:
– О чем задумался, детина?
– О семействе, – говорит, – думаю, Тимофеевна. Как они там? Живы ли?
– Давай погадаю.
– Погадай… для смеха.
Раскину я карты – и говорю только хорошее. Пою-заливаюсь, как соловей:
– Ожидает тебя скорое свидание с червонной дамой, которая имеет к тебе бубновую симпатию. Сердце успокоится огромадной радостью в собственном доме.
Смотришь – и повеселел парень.
Раз меня вызвал к себе наш начальник. Строго говорит:
– Ты зачем, Тимофеевна, суеверие в отряде разводишь? Что это за гадания такие?
Я ему все объяснила.
Он усмехнулся в усы свои и сказал:
– Первый раз вижу, чтобы карты моральную политичность поддерживали. Ты все-таки… поаккуратней о ними!
Очень я скучала в отряде за хозяйством своим. Пока немец не наступал, я работала на ферме в подсобном хозяйстве при заводе. Ферма богатая, птицы этой, скотины всякой – целый Ноев ковчег: семь пар чистых, семь пар нечистых.
Про Кубань нашу, знаете, как говорят? Воткни весной палку в кубанскую землю – она тебе осенью плод даст. Что земля? На Кубани воздух даже какой-то плодородный. На животину и то действует. Я на ферме у себя замечала: только свинья опоросится – глядишь, опять поросная ходит. Без пересадки, право слово!
Однажды приволокли наши ребята откуда-то свинью. Как они ее до лагеря дотащили, не знаю. Их секрет.
Пришли веселые, шумят:
– Сейчас мы ее заколем, и ты, Тимофеевна, сваришь нам настоящий кубанский борщ со свининой!
Поглядела я на свинью: ладная такая свинка, упитанная, не схотелось мне ее колоть! «Пусть, – думаю, – в хозяйстве живет – может, приплод даст!»
Пошла до начальника, уговорила его объявить свинью как бы Энзе – неприкосновенным запасом. Обиделись на меня наши партизаны – ужас как! Ну еще бы: борщ мимо рта проехал!
Сварила я им кашу, хорошую, пшенную, а они едят и хают ее, да громко, чтобы я слышала. Они хают, и жалко мне их, а у самой думка: «Не вечно же, – думаю, – мы будем в горах и землянках сидеть? Погоним немца, вернемся на завод, а хозяйства наша вся порушенная, с голого места начинать придется. Так хоть свинья будет на первое время».
Ох, хлебнула я горюшка со своей Энзе! Ребята как волки вокруг нее ходили и зубами щелкали. Чего только не выдумывали!
Придут к начальнику, докладывают:
– Тимофеевнина Энзе опять нашкодила. Мы мину сделали нажимного действия, а она всеми четырьмя на нее влезла.
– Взорвалась?
– Никак нет! Позвольте ее за шкоду предать смертной казни…
Начальник смеется:
– Это не шкода: это технический контроль. Значит, плохую мину сделали, если свинья взлезла и не взорвалась. Мы должны быть ей только благодарны. Свинья не взорвалась – и немец не взорвется.
А один раз и он на нее осерчал. У нас телефон был проведен полевой – от землянок к передовым наблюдательным постам. Вот однажды хватились – порвана связь. Послали ребят проверить. Те вернулись и Энзе мою пригнали. Кричат:
– Энзе проклятая порвала! Поймали на месте преступления. Долго ли еще будем с ней цацкаться?..
Начальник говорит:
– Мне тоже надоела эта Энзе. Заколите ее к черту, а то действительно животы у всех подвело!
Я в слезы.
– Нельзя ее колоть. Она поросная.
– Откуда поросная?
– Думаю, от дикого кабана.
– Ну, раз поросная… оставить… Только смотри у меня… На твою ответственность!
А я это так сказала, наобум лазаря. «Ох, – думаю, – будет мне теперь!..»
И что же вы думаете? Свинья-то оказалась действительно поросная. Такой уж у нас воздух на Кубани. Весной, как немца погнали, она и опоросилась. Не подвела меня. Восемь поросят привела. Мордочки у всех острые, длинные, лесные. В отца! Смеху с ними было! Каждый придет, посмотрит на Энзе с поросятами и что-нибудь скажет:
– Это у нее от фрица.
– Нет, от ветра.
– От телефона.
Смех смехом, а все же недаром, выходит, я ее берегла. Не с пустыми руками возвращаемся.
Вернулись мы на завод. Ходим по развалинам, где раньше цехи наши стояли, и плачем не то с радости, что вернулись, не то с горя.
А начальник говорит:
– Слезами горю не поможешь. Пускай каждый займет свое место. Надо работать, помогать фронту. Ты. Тимофеевна, забирай свою Энзе с поросятами, поезжай в подсобное хозяйство, действуй…
Вот я и действую: птица у меня уже имеется кое-какая. Коровки завелись, да вот Энзе моя боевая. Ничего, все наладится. Это же Кубань! У нас воздух веселый, легкий!..
МЫ ИЗ ВОСЬМОГО ПОДЪЕЗДА
Большой, очень чистый московский двор. Никакой зелени – только в глубине двора одиноко высится старая-престарая береза.
Под березой – скамейка, такая же старая. А на скамейке всегда дети. Это их излюбленное место.
Сейчас на скамейке сидят Галя Кусихина и Леля Кальченко, девочки из восьмого подъезда. Они очень похожи друг на друга – белесые, длинноногие, голенастые, в коротких старых пальтишках и фетровых беретиках: Галя в зеленом, а Леля в малиновом. Еще отличаются они чулками: у Гали чулки желтые, а заштопаны на коленках черными, нитками, а у Лели – черные, но заштопаны желтыми.
Тут же, у скамейки, возится Валька, четырехлетний брат Гали Кусихиной, пухлое, розовое, безбровое существо в лыжных штанах «с чужого плеча».
Девочки говорят о своем.
– Ты масло растительное уже получила? – спрашивает Галя, щурясь от ласкового сентябрьского солнца.
– Получила. Вчера ходила. А ты?
– Я тоже получила. Нажарили картошки – вот сколько!.. А Валька съел половину. Он у нас ужасно много ест. Мама говорит, что он как удав. Ты видела живого удава?
– Нет. А ты?
– Я видела. В зоологическом. Кошмар и ужас, до чего противный. Он лежал в клетке и переваривал кроликов. Ты знаешь, он их живьем глотает – с ухами, с ногами, с кишками, со всем. Наглотается и сейчас же ложится спать.
– Его, наверное, другие зоологические звери презирают за то, что он такой обжора.
– Валька! – вдруг кричит Галя Кусихина. – Не смей жевать листья!.. Выплюнь сейчас же!.. Вот уж действительно удав!..
Валька послушно выплевывает невкусный березовый лист и с независимым видом начинает прыгать на одной ноге, как будто ничего и не произошло.
Девочки продолжают разговор.
– Ваш папа вам пишет?
– Пишет. А ваш – вам?
– Наш нам тоже пишет. Наш, главное, под салюты угадывает. Даже странно: как от папы письмо – так вечером салют!
– Валька! – снова грозно кричит Галя. – Ты опять жуешь листья?.. Я кому говорила?!
– Я же жеваю одну слюну! – басом оправдывается Валька и начинает прыгать на другой ноге.
Разговор на скамейке возобновляется.
– Твоя мама устает? – спрашивает Леля Кальченко.
– Устает! Она говорит, что, если бы не я, она бы давно легла на диван и ноги протянула. Она меня знаешь как зовет? «Мой заместитель»! Нас с ней, главное, Валька очень мучает. Мама говорит, что он ужасно трудоемкий ребенок.
– Вообще без мужика в доме трудно, правда? Хорошо еще, что мы с тобой такие ловкие уродились. Мама говорит, что у меня буквально все горит в руках. Я как возьмусь посуду мыть, раз-раз – и готово! Как в цирке!.. Тебе жалко таких матерей, у которых мужик на фронте, а детей нет?
– Мне таких жалко, у которых все ребенки трудоемкие, как наш Валька! Вот это действительно кошмар и ужас!
– По-моему, таким матерям надо помогать. Знаешь, Галька, давай прямо сейчас найдем, где живет семья фронтовика, и будем ей помогать…
– А как же мы их найдем?
– Прямо позвоним в дверь и спросим: «Вы семья фронтовика?»
– А Вальку как же?
– Вальку возьмем с собой. Хочешь помогать семье фронтовика, Валечка?
– Хочу, – говорит Валька и вдруг плаксиво кривит рот: – Я еще чего-то хочу!
Ахнув, девочки отводят Вальку к забору за березу, Потом приводят в порядок его сложный туалет, берут с двух сторон за руки, и вся троица направляется к пятнадцатому подъезду.
Пятнадцатый подъезд выбран интуитивно: почему-то девочкам кажется, что именно там живут те матери, которых надо жалеть и которым надо помогать.
Дети поднимаются на пятый этаж, и Галя Кусихина говорит:
– Давай вот сюда позвоним, сто сорок пятая квартира.
Дверь открывает пожилая женщина в переднике, со строгим лицом. В руках она держит тарелку с дымящейся кашей.
– Что нужно? – сурово говорит женщина.
Растерявшись от этой суровости, Галя выпускает из рук Вальку. Валька тяжело плюхается на пол. Вскрикнув, женщина роняет тарелку с кашей – тарелка разбивается, и начинается нечто невообразимое.
Валька ревет во все горло, хоть он и не ушибся, а только слегка испугался; женщина кричит и ругается, потому что ей жалко каши; а девочки говорят обе вместе – пытаются объяснить пострадавшей свое вторжение в ее квартиру.
– Мы из восьмого подъезда! Вы семья фронтовика?.. Мы пришли вам помогать… Не стесняйтесь, пожалуйста.
– Постеснялись бы сами! – бушует женщина. – Всю кашу мне погубили!.. А ну марш отсюда!
Девочки поднимают ревущего Вальку и быстро бегут вниз по лестнице.
На площадке третьего этажа они останавливаются, и Галя Кусихина говорит:
– Это все из-за Вальки. Ест, ест – вот и стал такой тяжелый, что на руках не удержишь! Да не реви ты, ради бога! Где ты ушибся? Давай я тебя поцелую – все пройдет!
Она целует Вальку, и тот успокаивается.
– С первого раза никогда ничего не получается, – философски заявляет Леля Кальченко. – Давай в эту квартиру позвоним.
– Давай. Звони!..
Леля храбро звонит. Девочки слушают быстрый топот детских ног.
Дверь открывает мальчишка, рыжий как огонь, с лицом бывалого трамвайного «висуна» и любителя подраться.
– Мы из восьмого подъезда! – начинает Леля Кальченко.
– А вот я тебе как дам сейчас по уху, так ты сразу станешь из шестнадцатого! – говорит мальчишка.
– Обожди, – вмешивается Галя. – Мы хотим твоей маме помогать, потому что ты, наверное, очень трудоемкий!
– И тебе как дам сейчас по уху, так ты тоже станешь трудоемкая! – повторяет мальчишка, очень довольный своим остроумием.
– Пойдем, Леля! – сухо говорит Галя. – Это какой-то дурачок, пятачок за пучок.
Мальчишка с хохотом захлопывает дверь. Сконфуженные девочки и Валька спускаются ниже – на площадку второго этажа.
– С двух раз никогда ничего не получается! – говорит Галя Кусихина. – Я сюда позвоню. Хорошо, Леля?
– Звони уж, ладно!..
На этот раз дверь им открывает старик: лысый, сгорбленный, с крючковатым лиловым носом, настоящий Змей Горыныч.
Он подозрительно оглядывает детей и сухо говорит:
– Ну чего вам?..
– Вы семья фронтовика? – сладким голосом спрашивает Леля Кальченко.
– Ну, фронтовика! А тебе чего?
– Мы из восьмого подъезда!.. Мы хотим вам помогать по хозяйству.
– Хлеба нету у меня лишнего. И денег нету.
– Ой, что вы?! – разом говорят обе девочки. – Нам же не надо хлеба! И денег тоже не надо. Мы так!..
– Ну, заходите! – смягчается Змей Горыныч. – Нечего квартиру студить!..
Девочки и Валька входят в переднюю и робко останавливаются.
– Не пойму я, чего вы хотите? – спрашивает старик.
– Хотим вам помогать по хозяйству… Давайте мы вам пока мусорное ведро вынесем! – предлагает Леля Кальченко.
– Ишь ты, какая ловкая! Возьмешь ведро, а потом забросишь куда-нибудь, и ищи-свищи тебя!.. А теперь ведров-то нету нигде.
– Если вы нам не верите, – обижается за подругу Галя Кусихина, – мы вам нашего мальчика оставим в залог. Валька, посидишь с дедушкой, пока мы с Лелей ихнее ведро отнесем на помойку.
Валька кривит рот и без всякой подготовки начинает громко реветь. Во-первых, его пугает перспектива остаться наедине со Змеем Горынычем; во-вторых, он тоже хочет нести ведро на помойку. Девочки принимаются его утешать, и в конце концов вопрос решается так: Галя и Валька понесут на помойку ведро, а Леля будет мыть посуду.
Галя и Валька уходят. Ведро очень тяжелое, и Галя несет его, вся перегнувшись в одну сторону и быстро-быстро семеня спичечными своими ножками.
Валька шагает рядом с ней, толстый и важный, как маленький Будда.
Леля тем временем моет стариковскую посуду. Чашки и тарелки буквально пляшут у нее в руках, как в цирке! И не успевает старик опомниться, как вся посуда уже перемыта, перетерта и поставлена на полку.
В самый разгар этого самодельного субботника отворяется дверь, и в переднюю быстро входит коренастый блондин в черном драповом пальто и помятой серой шляпе. Щеки у него небритые, глаза красные – видно, что он плохо спал и сейчас куда-то очень спешит.
– Папаша, давай есть! – говорит блондин и, заметив детей, удивленно спрашивает: – Это что за гоп-компания?
– Ангелы-помощники! – сообщает старик, улыбаясь во весь свой беззубый рот.
– Мы из восьмого подъезда, – говорят девочки разом.
– От Маруси не было письма? – спрашивает блондин у старика.
– Не было, Васенька! Говорят, с их фронта к Деминым брат приехал. Ты бы зашел, узнал, может, он где видел нашу Марусечку!
Старик уходит на кухню и гремит там тарелками – готовит сыну еду. Галя и Леля растерянно, переглядываются, и Леля, собравшись с духом, спрашивает блондина:
– А вы сами разве… не на фронте?
– Нет, у меня жена на фронте. Она военный врач…
– Значит, вы не семья фронтовика?
– Ну, раз у меня жена на фронте, значит, я – семья фронтовика! – ухмыляется блондин.
Девочки снова переглядываются. На лицах у них написано: «Кажется, мы дали маху!»
Блондин снимает пальто, и Галя первая замечает на борту его пиджака золотую почетную нашивку, означающую, что ее обладатель был тяжело ранен на фронте. Гале становится жалко его, и она говорит:
– А вы… устаете?
– Достается! – смеется блондин. – Вот сейчас поем, и опять на завод. Вторую ночь не спим – срочный фронтовой заказ.
– А вам трудно без женщины?
– Трудновато.
– Мы к вам будем приходить, помогать вашему папе. Мы из восьмого подъезда! Я – Галя, а она – Леля. А это Валька, он мой брат.
– Ну, спасибо, Галя с Лелей. И тебе, Валька, спасибо! Заходите, милости просим!..
– Милости просим! – вежливо повторяет Валька.
Девочки прощаются и уходят. Провожает их старик, Змей Горыныч. Он выходит с ними на площадку лестницы и почему-то шепотом говорит:
– Вы заходите хоть каждый день помогать! Я приму – ничего. Мы с ним аккуратная семья фронтовика, не сомневайтесь.
И сует Вальке кусок сахару.
На лестнице Леля говорит Гале:
– Это даже интересней, что так получилось. Такие замужние мужики на улице не валяются!
– Не валяются! – соглашается Галя. – Мы завтра опять к ним пойдем.
– Обязательно пойдем! Валька, пойдешь завтра с нами к дедушке?
Валька, который ничего не может сказать, потому что во рту у него сахар, важно кивает головой в знак своего принципиального согласия.








