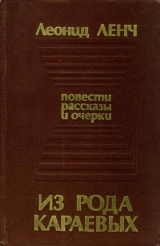
Текст книги "Из рода Караевых"
Автор книги: Леонид Ленч
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
ВАСЬКА ИЗ УЖОВКИ
Они оба были блондины: обер-лейтенант Вильгельм Хайн из Лейпцига и Васька Сухов, девяти лет, из орловской деревни Ужовка.
Только у обер-лейтенанта волосы были аккуратно и красиво подстрижены по бокам и сзади, а у Васьки висели льняными космами, сплетаясь на затылке в смешные косички, ибо стригли Ваську Сухова из деревни Ужовка три раза в году: под Первое мая, на Октябрьскую революцию и на первое января, в день Василия Великого. В этот день Ваську стригла бабка: она была верующая.
Глаза у обер-лейтенанта Вильгельма Хайна из Лейпцига и у Васьки Сухова из деревни Ужовка тоже были одного цвета – голубые.
Только у обер-лейтенанта они были мутные, тяжелые, ко всему привычные и все повидавшие, а Васькины девятилетние глаза ярко и чисто сияли нетронутой бирюзой.
Еще надо сказать, что и обер-лейтенант Вильгельм Хайн из Лейпцига и Васька Сухов из деревни Ужовка – оба были зенитчики. Только обер-лейтенант был командиром батареи, и его орудия – длиннотелые, злые – стояли на колхозных огородах, охраняя штаб немецкой части, занимавшей деревню Ужовку. А Ваську Сухова «зенитчиком» прозвали ребята.
Прозвище свое Васька получил так. Летом, в начале войны, появился над Ужовкой первый «юнкерс». Васька брал воду из колодца и вдруг услышал грозный вой моторов и крики: «Немец летит! Немец!»
Васька поднял голову и увидел черную машину, распластавшую над Ужовкой свои зловещие крылья. Люди разбегались, прятались в погреба, ожидая, что немец начнет бросать бомбы. А Васька машинально продолжал тащить из колодца ведро с водой.
И тут случилось неожиданное: то ли немецкий летчик действительно принял поднимающийся хобот колодезного журавля за ствол зенитной пушки, то ли по другой какой причине, только «юнкерс» вдруг круто развернулся и пошел на запад. С того дня и стали ужовские ребята называть Ваську Сухова «зенитчиком».
Познакомились обер-лейтенант Вильгельм Хайн и Васька Сухов зимой.
Обер-лейтенант зашел в избу Суховых весь запорошенный снегом и устало сел на лавку в угол.
Мать Васьки, с лицом скорбным и черным, стояла у печки и с ужасом глядела на гостя. А немец озябшими, одеревеневшими пальцами с трудом опустил поднятый воротник шинели и, щурясь от блаженного тепла повелительно сказал ей, смешно коверкая слова:
– Всему изба – стирка! Я буду тут проживайть! Сама – вон, прочь!..
Мать заплакала, запричитала:
– Куда же я с малым-то на мороз?..
Офицер посмотрел на Ваську, таращившего на него с печки бирюзовые глаза, и вдруг сказал:
– Карашо! Можете проживать в этот место.
И показал на угол за печкой. А сам небрежно смахнул на пол с лавки Васькино добро. Васька бросился спасать свою главную ценность – роскошный двухтрубный крейсер, собственноручно выточенный им из березового полена, – но было уже поздно: мачты и трубы сломались при падении. Васька поднял разбитый корабль, прижал к себе, волчонком посмотрел на офицера. А тот, увидев на корме пострадавшего крейсера красный флажок с гербом Союза, усмехнулся, сказал что-то по-немецки. Не успел Васька опомниться, как офицер быстро сорвал флажок, разорвал, бросил на пол алые лепестки кумача, подмигнул Ваське и вышел.
Мать стала мыть полы и лавки.
Васька сказал ей по-взрослому, басом:
– Ты не очень старайся-то!
Мать заплакала и сказала Ваське жалобно, словно оправдываясь:
– Не по доброй воле я стараюсь, Васенька. Он ведь с оружием. Застрелит нас с тобой!
Вечером у колодца женщины говорили о немцах. Соседка Суховых – Пелагея Второва, чернявая, худая, как доска, – жаловалась на какого-то немецкого солдата с отмороженным носом:
– Нос свой помороженный всюду сует. Увидел крыночку: «Давай млеко». Хохлатку мою рябенькую поймал, приказал зарезать, сварить. Полотенце забрал, матушкой вышитое, – приданое мое. Воды велел себе скипятить. Я скипятила, а он выгнал нас из хаты и баниться стал. А вшей, бабочки, на нем, на проклятом, – так и сыплются!.. Я зашла в избу, он сидит голый, моется. Я ему говорю: «Вы бы в баню пошли, чем в хате-то лить!» А он меня – кипятком из шайки! И регочет, как жеребец… Хотела я его сама ошпарить, насилу удержалась.
Другие женщины тоже ругали немцев эа разбей и нахальство, а мать сказала:
– А к нам хорошего немца поставили, на счастье мое вдовье!.. Ваську моего пожалел, не погнал на мороз. Добрый!..
И, вспыхнув, опять по-взрослому, по-отцовски, прикрикнул на мать Васька:
– Добрый!.. Вот я на него Пирата натравлю – будет знать, как крейсера ломать!..
…Падал снег, поднимаясь сугробами у заборов; скрипел в мороз под валенками тугим, вкусным скрипом. Зима была суровая, злая, с вьюгами и метелями. Печально чернели ужовские избы под тусклыми, беспросветными небесами. Деревня казалась мертвой. Тишина. Только изредка каркнут, перекликаясь по-своему, немецкие часовые, приплясывающие на ветру от холода в своих низких, подбитых тяжелыми гвоздями сапогах, да пройдет куда-то, по-волчьи озираясь по сторонам, назначенный немцами старостой Федот Куприянов, что вернулся перед самой войной из орловской тюрьмы, где отбывал срок за кражу колхозного посевного зерна.
В избе у Пелагеи Второвой шептались бабы:
– В Михайловке, говорят, немцы пятерых ни за что ни про что убили. Партизаны их пощипали – они и озверели. Ох, не оставят они и нас в живых, бабочки!..
– Один солдат немецкий говорил: «Вы теперь будете называться полунемцы. А ребята ваши, говорит, и язык-то свой русский забудут!..» Страсти!..
Васька (он был здесь) сказал, дерзко сверкнув бирюзой глаз:
– А я в лес убегу!.. А язык их я уже и так весь знаю! «Гут» – хорошо, «я» – да, «нихт» – не…
Васька хотел было еще похвастаться перед женщинами, какие он знает немецкие слова, но тут отворилась дверь и в избу ввалился Ванька Второв, сын Пелагеи, мальчонка чуть постарше Васьки. Был он без шапки, дышал тяжело, в глазах стоял невыплаканный ужас…
– Немцы дядю Прохора убили! – сказал Ванька Второв и вдруг тонко заскулил. – Его Куприянов арестовал, дядю Прохора. Повел в штаб. Потом часовой его вывел из штаба, а я схоронился за сараем – все видал. Дядя Прохор говорит: «Туда?» И показывает на сарай. А немец как вскинет автомат, как ударит… Дядя Прохор сразу упал. А кровища хлещет из виска у него… Я как закричу… Немец на меня. Я заплакал и убежал. Шапку потерял…
И Ванька Второв затрясся мелкой дрожью. Васька выскочил на улицу.
…У сарая, за штабом, хмуро толпились люди. Молча смотрели они на своего односельчанина, лежавшего лицом вниз на снегу, побуревшем, ноздреватом от впитавшейся крови. Две женщины держали под руки Матрену – жену Прохора. Она тоже молчала, глаза у нее были неподвижные. Молчал и немецкий часовой с каменно-равнодушным лицом (он не позволял взять тело расстрелянного), и только Васькин Пират – косматый желтый пес, сидевший на снегу напротив трупа, – тоскливо и настойчиво выл, подняв к низкому темному небу оскаленную добрую морду.
Невыносим был этот собачий вой для тяжело молчавших людей. Ваське показалось, будто ледяной ветер прошелся по его волосам, подняв шапку. Он хотел убежать и не мог: ноги стали чугунно-тяжелыми. А собака все выла и выла, и тогда часовой, зябко передернув плечами, вдруг вскинул автомат и, не целясь, разрядил его прямо в воющую собачью пасть.
Люди с криком шарахнулись прочь. Из штаба на крыльцо вышел другой солдат, посмотрел на околевавшую собаку, ухмыльнулся, что-то сказал часовому и вдруг, громко топоча сапогами по обледенелым ступенькам крыльца, быстро сбежал вниз и деловито стащил валенки с ног расстрелянного Прохора.
Васька громко заплакал и побежал домой.
В этот день обер-лейтенант Вильгельм Хайн получил письмо из Лейпцига, от жены. Письмо было наивное и грустное – оно растрогало обер-лейтенанта. К письму была приложена фотография: жена снялась с сыном. Маленький Отто Хайн сидел на коленях у матери. В руках он держал игрушечную пушку. Обер-лейтенант улыбнулся: маленькая пушка была точной копией его зенитки. Отлично делают детские игрушки в городе Лейпциге!
Обер-лейтенант выпил лишний стаканчик французского коньяку. Ах, черт бы побрал эти печальные русские снега, эту проклятую стужу, эту огромную, непонятную, могучую страну, которую он, Вильгельм Хайн, должен завоевать и сделать покорной! Обер-лейтенант выпил еще коньяку.
А эти русские мужики! Что у них на душе? О чем думает, например, эта баба – его квартирная хозяйка? Она кажется тихой и рабски покорной, а может быть, она связана с партизанами, скрывающимися в лесах? А, все ерунда!.. Их надо дрессировать, как животных. Да, как животных! А дрессировщик должен уметь владеть не только бичом: он подчиняет себе животное и лаской.
– Комм гер, – сказал обер-лейтенант матери, утешавшей в своем уголку за печкой хныкавшего Ваську. – Поди сюда!..
Мать подошла, поклонилась.
Вильгельм Хайн показал ей фотографию жены и сына.
– Фрау Хайн, – сказал он ласково, – жена. Это мальчик. Майн зон.
– Красивенькие! – сказала мать.
Васька выглянул из-за печки. Обер-лейтенант увидел его, поманил пальцем, улыбнулся.
– Ди клайне анималь[13]13
Маленькое животное (от нем. die kleine Animal).
[Закрыть], – обратился он к Ваське. – Комм гер. Поди сюда!..
Васька спрятался. Мать сказала строго:
– Иди, когда зовут!
Васька вышел из-за печки, остановился в двух шагах от обер-лейтенанта. Стоял, опустив нечесаную белую голову, рассматривая носки своих огромных заплатанных валенок.
Обер-лейтенант отломил от шоколадной плитки кусочек, протянул мальчику, сказал ласково:
– О, ти бравый парень есть!.. Будем з тобой учить немецкий язык? Да?..
Васька молчал.
– Говори: германский зольдат ист гут! Германский зольдат карош! Дам шоколад!
Васька молчал.
– Робеет, – сказала мать.
– Говори, – ласково повторил обер-лейтенант. – Шоколад карош!..
Васька поднял голову, И обер-лейтенант даже вздрогнул: такая жгучая, недетская, ничего не прощающая ненависть поглядела на него из глубины потемневших бирюзовых девятилетних глаз.
– Германский солдат нихт гут! – звонко выкрикнул Васька.
Обер-лейтенант сдвинул брови.
Мать побледнела.
– Что с тобой, Васенька?!
– За этот слова я буду тебя наказывать! – сказал обер-лейтенант. – На час на мороз!.. Это есть штраф.
Он встал, взял Ваську за шиворот, как котенка, пинком ноги открыл дверь и, выйдя на крыльцо, выбросил Ваську прямо в сугроб. Потом он вернулся в избу и сел на лавку. Мать метнулась за печку, схватила Васькин полушубок.
– Не замера бы! – сказала она жалобно. Обер-лейтенант остановил ее движением руки, вышел на крыльцо, крикнул в пустоту:
– Час прошель. Марш домой!..
И вернулся в избу. Следом за ним шмыгнул за печку и Васька. Тогда обер-лейтенант опять взял кусочек шоколаду (дрессировщик должен быть настойчивым!), позвал Ваську:
– Комм гер!
Снова нехотя вышел Васька из-за печки, встал, опустив голову.
– Германский зольдат ист гут! – сказал Вильгельм Хайн. – Говори! Дам шоколад!..
И снова, обжигая немца пламенем озорной ненависти, ответил Васька:
– Германский солдат нихт гут!
Обер-лейтенант побагровел.
– Два часа на мороз! – сказал он и, больна ущипнув твердыми пальцами Васькино ухо, снова выволок мальчика на крыльцо, столкнув в сугроб.
На этом дрессировка Васьки прервалась: за обер-лейтенантом пришел солдат с отмороженным носом, Вильгельм Хайн оделся и куда-то ушел.
Два дня Васька старался не попадаться на глаза обер-лейтенанту, а на третий не угадал и попался. Обер-лейтенант грозно кивнул Ваське, сказал:
– Говори: германский зольдат ист гут!.. Я жду!..
– Германский солдат нихт гут! – отчаянно выкрикнул Васька и, не ожидая наказания, бросился к двери. Обер-лейтенант выскочил следом за ним, но Васька, в одной рубашке, без шапки, уже перелезал через забор во двор ко Второвым.
Вильгельма Хайна стал серьезно занимать этот странный поединок: неужели он не подчинит своей воле этого маленького звереныша, не приручит, не сделает его комнатной собачонкой? Положительно становится забавной эта дрессировка!.. Но тут произошли события, которые отвлекли внимание обер-лейтенанта Вильгельма Хайна от скромной личности Васьки Сухова из деревни Ужовка.
Фронт германской армии на этом участке был прорван. Советские войска хлынули в образовавшуюся брешь.
Таким стремительным и неудержимым оказался удар советской гвардейской дивизии, продвигавшейся на лыжах прямо по снежной целине через леса и кустарники Орловщины, что немцы не успели даже спалить Ужовку.
Однажды утром ужовцы услышали стук пулеметов, орудийные залпы, трескотню автоматов.
Жители залезли в погреба, дрожали от холода и страха, слушая грозные звуки боя. Васька вместе с матерью тоже сидел в погребе. Мать крестилась при каждом выстреле, повторяя бабкино:
– Спаси и помилуй!
Вдруг стрельба стихла. Не успела мать опомниться, как Васька вырвался из ее рук и выскочил из погреба на волю.
После темноты погреба ослепительно ярко – так, что у Васьки сразу заломило в глазах и захватило дух, – сияло веселое зимнее солнце. Снег сверкал миллионами алмазов. Таким радостным было это январское утро, что Ваське захотелось кричать во все горло. Но сразу снова захлопали, затрещали выстрелы. Васька увидел немецких солдат; они бежали, согнувшись, вдоль заборов. Иногда они останавливались, оборачивались и стреляли из автоматов. И вдруг Васька увидел обер-лейтенанта Вильгельма Хайна. Он тоже бежал, пригнувшись, и держал в правой руке большой черный пистолет.
Дерзкая радость охватила все существо Васьки Сухова.
– Немецкий солдат нихт гут! – закричал, завизжал от восторга Васька, приплясывая на снегу. – Немецкий солдат нихт гут!..
Обер-лейтенант остановился, оглянулся, увидел Ваську, выкрикнул что-то сердитое, поднял руку с пистолетом и выстрелил.
Ваське показалось, будто кто-то со страшной силой толкнул его раскаленной кочергой в плечо. Он упал и потерял сознание.
Очнулся Васька, когда его подняли чьи-то сильные руки. Он решил, что это немец схватил его и сейчас бросит в сугроб, и он прохрипел, не открыв глаз, с той же непримиримой, отчаянной ненавистью:
– Немецкий солдат нихт гут!
И вдруг услышал незнакомый ласковый русский голос:
– Правильно, малый: нихт!..
Васька открыл глаза и увидел незнакомое доброе лицо с рыжеватыми длинными усами, три кубика на петлицах серой шипели.
Ласковый голос сказал кому-то рядом:
– На перевязочный мальчонку. Поранили!..
Васька прижался носом к серой шинели – она пахла табаком и еще чем-то родным, отцовским – и заплакал от острой, нестерпимой боли в правом плече.
АРБУЗ
1
Было это летом 1942 года. Жара стояла такая, что казалось, будто с белесого неба льются на землю потоки прозрачного расплавленного чуть курящегося стекла. Санитарный поезд тащился медленно, потому что впереди весь путь был забит эвакуирующимися составами.
На площадке вагона санитарного поезда, чудом не попавшего под прямую бомбежку фашистских самолетов, сидели в одном белье раненые – солидный, рыжеусый старшина-сапер Макар Иванович Бурачков, в прошлом десятник с крупной стройки, и его приятель по ессентукскому госпиталю (койки их стояли рядом) черноморский моряк Леша Клименко.
Друзья сидели молча, изредка вытирая соленый, горячий пот рукавами бязевых солдатских рубах. Говорить ни о чем не хотелось.
Всего лишь несколько дней назад мирно разгуливали они в серых госпитальных халатах по парку прославленного курорта. Наполнив жестяные кружки пузырящейся теплой, попахивающей сероводородом ессентукской водой, подшучивали:
– Вот это напиток так напиток! За твое здоровье, Леша!
– Спасибо, Макар Иванович! За ваше! Дай бог нам весь век ничего другого не пить!..
– Тьфу! Чтоб тебе, Лешка, подавиться этим приятным пожеланием!..
И вдруг все полетело кувырком. Возвращались как-то друзья после прогулки к себе в госпиталь и увидели, нет, почувствовали, что в городе случилась беда. Забегали люди, захлопали ставни и калитки, где-то во дворе надсадно, громко заплакал ребенок. Макар Иванович и Леша переглянулись и, не сговариваясь, ускорили шаг.
У подъезда госпиталя, в саду, на них налетела Любочка, дежурная сестра. Бледная, наспех подкрашенные пухлые губки сжаты, в голубых с фиалковым отливом девчоночьих глазах дерзкая, отчаянная решимость. Машет выгоревшей пилоткой, кричит издали:
– Опять вы в самоволке?! Идите скорей к начхозу, берите обмундирование. Госпиталь эвакуируют!
– Почему, Любочка? Куда?!
– Ничего не слыхали?! Фашисты взяли Ростов, вырвались на оперативный простор! – Любочка произнесла эту газетно-штабную фразу со странным, не к месту, кокетством. – Ихние танки на марше и, свободное дело, могут нагрянуть к нам в Ессентуки. Мы эвакуируемся пока походным порядком, только под тяжелых дают автотранспорт, а такие, как вы, и персонал идут пешком. Скорей собирайтесь!
Она убежала. Леша посмотрел на Макара Ивановича и выругался.
– Ругаться-то сейчас, матрос, пожалуй что, и ни к чему! – с обычной своей строгостью сказал Макар Иванович. – Не стоит, брат, ругаться, когда…
И, не закончив фразы, вдруг сам загнул такое, что Леша даже вздрогнул: он раньше не слышал от рассудительного старшины подобных словечек.
В походной колонне госпиталя Макар Иванович и Леша пешком дошли до самого Нальчика. Проходили через притихшие, нахмуренные казачьи хутора. Степенные статные казачки стояли у своих белых, чистых мазанок, многие плакали, глядя, как тяжело шагают по мягкой дороге за единственной двуколкой с флагом Красного Креста черные от пыли солдаты без оружия, в бинтах и повязках. А в каком-то глухом хуторе навстречу колонне раненых вышла древняя старуха, вся в черном, по-тополиному прямая, с длинной сучковатой палкой в руке. Гордым, каким-то царственным жестом она взмахнула своим библейским посохом, звонко, по-молодому закричала, почти завизжала:
– Вертай назад, служивые, не пущу дальше! Воевать идите! Идите воевать, сукины дети!..
– Мы, бабка, отвоевались! – за всех ответил ей солдат с забинтованной толовой. – Пропусти уж, пожалуйста! Не серчай!
– Не пущу! – бесновалась старуха, продолжая размахивать палкой. – Сами небось уходите, а нас нехай турок, басурман, матери его сто чертей, всех изничтожит?! Под корень пустит все племя?! Не пущу!..
Из калитки выскочила растрепанная девочка лет четырнадцати, босая, с испуганным зареванным лицом, повисла на грозящей старушечьей руке, залепетала:
– Нехорошо, бабушка!.. Идемте!.. Ой, стыдно-то как!
Когда раненые вышли из хутора на степной грейдер, Макар Иванович сказал Леше:
– Старуха эта хоть и тронутая, однако слова у нее, скажу тебе, как осы…
В Нальчике раненых погрузили в санитарный поезд и повезли в глубь Кавказа по магистрали, которую уже бомбил бешено наступавший противник.
2
– Разор! – сказал наконец Макар Иванович и тяжело вздохнул.
Леша не ответил. Поезд шел так тихо, что не вызывал ветра. По обеим сторонам пути стояли густые фруктовые сады, лежали бахчи. Видно было, что богато живут колхозники среди всей этой благодати.
– Людей жалко! – помолчав, прибавил старшина. – Все добро бросили, с малыми ребятами едут в глубокий тыл спасаться. А куда едут? Что их там ждет? А фашист прет и прет!
И опять Леша ничего не ответил, потому что знал больное место Макара Ивановича. С самого начала войны старшина не имел никаких известий от жены и дочери. Они жили в Таганроге, а Макар Иванович еще в 1938 году попал на большое строительство в Белоруссию, жил один, в Таганроге бывал наездами. Там, в Белоруссии, его и прихватила война.
…Показалось селение. Опять медленно поплыли навстречу поезду зеленые сады, а среди них белые домики. Поезд пошел еще тише. На высокой насыпи толпились дети и женщины. Легкие платья, цветные майки, белые платочки на головах, босые ноги, сильные, загорелые открытые руки… Женщины что-то кричали, дети размахивали полотняными школьными сумками, соломенными кошелками, обшитыми тряпьем. «Защитники наши!.. Родимые!..» – услышал Леша.
– Что у вас в сумках-то? – крикнул он, улыбаясь, женщинам.
– Фрукты! – с готовностью выкрикнула в ответ пожилая высокая, очень худая женщина в линялой майке и сейчас же бросила Леше свою сумку. Моряк ловко, словно конец каната, поймал ее на лету. Стоявшая рядом с женщиной девушка-подросток, босоногая, золотоволосая, с чуть наметившейся грудью, крикнула Макару Ивановичу:
– Ловите, товарищ!..
Подняв над головой большой темно-зеленый арбуз, она кинула его на площадку вагона точным броском бывалой баскетболистки.
Макар Иванович растопырил руки, но сплоховал, не поймал и от возбуждения чуть было не свалился с подножки. Леша удержал его, ухватив сзади за воротник рубашки.
Ударившись о ступеньку, арбуз сочно треснул и разлетелся на куски. Спелые семечки брызнули черным фонтанчиком, а один арбузный осколок, подскочив, стукнул Лешу по лбу.
– Но это уж последнее дело, когда свои своих кавунами бомбят! – усмехнулся моряк, поднимаясь и стряхивая ладонью арбузный сок со лба.
Макар Иванович не ответил ему. С вожделением глядел он на темно-розовые куски арбузной мякоти, валявшиеся на шпалах второго пути.
Поезд остановился. Теперь бахча подобралась почти вплотную к рельсам. Арбузы – большие, манящие, такие же аппетитно темно-зеленые, как и тот, который разбился о подножку вагона, лежали на земле, и их было много.
– А, ей-богу, я сейчас соскочу и сам сорву один кавун! – произнес Макар Иванович, облизнув запекшиеся, в трещинах губы. – Смерть как пить охота!
– Не надо, Макар Иванович! – солидно сказал Леша. – За вами другой соскочит, за ним – третий. Тем более что знают ваше звание. Всю бахчу оборвут! Нехорошо получится! Не надо!
– Кто теперь с этим считается?!
И Макар Иванович, подтянув подштанники, с удивившей Лешу резвостью соскочил с подножки на землю.
Пригнувшись, словно при атаке, старшина побежал к бахче. Леша последовал за ним, тоже пригибаясь. Однако женщины из селения заметили их маневр, и та золотоволосая, босая девушка, что кинула им арбуз, первая бросилась к бахче с отчаянным криком, размахивая длинной палкой.
Не обращая на нее никакого внимания, Макар Иванович бродил по полю, выбирал себе кавун. Он наклонился и уже нащупал один, когда девушка оказалась рядом.
– Как вам не стыдно, товарищ! – сыпала она скороговоркой, и ноздри ее маленького, покрытого темно-рыжими веснушками носа яростно раздувались. – А еще пожилой человек! И считаете себя, наверное, сознательным. Нельзя брать самому. Оставьте, товарищ!..
Не отвечая ей, Макар Иванович все щупал и мял облюбованный арбуз.
– Оставьте, вам говорят! – выкрикнула девушка, чуть не плача.
Но Макар Иванович все-таки сорвал кавун, и лишь тогда, обернувшись, увидел молодое, потемневшее от гнева лицо. Что-то было в этом лице такое, от чего Макар Иванович смутился, густо покраснел и положил арбуз на землю. А девушка продолжала бессвязно, страстно и громко говорить:
– Это колхозное добро… для всех… Мы все это армии отдадим… А если каждый товарищ будет своевольничать…
Подошла пожилая женщина в линялой голубой майке, сказала: «Что случилось, Надя?!» – но вдруг, пристально посмотрев на смущенного Макара Ивановича, глухо вскрикнула и, обхватив его за шею жилистыми, почти черными от загара руками, стала целовать в красные от нерастаявшего стыда щеки, в рыжие усы, в потный лоб, в глаза. Она целовала его короткими, крепкими, болезненными, как клевки, поцелуями и, не то смеясь, не то плача, говорила, задыхаясь:
– Вот встреча-то, господи!.. Надя, смотри, ведь это отец твой!.. Усы отрастил! Господи, ведь и не узнаешь сразу!..
Золотоволосая девушка выронила из рук свою палку и громко, совсем по-детски заплакала.
Когда подошел Леша, она стояла, спрятав лицо на груди отца, и повторяла:
– Прости, папочка, что я тебя… что я тебе…
И, не договаривая, снова принималась плакать в голос. А Макар Иванович гладил ее по голове большой, натруженной, жесткой рукой.
Нежным движением он оторвал наконец от своей груди голову дочери и сказал, показав ей на улыбающегося Лешу:
– Познакомься-ка лучше с дружком моим. Тоже из нашего госпиталя! Жених первой статьи! Смотри, матрос, какая интересная история получилась из-за этого кавуна, пропади он пропадом! Семью встретил!
Леша пожал руку Наде и Варваре Павловне, рисуясь, сказал с несколько высокопарной пышностью – это уже специально для Нади, для ее наивных и жарких глаз:
– Недаром говорится, что война – это лотерея судьбы! Кому счастливый билет достанется, кому – пустышка!
Варвара Павловна – грудь ее распирала жгучая и сладкая боль неожиданного счастья – спросила мужа:
– Очень больно тебя ранило, Макарушка?
– Поправлюсь! – ответил Макар Иванович. – Скоро домой!
Надя всплеснула руками:
– Ой, папочка, к нам?!
– К себе, в свою воинскую часть, дочка! – наставительно и строго ответил ей старшина и уже по-командирски коротко бросил Леше Клименко: – За поездом поглядывай!
Варвара Павловна стала рассказывать, как они с Надей уезжали из Таганрога.
– Помнишь Елизавету Васильевну? Из горкома партии? Такая оказалась сердечная женщина, дай ей бог здоровья! Это она нас с Надюшкой в эшелон устроила. Все, конечно, пришлось бросить, Макарушка, очень уж поспешно уезжали!
– А швейную машину мама все-таки взяла с собой! – сказала Надя с гордостью. – Ох, и помучились мы, папочка, с ней в дороге! Тяжеленная!..
– Ничего! – подхватила Варвара Павловна. – Зато теперь она меня выручает. Я тут всех обшиваю в колхозе. Люди здесь хорошие живут, жалеют нас, ты за меня и Надежду не беспокойся, Макарушка. – Одергивая свою линялую майку, она повторила: – Не беспокойся, хорошо живем. Надюшка-то как выросла, видишь! Настоящей колхозницей стала, трудодни получает в бахчевой бригаде.
Она говорила это, не отрывая светлых от непролившихся слез, влажно сияющих глаз от лица мужа, и в глубине этих глаз Макар Иванович читал вопрос, который жена хотела задать ему, но не решалась. Задала его появившаяся на поле полная пожилая женщина в белом платке, в темной ситцевой кофте навыпуск. Под мышками она держала два больших арбуза. Она отдала Леше арбузы и сказала требовательно:
– Ну как, солдаты, одолеем врага? Дальше-то не пустим?
И Макар Иванович, взглянув на сразу подобравшегося Лешу, выдержал требовательный взгляд женщины и ответил так же твердо и просто:
– Одолеем, не сомневайтесь!
…Ночью он не спал. Сидел в тамбуре на верхней ступеньке вагона, смотрел на звездную россыпь в черном небе, думал. Поезд шел ходко. Ветер уже доносил каспийскую прохладу. Тяжело было на душе у Макара Ивановича, и он, чтобы не застонать от душевной муки, так крепко прикусил губу, что брызнула кровь.
Кровь текла у него по подбородку, а он сидел один в несущейся ему навстречу ночной грохочущей тьме и не чувствовал боли.
Из вагона в тамбур вышел Леша Клименко. Постоял, помолчал, потом спросил:
– Не спите, Макар Иванович, все думаете? – Громко и сладко зевнув, прибавил: – Скушайте арбузика – легче будет, ей-ей!
Он сел рядом с Макаром Ивановичем, и тот все так же молча взял у моряка скибку и стал есть. Но во рту у него еще была кровь от прикушенной губы, и сладость арбузного сока не заглушала соленого, резкого кровяного вкуса…








