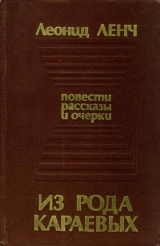
Текст книги "Из рода Караевых"
Автор книги: Леонид Ленч
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
ЧИСТАЯ ДУША
У Ляли Крылышкиной, начинающей эстрадной артистки, выступавшей в госпиталях и учреждениях с чтением басен Крылова, была одна заветная мечта: поехать с бригадой на фронт.
Часто, торопясь на концерт, Ляля тряслась на площадке московского трамвая, смотрела в окно и видела… заснеженный лес, землянки, бойцов с автоматами и себя, в полушубке и ушанке с красноармейской звездой, читающую пламенные и прекрасные стихи. И вдруг неожиданно начинается бой. И Лялю Крылышкину убивают… Нет, лучше ранят! И вот ее приносят в госпиталь на носилках, и красивый генерал, который слушал ее на концерте, говорит:
– Гражданка, вы здесь выходите или не выходите?! Дайте другим сойти!..
Ляля открывала глаза и вместо красивого генерала видела синюю от злости трамвайную ведьму с облезлой авоськой в руках!..
Попробовала Ляля поговорить о поездке на фронт с заведующей кадрами большого и очень шумного учреждения, которое ведало артистами, выступающими на концертах, но потерпела полное фиаско.
Заведующая кадрами Клара Людвиговна, крупная бледная дама, похожая на толстую белую цирковую лошадь, скептически поглядела на покрасневший от волнения Лялин нос и сказала:
– Там с героическим репертуаром надо выступать, милочка, а у вас… басенки!
– Я приготовлю что-нибудь актуально-героическое, Клара Людвиговна! Басня для меня пройденный этап…
– У вас наружность лирико-комическая, милочка! А по линии лирико-комической у нас бригады уже укомплектованы.
Неизвестно, осуществилась ли бы Лялина мечта, если бы неожиданно на басни Крылова не обратил внимания Аркадий Порейский – злободневные куплеты под саксофон.
Аркадий Порейский был немолод, лыс, но бодр, носил клетчатые бриджи и краги и говорил про себя, что он старый фронтовик.
Ляля часто слушала, как он на лестнице рассказывал актерам о своих фронтовых приключениях.
– Хотите – верьте, хотите – нет, – говорил, бывало, Порейский, – но меня немцы персонально бомбят на фронте. Честное слово!.. Куда ни поеду, обязательно попадаю под бомбежку. Вот как-то приехал я к летчикам. Только начал свое знаменитое: «Однажды фриц затеял блиц, та-рам, пам-пам, та-рам, пам-пам!», как сверху начинается та-рам, пам-пам, та-рам, пам-пам!.. Тогда один капитан не выдержал, встает и говорит: «Извините, товарищ Порейский, одну минутку!» Садится в истребитель, поднимается в воздух, заходит немцу в хвост и как даст ему та-рам, пам-пам! Немец выбросился с парашютом, и его взяли в плен. Приводят в наш блиндаж. Допрос тут же. Немец говорит: «Нам известно, что у вас выступает с огромным успехом один ваш знаменитый артист, командование поручило мне его разбомбить». Капитан говорит: «Вот он, можете его послушать». Ну, я тут и рванул: «Однажды фриц затеял блиц, та-рам, пам-пам, та-рам, пам-пам…» Немца моего так и перекосило!
Вот к Порейскому-то Ляля Крылышкина, набравшись смелости, и обратилась с просьбой взять ее с собой на фронт. Порейский спросил:
– Вы, кажется, басни читаете, деточка?
– Басни для меня пройденный этап, Аркадий Осипович. Я могу и героическое!..
– Зачем же? Басни – это хорошо! Я как-то слушал, вы очень мило рычали, изображая волка. Это смешно… Я вас возьму, мы поедем втроем: я, певица Зарайская и вы! На фронт едем послезавтра. Собирайтесь!
Два дня Ляля жила как во сне. Бегала по знакомым, прощалась, достала себе ватные стеганые штаны и шикарную ушанку.
Машина выехала на ледяное, остро блестевшее шоссе уже под вечер. Вот патруль в последний раз проверил документы, шофер дал газ, и Ляля Крылышкина помчалась на фронт.
Утомленная переживаниями, она незаметно для себя уснула и проснулась только тогда, когда Порейский тронул ее за плечо и сказал:
– Приехали, деточка! Вылезайте!
– Уже… фронт?!
– А как же!
Через полчаса Ляля уже стояла на самодельной эстраде в холодном сарае и читала своего коронного «Волка на псарне». Читала она хорошо, а когда зарычала, изображая «серого приятеля», в зале дружно захлопали.
Потом, содрогаясь могучим бюстом и закатывая глаза, Зарайская спела несколько цыганских романсов. И наконец, дуя в саксофон, подмигивая и приплясывая, на эстраду выскочил Порейский и лихо затянул свое «Однажды фриц затеял блиц, та-рам, пам-пам, та-рам, пам-пам!..»
Потом они втроем вышли раскланиваться, и Лялю удивило, что бойцы, сидевшие на длинных скамейках в «зрительном зале», в подавляющем большинстве были почтенные, пожилые люди.
Пришел какой-то военный в полушубке и повел артистов ужинать. За ужином Ляля пыталась узнать у Порейского, где, собственно говоря, они находятся, но он, поглощенный едой, только мотал головой, а в конце концов даже рассердился и сказал:
– Не мешайте мне кушать, деточка! Я не могу разговаривать, когда кушаю.
После он куда-то убежал, а Лялю с Зарайской отвели в маленькую чистенькую комнатку, где стояли две кровати.
Ляля накинула шубку и ощупью вышла во двор. Было морозно, зловеще тихо и звездно. Ни выстрелов, ни гула канонады. От этой тишины Ляле стало не по себе. Вдруг она услышала какой-то странный, воющий звук. Он возник и сразу прекратился… Ляле стало немножко страшно, но страх этот был ей приятен. Вот она, долгожданная ночь на фронте!..
На крыльце появился знакомый военный в полушубке и кашлянул. И сейчас же издалека опять донесся воющий звук.
– Скажите, это мина? – робко спросила Ляля.
– Мина, – сказал военный, улыбаясь.
– Ваша или их?..
– Наша.
– Почему не слышно разрывов?
– Я вас не понимаю! – сказал военный и прибавил: – Вот ведь паршивая какая собака: спать вам не дает. – И грозно закричал в темноту: – Мина, замолчать!..
Воющий звук сразу же оборвался.
– Скажите, а эти… немецкие блиндажи далеко от нас?..
– Вы же в пятнадцати километрах от Москвы, товарищ артистка. На продскладах… Постойте, куда же вы?..
А через неделю на лестнице, где собирались артисты, Ляля услышала, как Порейский рассказывал о своей последней поездке на фронт.
– Мы ехали через еще не обезвреженные минные поля, – говорил он, энергично жестикулируя, – кругом все так и воет, так и рвется. А мы едем!.. – Он оглянулся, увидел Лялю, закашлялся, сделал вид, что не заметил ее, и неожиданно закончил: – Девочка эта, Крылышкина, отлично держалась, молодцом!
– Зачем вы врете, – сказала Ляля тихо, но твердо, – про минные поля? И вообще!.. Вы врун! Врун!
Порейский побагровел, глаза у него полезли на лоб.
– Я не позволю! – заквакал он. – Я старый фронтовик!..
А еще через две недели Ляля Крылышкина ехала в грузовике по снежной дороге. Вдали, на западе, глухо гремели артиллерийские залпы. Рядом с Лялей сидел их бригадир, молодой певец с симпатичным лицом, и под аккомпанемент далекой канонады напевал:
Невольно к этим грустным берегам
Меня влечет неведомая сила!..
Ляле было тревожно и радостно, потому что на этот раз кругом все было настоящее: и фронт и люди, окружавшие ее.
Она вспомнила Порейского, вой Мины, свою наивность, засмеялась и сказала певцу:
– Знаете, Миша, если в жизни вы чего-нибудь очень хотите, то все так и случится, как вы этого хотите… Надо только очень сильно желать! Правда?
ЕГОР ИВАНОВИЧ И ГЕРАКЛИТ
До войны в этом маленьком зеленом городе, затерявшемся среди сказочных дремучих лесов, люди жили тихо, сытно и неторопливо.
Жителям известны были увлечения, страстишки и привычки каждого более или менее заметного человека.
Вот, например, Егор Иванович Чумаков, директор городской бани, – про него известно было, что он на старости лет увлекся философией, стал читать сочинения мыслителей древности и раскритиковал всех великих греков – от Гераклита до Аристотеля включительно.
– Не по существу писали древние греки, – говорил Егор Иванович. – На сегодняшний день их мысли суть мираж и фантазия.
Что касается председателя городского совета товарища Ладушкина, то он был хил и слаб здоровьем, но отличался строгостью и резкостью в словах и поступках.
Хозяйственников он вызывал к себе главным образом для разноса и внушения.
Когда он стучал пальцем по столу и говорил, глядя прямо в глаза распекаемому: «Смотри, брат, придется поставить о тебе вопрос», распекаемый невольно ерзал на стуле и ежился.
Егору Ивановичу влетало от Ладушкина чаще, чем другим. Такое уж это предприятие – баня: всегда есть к чему придраться, на что пожаловаться.
Однако Егор Иванович относился к этим разносам с истинно философским равнодушием и на угрозы строгого Ладушкина «поставить вопрос» неизменно отвечал:
– Ставь, товарищ Ладушкин, ставь. Снимай меня! Только не думай, что в бане от этого что переменится. Я, брат, не Гераклит, у меня другая точка: все течет, но не все, понимаешь, меняется!
…Огненное дыхание войны спалило маленький зеленый городок. Он был занят немцами и до дна испил чашу страданий.
Городской актив – коммунисты и беспартийные – почти целиком ушел в леса, в партизаны.
Егор Иванович и Ладушкин оказались в одном партизанском отряде.
Могучий, кряжистый директор бани стал отважным и дерзким минером-подрывником, а болезненного председателя горсовета пришлось назначить на должность кашевара.
Они подружились.
Когда партизаны возвращались в лесную землянку с очередной опасной операции, Ладушкин выходил к ним навстречу и еще издали кричал:
– Егор Иванович, живой?
Чумаков отвечал ему из чащи глухим, протодьяконским басом:
– Мыслю – следовательно, существую, как сказал Декарт!
А за ужином, хлебая жидкую, пахнущую дымком кашу, шутил, подмигивая товарищам:
– Чего-то каша сегодня… не тае! Подкачал наш кашевар. Смотри, Ладушкин, придется поставить о тебе вопрос!
И все смеялись этой шутке.
Настало лето 1943 года – великое лето освобождения русской земли от фашистов.
Красная Армия заняла маленький тихий городок, затерявшийся в сказочно-дремучих лесах.
Отступая, враги сожгли его почти целиком.
Партизаны вернулись в родной обугленный город. Радость возвращения мешалась в их сердцах с едкой горечью скорби.
Однако скорбеть было некогда: надо было браться за дело – возрождать жизнь на пепелище.
Егору Ивановичу поручили восстановить коммунальные предприятия.
Но Егор Иванович «не уложился» в назначенный ему срок.
Тогда его вызвали к Ладушкину. Председатель горсовета сидел в полуразрушенном подвале почты, на табуретке, за некрашеным кухонным столом.
Как только Чумаков вошел, Ладушкин сразу же стал строго кричать на него:
– Безобразие, Чумаков! Срываешь сроки! И смотри у меня, Чумаков, как бы не пришлось поставить о тебе вопрос!
Егор Иванович посмотрел на непреклонно суровое лицо Ладушкина, на его худой палец, которым он барабанил по столу, и сказал:
– Не кричи. Все будет в порядке! – И, вздохнув, прибавил: – Вот и выходит, что прав я, а не Гераклит. Все течет, но не все, понимаешь, меняется. Как стучал ты на меня пальцем, так и опять стучишь!
– Давай, давай, действуй! – проворчал Ладушкин и хотел сказать еще что-то так же строго и сердито, но не выдержал и рассмеялся.
Егор Иванович тоже ухмыльнулся. И пошел работать!
БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ
Погода убийственная: сильный, хлесткий дождь пополам со снегом больно сечет лицо. Небо висит над головой так низко, что кажется давно не беленным, грязным потолком. Хочется, чтобы поезд скорей покинул эти неприветливые места.
Пять лет тому назад здесь бушевала война.
Проводник курьерского Семен Игнатов стоит на ступеньках своего вагона и тоскливо смотрит на лужи, на черные, мокрые заборы, на низкое небо, на новенькое здание станции, рядом с которым высятся огромные кучи грязного щебня – развалины былых построек. Ему холодно и скучно.
К вагону подходит женщина. На ней пальто, перешитое из шинели, надетое поверх ватника, на голове теплая шаль, на ногах высокие прочные сапоги, залепленные дорожной грязью.
Лицо у нее красное, усталое, но очень счастливое, как будто сверху сыплется не мокрый, мгновенно тающий крупный снег, а манна небесная.
– Милый человек, подвези до Звездина, – говорит женщина, с улыбкой глядя на Семена.
– Что я вам – базарный подводчик? – сердится Семен. – Билет есть – садитесь, поезжайте. А нет билета – извиняйте, пожалуйста.
– Не продают на ваш поезд здесь билеты. Подвези так. Тут всего-то один пролет.
– Не могу, тетка! Не проси!
Женщина поправляет шаль обеими руками и улыбается еще шире:
– Очень уж нужно ехать, товарищ железнодорожник. Подвезите. Я вам за это… двести граммов поднесу. У меня есть с собой.
– И за триста нельзя, гражданка. За нами пассажирский идет. На него и ловчись!
– Не могу я ждать. Мне скоро надо. Подвези, кавалер.
– Сказано уже: не проси! Какие могут быть просьбы на транспорте!
– Не я прошу, радость моя просит.
– Что же это у вас за радость такая особенная, чтобы зайцем ехать? – равнодушно-иронически спрашивает Семен Игнатов.
– Про мою радость в газете написано. Прочтите. Там отчеркнуто, что надо.
Продолжая улыбаться, женщина протягивает Семену сложенный вчетверо газетный лист.
Проводник читает про себя отчеркнутую синим карандашом заметку, и постепенно скучливая хмурь сходит с его сурового, скуластого лица.
Улыбаясь, он смотрит на сияющее лицо женщины и говорит:
– Отстроились, значит?
– Отстроились! Пятьдесят две избы стоят. Новехонькие! А ведь когда вернулись из лесу, одна зола была. Кое-где только печные трубы торчали. Все немец пожег!
Что-то вспомнив, женщина смеется мелким, счастливым смехом.
– Мою землянку последнюю рушили. Что было! Председатель наш, Степан Лукич, ломом ворочает, а сам вприпляс!.. А Ванька Кутасов, инвалид, на баяне жару поддает. Ну а бабы – те, конечно, ревут от радости!
– Почему же тебя последнюю переселяли?
– Вы не думайте, я хорошо работала в поле. Так уж вышло. Надо же кому-нибудь и последней быть. Да я не обижаюсь. Избу мне хорошую поставили. Район помогал, а колхоз строил.
– Детишки небось рады?
– И не говорите! Так и скачут с печки на пол да с полу на печку. Как зайцы. Отвыкли за это время от деревянного пола, радуются теперь. Вот на новоселье спешу. Я сюда за припасами ездила. Подвезите, сделайте милость. Я бы три билета взяла, да ведь не продают на ваш поезд!
Бьет второй звонок.
Быстро оглядевшись по сторонам, не следит ли главный, Семен Игнатов бросает шепотом:
– Ну, полезай скорей, новоселка!
Он берет у женщины ее мешок и помогает ей взобраться на высокие ступеньки.
В вагоне тепло и уютно. Утомленные дорогой и непогодой, бушующей за вагонными окнами, пассажиры дремлют на лавках.
Женщина робко садится на краешек скамейки.
Лежащий на скамейке пожилой мужчина просыпается, садится, недовольно смотрит на новую пассажирку и желчно заявляет:
– Послушайте, это все-таки плацкартный, купированный вагон. У вас есть билет?
– Нету у меня билета, гражданин, – вздыхает женщина.
– Как же вы едете без билета? На каком основании?
– На основании радости моей. Вот… прочтите, гражданин.
Теперь заметку, очерченную синим карандашом, читает желчный пассажир. И с ним происходит то же самое, что несколько минут назад произошло с проводником Семеном Игнатовичем: он тоже расплывается в широкой улыбке.
– Значит, восстановили все-таки свою Кочетовку?
– Восстановили! Пятьдесят две избы! Новехонькие!
– И у вас теперь хорошая изба?
– Хорошая. Лучше прежней!
– Вот видите, как хорошо! Да что вы сидите, как птичка на ветке? Садитесь поудобнее.
Проходит проводник Семен Игнатов, разговор становится общим, и скоро весь вагон узнает, что в третьем купе едет колхозница, которую третьего дня переселили из землянки в новую избу. Всем хочется на нее посмотреть, и – к ужасу Семена Игнатова – в купе, где едет этот не совсем обычный железнодорожный заяц, набивается тьма людей. Дорожной скуки как не бывало. Радость, которую несет в своей душе женщина из Кочетовки, становится общей – шумной, говорливой и бестолковой. Раздаются смех, шутки. Румяный чубатый лейтенант заявляет, что он воевал в этих местах и, возможно, освобождал Кочетовку. Семен приносит огромный закопченный казенный чайник, кто-то заваривает чай. Безбилетную пассажирку наперебой угощают пирогами, холодной курицей, солеными огурцами. Женщина развязывает свой мешок и тоже достает кольцо твердой, как камень, колбасы.
– Кушайте, пожалуйста! – говорит она, обращаясь к веселым пассажирам. – Кушайте за нашу радость!
– Граждане пассажиры! – просит Семен Игнатов. – Вы только потише чаевничайте. А то придет начальник, тогда будет мне горе за эту радость!
Потом чубатый лейтенант приносит из своего купе гитару и поет «Землянку»:
Мне в холодной землянке тепло, —
выводит он ладным тенорком, —
От твоей негасимой любви…
В Звездино поезд приходит совсем затемно. Колхозницу из Кочетовки выходят провожать лейтенант и Семен Игнатов. В темноте все с той же ровной окаянной силой хлещет ноябрьский ледяной ливень.
– До деревни-то далеко до вашей? – спрашивает женщину проводник.
– Тридцать без малого.
– Доберешься?
Из мокрой студеной темноты женский голос отвечает:
– Доберусь! Спасибо вам за ласку вашу! Счастливого пути!
Лейтенант и проводник слышат, как женщина бодро хлюпает сапогами по лужам.
– Доберется! – говорит Семен Игнатов. – У нее теперь вроде как крылья за плечами. Да и помогут ей. У нас народ такой!
Поезд трогается. Лейтенант и проводник уходят в вагон.
ОДНА ФРАЗА
Маленькая американская девочка из Сан-Франциско недавно сказала своей матери фразу, которую потом – на весь мир! – произнес с трибуны Варшавского конгресса сторонников мира один из делегатов конгресса.
Когда я думаю об этой смешной и страшной фразе, я понимаю, что американская девочка не могла произнести ее так просто, в порядке гениального озарения. Бедный ребенок был вынужден сказать эти простодушные и дикие слова. Его довели.
И мне представляется, что жизнь девочки из Сан-Франциско в тот день, когда она обратилась к своей матери с этим потрясающим предложением, сложилась так.
Утром за завтраком папа, просматривая газеты, сказал маме:
– Посмотри-ка на эту карикатуру! Здорово нарисовано! Вот это – видишь? – пещера в Скалистых горах, в которой будет укрываться от бомбежек наше правительство, когда начнется война. А это – пенек нашего обожаемого президента… А в этой луже – видишь? – разместился государственный департамент во главе с самим государственным секретарем! Довольно комфортабельные апартаменты!
Мама посмотрела и поджала губы. Потом сказала:
– Они-то найдут себе пещеры получше, будь спокоен. А вот что мы будем делать здесь, во Фриско?!
Девочка с робкой надеждой взглянула на папу: что-то он скажет? Папа сказал:
– Да, нам будет худо. Газеты пишут, что атомные бомбы будут сыпаться с неба, как град!
– Хватит и одной, чтобы от нас ничего не осталось, – сказала мама и снова поджала губы.
Папа, хмурый, толстый, в подтяжках, ничего не ответил, только вздохнул, прожевывая яичницу, – торопился в свой оффис. Конечно, он не бог уж весть какой папа, но все-таки это папа. Жалко будет, если от него ничего не останется.
Мама спросила:
– А что, положение очень серьезное?
– Очень! Адмирал Мэтьюз прямо пишет, что надо начинать превентивную войну против русских. Сама понимаешь, чем это пахнет. Мы кинем на них, а они начнут кидать на нас! И пойдет!
– Ну если у них есть что кидать на нас, – сказала рассудительная мама, – тогда, по-моему, лучше уж не кидать на них!
– А в таком случае они придут сюда, в Штаты, и установят у нас свой коммунизм. Так пишет Мэтьюз.
– Ты веришь в это?
– Нет! По-моему, это чепуха. Но так пишет Мэтьюз, наш морской министр.
Девочка не выдержала и вмешалась в разговор.
– Папа! – сказала она. – А что, если кинуть с неба не атомную бомбу, а этого Мэтьюза?!
Папа побагровел и зашипел, как кот Прикс, когда его схватишь за хвост:
– Тс, тс!.. Тиш-ше!.. В федеральное бюро захотела?!
И мама тоже рассердилась:
– Дороти, зачем ты слушаешь, о чем говорят папа с мамой? Марш из-за стола! И сейчас же забудь все, о чем мы говорили!
Пришлось встать из-за стола и уйти в сад. А там девочку поджидал ее приятель, мальчик Дик, обыкновенный маленький американский мальчик с игрушечной «атомкой» в одной руке, с игрушечным маузером в другой и с игрушечным карабином за плечами.
– Здорово, Дороти! – сказал Дик, который был чуть постарше девочки. – Почему у тебя глаза красные? Ревела?
– Немножко, – честно призналась девочка.
– Выпороли?
– Пока нет!
– Чего же ты ревела, корова?
– Мне очень жалко папу и маму, Дик! От них скоро ничего не останется. Папа сказал, что атомные бомбы будут сыпаться, как град!.. Скажи, Дик, нельзя что-нибудь сделать, чтобы они не сыпались оттуда, с неба?
– Дура ты! – сказал осведомленный Дик. – Откуда же им еще сыпаться, как не с неба? Не из бабушкиного же чулка! Между прочим, они все рвут в мелкие клочки!
– И детей… тоже в клочки?
– И детей в клочки! Давай немножко поиграем, Дороти!
– Давай, Дик! Во что?
– В войну, конечно!
– Я не хочу в войну!
– А я в другое не умею. Слушай, давай так: я буду «летающей крепостью», а ты этим… корейским городом. Встань сюда, а я влезу на дерево и сброшу на тебя свою бомбу. Посмотри, какая она красивая! Это мне дядя Роберт подарил!
– Я не хочу, не хочу!
– Ну, на одну минуточку, Дороти. Я только разорву тебя на мелкие клочки, а потом мы еще что-нибудь придумаем. Постой!.. Куда ты, Дороти, обожди!
«Летающая крепость» погналась за «корейским городом», но, споткнувшись о корень, проехалась носом по песку дорожки и потерпела серьезную аварию.
Девочка скрылась в доме.
Но и здесь было не сладко, потому что говорило радио. Сердитый мужской голос, хриплый и очень страшный, взывал:
– Мы превратим небо и землю в пылающий ад! Мы забросаем их атомными и водородными бомбами! Мы будем убивать взрослых за работой, стариков за молитвой и детей в колыбели!
Хриплый голос вселял ужас и тревогу в истомившееся сердце девочки. Она вскрикнула: «Мама!» – и бросилась в комнату к матери. А мама была не одна, с ней сидела незнакомая худая тетя и что-то рассказывала. Мама строго поглядела на девочку, велела одернуть платьице и поздороваться с тетей Роджиной, которая только что приехала из Нью-Йорка.
Девочка поздоровалась и тихо села. Сердце ее продолжало часто биться, в ушах звенело, и девочке казалось, что тот хриплый и страшный голос проник внутрь головы и жужжит там, как большая навозная муха.
Худая тетя из Нью-Йорка говорила:
– Настроение у нас у всех подавленное, тревожное. Помните Робинзонов? У них сын поехал в Корею, и его там убили. Ужасно! А теперь это чрезвычайное положение! Вы слыхали, что было у нас в нью-йоркском метро? Произошло короткое замыкание, поезда остановились, и вдруг кто-то крикнул: «Началось!» Люди бросились в окна, давили друг друга. Думали, что воздушная тревога. Ужасно! А газеты? Они же пишут такое, что волосы становятся дыбом. Вы читали, как один фабрикант из Чикаго – почтенный человек – предложил президенту, что он, видите ли, полетит на самолете и сбросит бомбу на Москву! Но ведь русские – за мир, они об этом везде говорят и пишут! Зачем же летать и бросать на них?! Они же дадут сдачи! Ужасно! Начитаешься всего этого, наслушаешься, а потом ходишь по улицам и все посматриваешь на небо. Вдруг оттуда… посыплется!
И тогда девочка, сидевшая тихо, вдруг громко захлопала в ладоши и сказала свое:
– Мама, а давай уедем туда, где нет неба!








