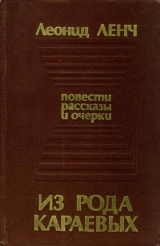
Текст книги "Из рода Караевых"
Автор книги: Леонид Ленч
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Корнет Лукоморов очень любил сладкое. Его матушка, вдова свитского генерала, петербургская дама, смолянка, обожавшая сына, называла его Оленькой-сладкоежкой, хотя при крещении дано было мальчику мужественное имя – Олег.
В Николаевском кавалерийском острые на язык юнкера говорили о нем так:
– Если бы Олег Лукоморов взял Цареград, он, в отличие от своего вещего тезки, прибил бы к воротам Цареграда не щит, а миндальное пирожное.
Оленька Лукоморов держался с товарищами ровно – ласковое теля, – но близких друзей у него не было. В юнкерских кутежах и шалостях участвовал редко, предпочитая дружеским попойкам с шампанским и гусарской жженкой в Новой деревне у гостеприимных цыган единоличные посещения столичных кондитерских.
Обожал хорошенький Оля Лукоморов заскочить с морозца в шикарное кондитерское тепло – тут от одних вкусных запахов с ума можно было сойти, – стряхнуть с бобрового воротника «николаевки» морозную пыль, небрежной походкой, тихонько позванивая шпорами, подойти к стойке с пирожными, – бог ты мой, глаза разбегаются: какое взять? – услышать милый голосок продавщицы – полногрудой, синеглазой куколки с темными длинными ресничками:
– Советую взять меренгу, господин юнкер! – И сердитым шепотком: – Почему в среду не пришли?
Ответным шепотком:
– Задержали в манеже, даю слово, Нинуся. Завтра к закрытию подкачу на лихаче. Могу надеяться?
Темные реснички опускаются утвердительно.
– Тогда дайте меренгу. И еще эклерчик!
Училище Олег Лукоморов окончил ускоренным выпуском уже во время войны и попал в лейб-уланы.
Спешенная конная гвардия сидела в окопах, во вшивой мерзлоте, пропадала в пагубных перестрелках, которые в сводках верховного даже и не отмечались никак.
Незавидная участь ожидала Оленьку-сладкоежку, но мама-смолянка вовремя вспомнила про старую институтскую подругу, влиятельную вдову камергера Эмму Богдановну Затонскую, урожденную баронессу Пфаффиус. В институте ее звали «доброй льдинкой». «Льдинкой» за холодную высокомерную красоту, а «доброй» за то, что лед Эммочки Пфаффиус имел обыкновение таять с бурной быстротой. Обилие ее скоротечных романов было постоянной темой ночных девичьих разговоров в институтских дортуарах.
Эмма Богдановна приняла маму и сына Лукоморовых у себя на Сергиевской приветливо, как родных. Подруги расцеловались, прослезились. Мама Лукоморова сказала Эмме Богдановне то, что нужно было сказать. Затянутая в корсет, причесанная придворным парикмахером, «добрая льдинка» была еще хоть куда! Оленька ловко поцеловал ее пухлую надушенную ручку. Камергерская вдова внимательно осмотрела сына своей подруги с головы до ног – Оленька вскочил с пуфика, на котором сидел, стройно вытянулся, как на плацу, улыбаясь смущенно, но при этом с преданной наглостью глядя урожденной баронессе Пфаффиус прямо в ее бирюзовые с голодным блеском глаза.
– Я постараюсь сделать что-нибудь для твоего мальчика, Александрин! – сказала маме Лукоморовой Эмма Богдановна по-французски и тут же перешла на русский: – Тем более что у корнета, я вижу, явно задеты верхушки легких. Он такой бледненький, бедняжка!
Мама Лукоморова испугалась:
– Он никогда не жаловался. Оленька, дружочек, у тебя разве задеты верхушки? Почему я ничего не знаю?!
Догадливый Оленька поморщился:
– Пустяки, маман! Какие там верхушки, когда родина и государь император…
– Нет, это не пустяки, милый корнет, – властно перебила его Эмма Богдановна. – Своим здоровьем нельзя манкировать… Александрин, я тебе дам адрес доктора Постникова Сергея Сергеевича, это мой личный врач, обаятельный человек, покажи ему своего мальчика, я его предупрежу обо всем… А пока, друзья мои, посидите здесь, я пойду позвоню по телефону одному моему старому другу, сиятельному старичку… прощупаю почву. Не скучайте, я сейчас!..
Через неделю Оленька Лукоморов стал адъютантом «сиятельного старичка», распределявшего по солдатским лазаретам матрацы, одеяла и наволочки – пожертвование патриотов, – и, само собой разумеется, благодарным любовником «доброй льдинки». Ему здорово повезло! И дальше пасьянс жизни раскладывался у корнета Лукоморова отлично. Эмма Богдановна вовремя увезла его в сытый Киев от зловещего Петрограда, вместе с его мамой и своими фамильными ценностями в фибровом чемоданчике.
Оленька ходил по Киеву в штатском, поругивая гетмана, проклиная большевиков, томился и капризничал, как маленький. Попробовал даже завести интрижку на стороне с певичкой из летучего кабаре, но Эмма Богдановна пронюхала о его «развратных намерениях» и пресекла. Потом она призналась маме Лукоморовой, что всыпала мальчишке хорошего «пфеферу». «Пфефер» был, видимо, так хорош, что корнет, опасаясь отставки без мундира и пенсии, прекратил опасные посещения кабаре.
И большевиков в Киеве благополучно пережил Оленька Лукоморов – соседи по квартире оказались порядочными людьми, не донесли в ЧК.
Жизнь корнета круто изменилась, когда деникинский генерал Бредов взял Киев и объявил мобилизацию бывших офицеров. Тут уж связи Эммы Богдановны помочь не могли. Пришлось надеть погоны и самому идти драться с большевиками, которых он так яростно проклинал, но с которыми – втайне надеялся – управятся без него.
Впрочем, сначала и у белых везло корнету Лукоморову. Стали формировать сводно-гвардейский конный полк, и пока его формировали, корнет в лейб-уланской фуражке кочевал из одного тылового города в другой, попивая в южных кондитерских кофе с пирожными да прогуливая по бульварам податливых гимназисток, которые, словно перед концом света, шли на все, не требуя взамен ничего. Деньги у него были. Прощаясь, незабвенная Эмма Богдановна сунула ему в карман новенького френча кисетик с золотыми десятками. Маман ограничилась нательным крестиком и слезами.
Хуже стало в Крыму у Врангеля. Здесь корнет угодил к генералу Борбовичу, лихому коннику, который ловчилам спуску не давал. Пришлось Оленьке Лукоморову сесть в седло, делать броски по пятьдесят верст в день, ходить в сабельные атаки на красную пехоту и даже участвовать однажды в рубке в конном строю, когда на их эскадрон неожиданно налетели буденновцы. На корнета наскочил здоровенный мужик в белом полушубке, в черной мерлушковой папахе. Под ним плясал, скаля зубы, вороной огромный жеребец. Буденновец занес шашку, и корнет, забыв сразу все приемы отражения удара, закричал тонко и жалобно, по-заячьи. Спасибо ротмистру Демьянову, старому армейскому драгуну, оказавшемуся поблизости на своей рыжей Динке, – он ловко срезал страшного мужика из нагана, бросив Оленьке на скаку:
– Неприлично ведете себя в бою, корнет!
Не бывать бы счастью, да несчастье помогло! Перед решающими боями в Северной Таврии Оленька Лукоморов схватил жестокую гонорею, болезнь осложнилась, сидеть в седле он не мог – его отправили в Севастополь, в тыл. А там подоспела эвакуация, и корнет оказался в Галлиполи.
Здесь он отлежался в корпусном госпитале, вылечился – его выписали в полк. И зажил корнет Лукоморов монотонной и трудной лагерной жизнью. Поселили его в развалинах турецкого дома, всю переднюю стену которого разнесла в пыль английская артиллерия еще во времена галлиполийской осады. Грязь, холодище. Лежали на самодельных койках впритык друг к другу. После подъема и обязательной гимнастики – осточертевшие строевые занятия: конный по-пешему. Французы кормили скудно: обрыдлые бульонные кубики potage salé да горох с чечевицей. Выйдешь в город погулять – обязательно наткнешься на рослых сенегальских стрелков в красных фесках. Офицеры звали их «андрюшами» и «сережами». Прут навстречу этакие черные «андрюши», чести не отдают, лопочут что-то, показывают пальцами, скалят белые нелюдские зубы, вращают белками величиной с блюдце. Мерзость!
В Галлиполи каждый страдал и мучился по-своему. Одни – от давящего мозг сознания того, что борьба, которая велась не на живот, а на смерть, окончилась решительным поражением, другие – от тоски по оставленному родному дому, близким людям, третьи – от беспросветности будущего.
Оленька Лукоморов тоже, конечно, тосковал по оставленным в Киеве матушке и Эмме Богдановне, но больше всего его угнетало отсутствие сладкого. Такой уж у него был организм.
Корнет дошел в своей сладкой тоске до голодных сновидений, почти до галлюцинаций. Ему снились пирожные величиной с полено и шоколадные конфеты, прыгающие, как лягушки: только протянешь за ними руку, они прыг-скок в сторону. Однажды приснилось, будто он сидит в ванной, наполненной теплым сладким какао, а Эмма Богдановна в распахнутом халатике на голом теле трет ему зудящую спину мочалкой из халвы.
Сон был так реален и ярок, что корнет, чувствуя вкус какао во рту, заскрежетал зубами от наслаждения и стал сучить ногами. Проснулся оттого, что его яростно тряс за плечо сосед по койке ротмистр Демьянов. Ротмистр не шепотом, а вроде как бы змеиным шипом выдавил из себя:
– Если вы, корнет, так-то вас и так, будете стонать и лягаться во сне, я вас выброшу на улицу и не пущу под крышу до рассвета.
Все, что можно было поменять на халву и рахат-лукум, корнет поменял – вплоть до запасных галифе и маминого нательного крестика. Золотой запас, вывезенный из Киева, давно у него растаял, оставались лишь три заветные десятки. Оленька зашил их в подкладку кармана своего френча – на самый, самый черный день. Зашивая, дал самому себе мысленно страшную клятву: если трону без крайней нужды – пусть мне отрубят обе руки!
…В тот роковой вечер Оленька Лукоморов, тоскующий и мрачный, сидел один в кондитерской. Было уже поздно – приближался комендантский час. Владелец кондитерской, толстый турок с дурным, сизым апоплексическим лицом, по прозвищу Махмудка, зевая, неодобрительно поглядывал на засидевшегося офицера. Чего, спрашивается, сидит? И взял-то всего лишь одно пирожное безе да чашечку кофе – деньги, правда, уплатил вперед. Кофе выпит, пирожное съедено, даже крошки сахарные на блюдце и те подобрал, а все сидит. Нечего сидеть, если денег нет! Ступай домой, шантрапа!
Офицер вдруг одним рывком поднялся, подошел вплотную к турку, сидевшему за кассой:
– Дай пять пирожных, Махмуд!
– Деньги давай на бочка! Лира, драхма, франк, что есть.
– Та́к давай!
– Так не давай! Деньга надо.
Офицер вытащил из расстегнутой кобуры наган, направил его на Махмуда. Оскалившись, турок ударил его по руке, вцепился во френч, закричал фальцетом:
– Патрул!
С трудом вырвался опомнившийся Оленька из цепких рук турка, выскочил на улицу, повернул в переулок, в темноту и тут услышал дробный стук каблуков по плитам тротуара и русские слова команды. Юнкерский патруль спешил на помощь воющему, как шакал, Махмудке. Корнет пробежал по переулку дальше, снова свернул, кинулся в черные развалины и здесь перевел наконец дух. Вот так история! Впрочем, Махмудка его не знает. Жаль, нельзя будет к нему теперь ходить. Лицо-то, наверное, запомнил, каналья! Хорошо еще, что удалось вырваться! Френч сильно треснул, когда боролись. Целы ли десятки?! Целы, слава богу!
И тут Оленька Лукоморов похолодел: он обнаружил, что другой карман его френча вырван Махмудкой «с мясом». А в кармане осталась записная книжка. На первой странице собственной рукой он написал свою фамилию, чин, полк и даже эскадрон… Ну все! Военно-полевой и – расстрел! У Кутеп-паши тяжелая рука!.. Боже мой, что же делать?! Надо бежать! Куда? В Константинополь!.. А там будет видно. Сегодня – вторник. Утром уходит пароход… А виза? Рука корнета нащупала под подкладкой уцелевшего кармана френча заветные твердые кружочки – на самый, самый черный день.
…Через полгода капрал иностранного легиона, краснорожий добродушный нормандец, доложил своему капитану, изящному блондину, парижанину, что набег на арабскую деревню, расположенную в тридцати милях к северу от их поста в районе оазиса Пурпурного, прошел успешно. Деревенька сожжена, взята богатая добыча. Три легионера ранены, один убит.
– Кто убит? – спросил капитан, хмурясь.
– Русский этот! – доложил капрал. – Он говорил, что раньше был белым офицером. Белые – это вроде как наши вандейцы, господин капитан?
– Приблизительно так. Его убили в бою?
– В том-то и дело, что нет, господин капитан. Мы зашли в дом для обыска. Арабский мальчишка жрал какую-то сладкую дрянь. Русский хотел взять со стола лакомство, а мальчишка вдруг заревел от страха. Отец схватил со стола нож и воткнул его в грудь русскому по самую рукоять. Мы его, конечно, тут же прикончили… этим же ножом. Я имею в виду папу-араба, господин капитан.
Капитан брезгливо поморщился.
– Пойдите в канцелярию, капрал, скажите, чтобы отдали в приказе насчет этого русского. Я не помню, как его звали.
– Он записан у нас под фамилией Безе, господин капитан. А мы между собой звали его лейтенантом Везе.
– Вы принесли труп сюда?
– Что вы, господин капитан! Такая жара! Зарыли там! Он уже спекся, наверное. Я могу идти?
– Идите, капрал!
4. ВСТРЕЧА В МОНАСТЫРЕПоздней осенью 1966 года я путешествовал по Болгарии. В Союзе болгарских писателей мне дали «Волгу». Шофер, веселый красавец Гоша, говорил по-русски. Для начала я поехал в Родопы – в рудный край.
Поездка оказалась неудачной, потому что в Смоляне – мы приехали туда под вечер – нас застал сильный дождь. Утром он превратился в ливень, в бурю.
Порывистый ветер подхватывал ливневые жгуты и дробил их. По тротуару и мостовой, клокоча и пенясь, бежали желтые реки. И вдруг ударил гром, и в небе сверкнула длинная, классическая по зигзагу молния. Родопский ноябрь!
От гостиницы, где я ночевал, до кафе, в котором рассчитывал позавтракать, было всего два квартала, но, пока я добежал туда, я успел основательно промокнуть.
Только я расправился с простоквашей, как в кафе вошел Гоша. Он был в плаще с капюшоном, с него лило, как с утопленника, только что выбравшегося со дна омута на берег.
– Я ездил заправляться, – доложил Гоша. – Придется возвращаться в Софию, до рудников не добраться, видите сами, что делается. Говорят, реки сильно вздулись, как бы не снесло мосты. Надо спешить, а то еще застрянешь здесь!
Застревать в Смоляне не входило в мои планы, и я принял Гошин совет.
Мы выехали из Смоляна на горную автомагистраль и здесь увидели, что буря наделала много бед. С вершин на шоссе низвергались потоки воды, валились обломки скал, за одним из поворотов мы чуть не наскочили на перевернутый пустой пикап. С пьяным бешенством, почти касаясь взмыленным хребтом настила мостов, мчалась, гремя камнями, одичавшая река.
Впереди, в небе, однако, обозначалась светлая полоска, и чем дальше мы отъезжали от Смоляна, приближаясь к перевалу, тем шире она становилась. Дождь перестал.
За перевалом нас встретил другой мир – зеленый, теплый, сияющий. Асфальт шоссе был сух. Солнце безмятежно улыбалось в синей высоте.
– Тут недалеко, чуть в стороне от магистрали, есть монастырь, – сказал Гоша, сбавляя скорость, – не такой, правда, знаменитый, как Рильский, но все-таки… Можем заехать посмотреть.
Я согласился, и через полчаса мы въехали на чистую, мощенную крупным булыжником площадку и остановились перед белыми воротами монастырского двора.
Я вылез из машины. Было совсем тепло. Порхали бабочки-капустницы – как в мае. Трехногий монастырский пес-инвалид, приветствуя гостя, помахал хвостом, негромко гавкнул и поскакал на трех лапах куда-то по своим надобностям.
У ворот стоял пожилой болгарин в овчинной жилетке, в широких штанах, заправленных в белые, домашней вязки шерстяные носки.
Гоша обратился к нему, что-то спросил по-болгарски, он ответил. Гоша обернулся ко мне:
– Он говорит, что вам надо найти архимандрита Димитрия, который вам все покажет. Отец Димитрий – русский, он из этих… из ваших белых, из армии генерала Врангеля, которая одно время стояла у нас, в Болгарии, – это было давно, меня тогда еще на свете не было. Он вас проводит, а я пока посплю в машине.
Вместе с пожилым болгарином я прошел через ворога вовнутрь квадратного монастырского двора. Справа возвышалась небольшая церковь старинной архитектуры, с высокой узкой башней колокольни.
Я стоял, любуясь ее дивными пропорциями, как вдруг мой спутник тронул меня за рукав. Я оглянулся и увидел, что на дворе появился высокий монах в черной рясе, в черном клобуке, из-под которого выбивались легкие летучие седины. Еще я успел отметить мысленно для себя, что щеки монаха покрывает нежный фарфоровый румянец.
– Он! – шепнул мне болгарин.
Отец Димитрий приблизился ко мне.
– Здравствуйте, отец Димитрий! – сказал я.
Он вежливо наклонил свой клобук.
– Я хочу осмотреть монастырь. Не могли бы вы посодействовать в этом?
Светская полуулыбка тронула свежие губы монаха.
– Всегда рад помочь соотечественнику, тем более что это моя обязанность. С кем имею честь?
Я назвал себя.
Отец Димитрий сказал, что мы можем начать осмотр монастыря сейчас же, и предложил для начала полюбоваться росписью церковных стен работы славного мастера Захария Зографа.
Недавно, видимо, реставрированные фрески были прелестны по рисунку, еще примитивному, но поражавшему жизненной точностью деталей, и по трогательному простодушию своих поучений. В телеге, запряженной круторогими палевыми волами, едет больной грешник. Он больше верил в колдунов и знахарей, чем в силу божьего промысла, и за это душа его следует теперь в ад. Телегу сопровождают лохматый деревенский песик и несколько резвых бесов – довольно симпатичных созданий, помесь козла с собакой, с хвостами, закрученными кверху, как усы у франтов девятнадцатого века. Бесы держат в лапах вилы, похожие на большие вилки, их продувные морды выражают радость одержанной победы.
Апостолы на фресках были похожи на степенных болгарских мужиков, а богоматерь – на деревенскую женщину-великомученицу. Я сказал об этом отцу Димитрию. Он утвердительно кивнул головой.
– Это так и есть. Ведь возрождение пришло в Болгарию позже, чем на Запад. Захарий был прекрасным портретистом в своей иконописи.
Он прочитал мне целую маленькую лекцию о Захарий Зографе, обнаружив большие искусствоведческие знания и отменный вкус. В ответ на мои комплименты монах сказал:
– Когда-то я сам собирался стать художником.
Мы осмотрели церковь, я полюбовался древними иконами и узорной утварью, и мы снова оказались на монастырском дворе. Отец Димитрий пригласил меня отдохнуть перед дорогой в его келье. Мы поднялись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж монашеского помещения, мой гид отпер дверь, и мы вошли в маленькую прихожую-кухоньку с плитой и умывальником в углу.
Самая келья представляла собой примерно десятиметровую комнату с коврами на стене и на полу, с большим удобным письменным столом, с полками на стенах, уставленными книгами.
Я заметил висящий на стене мужской портрет, написанный маслом: молодой черноволосый офицер в белой гимнастерке с погонами поручика, на груди – солдатский Георгиевский крест на черно-оранжевой ленте. Лицо волевое, с энергичными чертами, глаза – синие, беспокойные, со странным выражением какой-то, как мне показалось, насмешливой тоски.
– Кто это? – спросил я отца Димитрия.
– Мой близкий друг, поручик Тугомышев Владимир Иванович.
– Хороший портрет, – сказал я, – просто серовское проникновение в человеческий характер.
Монах промолчал.
– Не ваша ли это работа, отец Димитрий?
– О нет. Это Володин автопортрет. Из него мог бы выйти большой художник!
– Он жив?
– Нет. Но если вас интересует, я могу рассказать вам о судьбе этого человека.
…Владимир Тугомышев учился в Строгановке, на первую мировую войну пошел добровольно в тысяча девятьсот пятнадцатом году, окончив школу прапорщиков. Воевал храбро, получил солдатский Георгий. Потом попал по мобилизации в белую армию, к генералу Деникину. После поражения Деникина оказался в Крыму, у Врангеля, а потом – в Галлиполи. И здесь зверски затосковал по своему призванию – призванию художника. Друзьям, в ответ на все их утешения, говорил: «Пять лет или в меня стреляли, или я в кого-то стрелял. Знал и так мало, а то, что знал, забыл!»
Художники – юнкера и офицеры из врангелевских полков – собирались в своей любительской студии. Она помещалась в полуразрушенном здании, где гулял ветер, забивал глаза пылью. Художники в погонах писали портреты местных жителей – армян, греков, турок – тех, кто соглашался позировать им, рисовали карикатуры на Бриана, на Ллойд Джорджа, на галлиполийское французское начальство. Обсуждая свои работы, спорили, витийствуя до рассвета. Соборно молились богам из «мира искусств»; Добужинскому, Бенуа, Яковлеву, Рериху, Баксту, Лансере. И, конечно, Серову.
Однажды Владимир Тугомышев взялся написать греку-лавочнику, рыботорговцу, вывеску для его лавки. На выручку рассчитывал купить красок для студии и хоть разок покутить с друзьями-художниками в ресторанчике, вспомнить Москву, Строгановку.
Заказчик-грек потребовал, чтобы на вывеске была изображена его лавка с фасада, его фелюга, он сам и обе его дочки – чернокосые толстухи с лицами макбетовских ведьм.
Владимир Тугомышев все это честно изобразил – с импрессионистским жаром. По словам отца Димитрия, особенно хороша была на вывеске фелюга с ее парусом цвета лимонной корки на фоне густо-фиолетового моря. Грек-рыботорговец работу Тугомышева, однако, не принял и деньги заплатить отказался, потому что художник не выполнил его главного требования: заказчик хотел увидеть себя на вывеске обутым в лакированные полуботинки, а на слоновых ногах дочек должны были быть надеты белые чулки – символ материального благополучия и кредитной устойчивости галлиполийского лавочника.
Грек потребовал переделок, Тугомышев сказал, что до такого «идиотского натурализма» он никогда не унизится.
– Володя назвал грека в пылу спора «проклятым недорезанным буржуем», – сказал отец Димитрий, усмехнувшись, – а грек Володю, белого офицера, «больсевиком», которого надо вздернуть на «виселку». Представляете?!
Из Галлиполи Тугомышев попал в Болгарию и тут оставил врангелевскую армию. Он заработал немного денег на реставраций церковной стенописи, добился визы и уехал в Париж. Он мечтал: «Пойду к французам, к нашим, бухнусь в ноги. Не дадут пропасть. Буду им, чертям, краски тереть, сапоги чистить, только учите!»
В Париже Тугомышев стал… таксистом. Обычная история. Ведь в этой Мекке художников нищим дервишем влачил некогда свою жизнь даже несравненный Модильяни. Тугомышев – иностранец, эмигрант, недоучка – пробиться не смог. Женился на девушке из бедной эмигрантской семьи. Надо было зарабатывать деньги на жизнь – кисть и карандаш прокормить его не могли. Он писал картины – для себя, в русских эмигрантских газетах иногда мелькали его графические рисунки. Когда начались события в Испании, Тугомышев неожиданно для друзей и близких уехал в Мадрид, воевал с фашистами на стороне республики. После ее поражения оказался во французском концлагере. Потом узнал безработицу, голод. Жена от него ушла. В оккупированном немцами Париже Тугомышев, уже старый, больной человек, стал бойцом французского Сопротивления, выполнял самые опасные поручения подпольщиков.
В этом месте своего рассказа о Владимире Тугомышеве отец Димитрий замолчал, отвернулся. Я выждал, пока он справится со своим волнением, потом спросил:
– Какие это были поручения, отец Димитрий?
– Он рисовал карикатуры на Гитлера, на фашистов и расклеивал их на стенах домов вместе с листовками маки. Его схватили. Эсэсовский патруль расстрелял его здесь же, у стены, на которую он успел наклеить свой последний рисунок.
– Славная смерть! – вырвалось у меня. – Смерть солдата и художника.
– Смерть есть смерть! – уклончиво сказал отец Димитрий. – Я писал в Париж общим знакомым, просил узнать, сохранилось ли что-либо из Володиных работ. Ничего не сохранилось!.. Живи он в другое время, мог бы стать вторым Серовым!
На языке у меня вертелся один вопрос к отцу Димитрию, но не хотелось показаться неделикатным. Все же я его задал:
– А как сложилась ваша жизнь, отец Димитрий? Ведь вы тоже собирались стать художником.
Он искоса взглянул на меня:
– Схиму я принял по внутреннему убеждению.
– Давно?
– Больше тридцати лет тому назад.
– И все эти тридцать лет провели в монашеской келье?
– Да!.. Каждый идет по жизни своей дорогой.
Глаза его подернулись ледком отчужденности. Я понял, что дальнейшие расспросы ни к чему не приведут, и стал прощаться.








