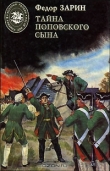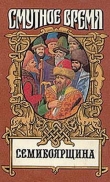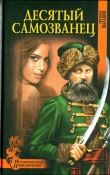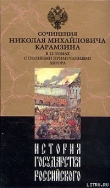Текст книги "На распутье"
Автор книги: Леонид Корнюшин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц)
Леонид Георгиевич Корнюшин{1}

НА РАСПУТЬЕ
(Исторический роман)

Часть первая
Царствование Шубника

Развеяв прах коварного лжеца{2}, Московское государство оставалось сиротою; на выборном царе, на Борисе, при всем его недюжинном государственном уме, порядком-таки обожглись, а монах – проходимец Гришка Отрепьев подлил такого масла в огонь, что никак не могли очухаться. Дело было худое. Не обожглись бы на Борисе – не пахло бы и самозванцем. Рыжий проходимец чуть было не натворил таких бед, что России для отмывания грехов хватило бы на век. Но Господь не попустил, не испепелил, не завалил до конца государство: оно лишь чувствительно похилилось набок и как-то пористо поползло. Станового хребта сатана-Гришка, однако, не сломал.
Князь Василий Иванович Шуйский{3} после гибели Отрепьева и разгрома поляков в Кремле вернулся в свой дом, однако беспокойный и хмурый. До сего дня ему не приходило и в голову – самому примерить Мономахову шапку. Он так говорил своим ближним. И Василий Иванович не кривил душой. Когда Шуйский вместе с заговорщиками ворвался в Кремль и самозванец со сломанной ногой лежал под стеной, а его верный друг Басманов, исколотый мечами, лежал, уже бездыханный, около крыльца, когда задуманное удалось – сам Шуйский горел только одним желанием: покончить с расстригой и выгнать из Москвы поляков. То было великое благо для России – единственное, что удалось Василию Ивановичу за свою жизнь.
Княжна Мария Буйносова-Ростовская, на которую Василий Иванович имел виды, находясь на положении невесты, приехала в каптане[1]1
Каптана – крытая зимняя повозка.
[Закрыть] из родительского дома следом за ним. О том, что произошло в Кремле, толком она еще ничего не знала. Мария, в цветущих юных летах, имела породистую осанку, так что отец говорил:
– Как ей не быть такой: мы-то, чай, от древнего рода князья – не чета теперешним выскочкам.
Рослая, полногрудая, с овсяным снопом волос, с глазами, подернутыми дымкой, княжна мало подходила невысокому, не по годам старому, с рябоватым бабьеобразным лицом, да вдобавок подслеповатому Шуйскому. Но мать, отец и ближняя родня делали все ради того, чтобы они соединились. Знатный род Шуйских со всем их богатством и возвышение Василия Ивановича зело прельщали семейство Буйносовых-Ростовских. Красавицу княжну в сенях встретила тетка Шуйского, смотревшая на брак царя с этой необъезженной кобылицей, как она ее называла, не иначе как на злосчастный, но, зная отношение Василия Ивановича, помалкивала, не говоря ничего против.
– Кажись, все обошлось, – шепнула тетка Шуйского.
– Так это правда, что князь Василий поднял на него бояр? – буркнула старая, не желая беседовать с девицей.
Лицо Василия Ивановича сразу просияло, едва он увидел в дверях Марию.
– Славно, что ты приехала, а то я уж хотел посылать за тобою.
– Самозванец убит? – Мария казалась испуганной.
– Этот польский холуй получил то, что заслуживал.
– А что же дальше? – спросила тетка.
Слова услышал вошедший брат Шуйского Дмитрий.
– А дальше настала пора Шуйских. – Тонкое лицо Дмитрия с аккуратно подстриженными усами и ухоженной бородкой выражало энергичное нетерпение.
– Ты об чем? – Василий Иванович поднял глаза на брата.
– Об том, что, окромя тебя, корону брать некому. Литвину, князю Мстиславскому{4}, мы ее не отдадим. Голицыну – тоже.
По лицу Шуйского пробежало сомнение.
– Я повел бояр бить расстригу не ради того, чтоб сесть самому.
– А нешто не твоя заслуга, что с самозванцем покончено? – спросила тетка. – Ты рисковал головой! Что ж, пущай Голицын взлезет на трон? Или Федор Мстиславский?
– Я… об таком… повороте не думал. – Василий Иванович опустил веки, однако сладкая истома подступила к его сердцу, довольная улыбка тронула его губы. То заметила наблюдательная тетка.
– Князь Василий Иваныч имеет право по родству, – ответила дева Буйносова-Ростовская. – Ить он – Рюрикович!
Все замолчали, Шуйский стал на колени пред Иверской Божией Матерью и долго молился, а когда кончил, увидел неслышно вошедших князей Трубецкого и Голицына. Атаман Трубецкой весь клокотал, короткая борода его дергалась, он подступил к Шуйскому:
– Сегодня, князь, упустишь, завтра будет поздно. Земля горит! Немедля иди на Красную площадь, там много наших. Они тебя, Василий Иваныч, выкликнут царем.
– Надо идти, – кивнул Василий Голицын, – не то выползет новый проходимец!
Шуйский, не отвечая, думал… Он не верил двурушному Голицыну.
Рябины на его лице стали медными; искуситель, однако, уже вполз в душу – Василий Иванович почувствовал себя царем. Его охватил какой-то сладостный трепет.
– Ступайте все на Красную площадь, – повелел, ни на кого не глядя. – И уповаю я не на то, чтоб выкликнули, а на то, чтоб избрать всей землей.
– Не мешкай, князь! – наказал, выходя, Трубецкой.
Когда гости ушли, Василий Иванович выпил серебряную чарку аликанта, закусил семужкой и, помолившись, опоясался кушаком, затем накинул опашень[2]2
Опашень – просторная верхняя мужская одежда с рукавами.
[Закрыть] цвета бычьей крови.
– Иди, князь, венец тебе уготован по праву, – напутствовала тетка, осеняя его крестом, – храни тебя Господь!
– Ведуны рекли чего обо мне… не знаешь? – осведомился Шуйский.
– Все, Василий Иваныч, в твою пользу. Иди! – солгала тетка – ведуны предсказали Шуйскому скверный конец.
На Красной площади густела не шибко большая толпа. От торговых рядов по мосту из Замоскворечья и снизу, от Неглинки, поспешали в одиночку и кучками посадские люди. «Чо идут? Какого беса?» – «Не знаешь чо? Царя выбирать!» – «А каво?» – «А ляд знает. Егория юродивого, кажися», – слышалось в толпе. Егорий с кровавым кусищем мяса в руке, заливаясь слезами в три ручья, показался на паперти церкви Покрова. Все ахнули – по площади прокатился гул. Народ стал с ужасом креститься. Загудели колокола, однако понять было нельзя: как при сполохе или звали посады на торжество…
– Блаженный-то, гляньте, с кусьмищем мяса, весь в крови!
– Пахнет бедою! – метнулось по толпе.
Шуйский, прищурясь, видел, как шныряли в толпе верные его люди, спешили преданные ему бояре.
– Василий Иванович Шуйский – по Рюриковой крови тоже наследный царь! – кричал Богдан Бельский.
– Хотим Шуйского в цари! – гаркнули в несколько глоток.
Князь Мстиславский, надменный и напыженный, блистая бриллиантами, взглянул на Шуйского: «Я не менее тебя родовит». Шуйский, усмехнувшись, величаво кивнул ему.
Старатели наддали:
– Шуйского – на царство!
– Хотим Шуйского!
Какой-то боярский сын, взлезши на Лобное место, перекрывая шум, горласто крикнул на всю площадь:
– Да здравствует государь Василий Иваныч!
На том дело и порешилось. Блаженный Егорий трясся в слезах. А на посадах говорили:
– Как бы нонешний праздник не кончился панихидою… Божьему-то человеку ведомо. Быть крови!
…Князь Василий Иванович Шуйский, объявленный своими приверженцами царем, ходил по дворцу, озираясь по углам… Высока власть, да как удержаться?! В разосланной по городам государства грамоте говорилось:
«Целую крест на том, что мне ни над кем не делать ничего дурного без собору, а которая была мне грубость при царе Борисе, то никому за нее мстить не буду».
Шуйский шел по той же темной, кривой дороге, что и Годунов. Как Борис сулил, покупая поротых людишек, разорвать пополам свою нательную рубаху, так и Шуйский клялся, что без бояр-де не мыслит сидения на престоле и не сделает и шага без собора. Василий Шуйский затеял страшную игру с народом, так же, как и Борис, раздавая подачки…
Другая грамота – о воре-расстриге – вызвала в глубинах народных глухой ропот; говорили, что в Кремле дело нечисто.
Грамота Марфы Нагой{5} подлила масла в огонь, она писала о самозванце:
«А я для его угрозы объявить в народе его воровство явно не смела».
Но люди-то знали, как Марфа вела свою лживую игру в Тайнинском, исполняя роль любящей матери, встречающей сына, и это ее объяснение вызвало, как и грамота Шуйского, недоверие и злобу.
– Вишь ты, хитра вдова, да нас на мякине не проведешь, – говорили на посадах.
Следом за грамотой Шуйского по его указу ближние бояре разослали по областям другую. В ней говорилось, что после вора Гришки Отрепьева на престол законно взошел избранный всей землею князь Василий Иванович Шуйский.
– Ране у царей суд был один – по своему хотению. А Шуйский, вона, обещает истинный, праведный суд.
Те, кто лучше знал рябого лгуна, отвечали со злой насмешкой:
– Не запели б, братья, вовсе другую спевку! Знаем мы евонный суд: это такой оборотень! Веры ему – не на полуху.
Клятва Шуйского в верности Земскому собору, что он, земский-де царь, будет вершить суд праведный именем народным, – клятва эта не приблизила его к низам.
– Поглядим, как оно выдет на деле-то? Красно новый царь баит!
– Мягко стелет, да комкасто спать.
Зачаток новой смуты обозначился с тяжелой пропажи: исчезла из дворца государственная печать.
По Москве же загуляло:
– Царь есть, а печати нету – вот она какая оказия!..
Шуйский чувствовал, что печать унесли неспроста, допытывался: чьих рук дело?
Ближние бояре пожимали плечами, трясли бородами и шубами, мол, кто ж тут узнает? Московская знать, пожалованная после венчания к царской руке, вздыхала: царь у нас нынче податливый, лица своего не имеет, и, раз уж начали его пинать с первого дня, какие бы щедроты и милости он ни проявил, ими он ртов не позатыкает, языков не прикусит. Высока власть, да руки-то оказались коротки!
– Не пойман, говорят, – не вор. Но я тебе советую выпереть из Москвы Григория Шаховского. Нечист князь! – сказал племянник Михайло Скопин-Шуйский.
– Прихвостень Отрепьева! Вели, чтоб сегодня же убрался: пускай едет воеводою в Путивль.
– Там много разного сброду. Может, в другой какой город? – возразил, предостерегая, Скопин.
Шуйский отмахнулся.
– И вели еще перевезти в Москву прах царевича Димитрия. Похороним с торжеством! – распорядился Шуйский.
– Не верь Василию Голицыну. Он ищет нового самозванца, чтобы скинуть тебя. Не верь его дружбе! Не верь его слову – то сладкий обман!
– Знаю! Михайло, мы с тобою – родня, только тебе откроюсь… Салтыкова – в Иван-город, Афанасия Власьева, травленого волка, – в Уфу, князя Рубец-Мосальского – в Корелу, Богдана Бельского – в Казань. Кликни сейчас ко мне Гермогена{6}. Мы его возведем в патриархи.
Поспешно, не как к царю, а как к равному, вошел озабоченный Татищев. Спросил:
– Чего будем делать с панами? Послы, особо лях Гонсевский, исходят слюнями, грозятся именем короля.
– Пошлем в Краков своих, выведаем, как там и что. Покуда не воротятся – послов держать накрепко! В Польшу нарядить князя Григория Волконского и дьяка Андрея Ивановича.
А по посадам опять пополз зловещий, погибельный слух о воскрешении Димитрия…
Дескать, в Кремле убили не царя, а другого малого, а он-то, Красное солнышко, жив, слава Богу, (и опять идет на свое законное место. Так одно зло карается другим, и все уходит и уходит в таинственную даль бесплотного небытия высокая красота человеческой жизни – добродетель. Принятие же ложного блеска за ее истинный свет есть горький самообман, приносящий так мало утешения; однако люди счастливы, живя в обмане.
IIГригорий Шаховской, вернувшись из царского дворца, вынул из сумки огромную государственную печать. Жена не без страха наблюдала, как он тщательно засовывал ее в потайное дно походной кожаной сумы.
– Ты унес печать? – Жена оглянулась на дверь.
– Помалкивай…
– А коли хватятся?
– Не пойманный – не вор.
– Но помилуй, Гриша, тебе-то она зачем в Путивле?
– То не бабьего ума…
Шаховской, гибкий и ладно скроенный, с бородкой волокиты и авантюриста, уже успел кое-кого подговорить, чтобы те распускали слухи, что Димитрий с двумя товарищами перед мятежом ушел-де вон из Москвы и скоро явится в Кремль, а рябого Шуйского сгонит с трона.
На крыльце затопали, Григорий взглянул в окно и увидел рослого малого с черными как смоль кудрявыми волосами, с тупым и рыхлым носом на голом лице. Это был дворянин Михалко Молчанов, с которым Шаховской перекинулся словами возле монастырских ворот в Кремле. Шаховской велел ему, подобрав двух помощников, на царских конях, как стемнеет, бежать без промедления из Москвы. Молчанов был собран по-походному.
– Я завтра еду в Путивль, – сказал Шаховской, как только он вошел. – Людей нашел?
– Все готово: и люди и кони. Куды мне, Григорий, ехать? – Молчанов пытливо взглянул в быстрые, скользящие глаза Шаховского.
– А ты не знаешь? Не догадываешься? Пробирайся в Самбор или Сандомир!..
– Да разве я похож на Отрепьева? Я выше его на целую голову.
– А коли ее лишишься, то выйдет как раз.
– Однако, ты шутник, Григорий: энта штука мне дорога. Насчет того… я еще… подумаю.
– Думай. Такой случай выпадает лишь раз. Езжай в Самбор, а оттуда – ко мне в Путивль. Храни тебя Бог! Увидишь Марину – уведоми, что муж ее спасся. Пускай говорит, что убитым его не видала.
…«Государыня», несмотря на потрясения, не пала духом{7}, – власть, как сладкий фимиам, по-прежнему кружила ей голову. Она решила любой ценою бороться за сбои, царицыны, права. Будь что будет! Марина Мнишек уродилась в отца, ну а тот ради достижения благополучия ничем не гнушался.
Молчанова на улице встретил бывший слуга Гришки – лях Хвалибог, порядочно заплывший жиром на царицыных харчах, с острым суковатым носом. Он сидел, как цепной пес, под «государыниной» дверью. С Молчановым у него были добрые отношения, таких продажных собак Хвалибог ценил: они играли на руку Польше.
– Государыня в большой печали, ты ее подбодряй.
– А то не знаю… – Молчанов прошел в келью: это все, что досталось ей после просторных царицыных покоев! Шляхтенка, злая и угрюмая, стояла около узкого окна.
– Я вам никому вот на столечко не верю. Вы все свиньи, свиньи! – визжащим голосом проговорила Марина. – Вы русские свиньи!
– Пани Марина, я только затем, чтобы сказать: скоро ваш муж явится…
Марину поразило, как молнией:
– Явится сюда? 3 могилы?
– Убили другого. Я еще не знаю, где теперь Димитрий. Но он жив! И я намерен ехать, государыня, к вашей матушке, чтобы ободрить ее. Вы же говорите, что убитого Димитрия не видели.
– Если так… то пусть Матка Бозка пошлет тебе удачу! – всхлипнула Марина.
…Три всадника на сытых, в серебряной сбруе конях на рассвете подъехали к Оке. Вчерашний жаркий день раскалил воздух, слегка выстудило лишь к утру. Один из двух поляков, сопровождавших Молчанова, сутулый, лет тридцати пяти, в каком-то рубище, в жидком свете зачинавшегося утра пристально следил за Молчановым.
– Тебя ждет то ж, что и Отрепьева, – тебе отрубят голову!
Лях Заболоцкий, тонкий, как ивовый хлыст, покрытый длинным плащом, добавил:
– Але еще погулять хочешь, дурак?
Подошел наконец-то паромщик, спокойный кряжистый мужик. Заболоцкий, морщась, – от мужика тянуло потом, – спросил:
– Тебе невдомек, что ты перевозишь государя Димитрия Иоанновича? Он сюда воротится с большим ополчением и всех изменников накажет, а тебя вознесет, так что и во сне не снилось!
Мужик молча тянул канат, ответил не без усмешки:
– А башка-то уцелеет?
Трое верхоконных скрылись в предутреннем тумане. Мужик-перевозчик, перекрестясь на восток, молвил себе самому:
– Ишь, окаянные, как власти хочут!
Они въехали в Самбор. Старая пани Мнишек, сильно исхудавшая с тех пор, как из Москвы пришли дурные вести об убийстве «царя» Димитрия и о том, что дочь Марина зверски умерщвлена толпой, не находила себе места. Никаких сведений не было и о муже.
– Пани, а пани, – сказала вошедшая служанка, пожилая, умевшая обращаться со своенравной хозяйкой, – на дворе двое людей. Говорят, что с важными вестями.
– Откуда они?
– Я думаю, что они москали.
Пани Мнишек быстро вышла на крыльцо, где, держа на поводу породистых потных гнедых коней, стояли в одеянии иноков двое. Один рыжеватый – это был Молчанов, другой ниже его, белобрысый, – Заболоцкий.
– Царь Димитрий Иоаннович, спасшийся от руки подлых убийц, – четко выговаривая слова, сказал Молчанов. – Разве ты не узнаешь своего зятя?
– Да, пани, вы видите перед собой царя Московии и мужа своей славной дочери Димитрия, – подтвердил Заболоцкий на недурном польском языке.
– Вы… царь Димитрий? – спросила пани Мнишек, смерив с ног до головы Молчанова.
– В интересах досточтимой пани признать зятя, – многозначительно заметил Заболоцкий.
В бесцветных глазах пани сверкнули злорадные огоньки, она поняла: фортуна снова поворачивалась лицом к ним, Мнишекам.
– Ядвига, занимайся своим делом! – прикрикнула пани на старуху, явно прислушивающуюся к их разговору. – Входите, господа, в дом.
Она велела принести беглецам умыться. После этого они перешли в столовую, к хорошим закускам, на которые живо набросились.
– Григорий Отрепьев убит? Это правда? – поинтересовалась пани.
– Мы такого имени не знаем, – ответил Заболоцкий, – ваш зять, любезная пани, сидит перед вами живой и здоровый.
– Вы видели мою дочь? – обратилась она к Молчанову.
– Она жива и невредима, – ответил тот коротко.
– Ее не убьют?
– Все будет зависеть от того, признаете ли вы меня своим зятем, – ответил вскользь Молчанов.
– Что мой муж?
– Он скоро будет здесь. – Молчанов отпихнул тарель с обглоданными бараньими костями. – Так что вы решили?
– А вас признает Московия? – полюбопытствовала пани Мнишек.
– Признает, бо Шуйского она не любит. У меня много друзей. Среди них князь Мосальский.
– Но что скажет моя дочь?
– Ваша дочь, пани, хочет быть государыней царицей, я с ней имел разговор.
– Я отвечу вам завтра, – проговорила, поднимаясь, пани Мнишек.
Утром же «теща» послала свою портниху в лучшую самборскую лавку, чтобы она купила самые роскошные одежды, предоставив также в распоряжение «зятя» двести слуг для его надобности и охраны.
– Пока отсидишься в ближнем монастыре, – заявила пани Мнишек Молчанову. – Что ты намерен делать?
– Следует немного подождать… Затем мы выедем в Путивль к Григорию Шаховскому.
– Кто он?
– Князя Шаховского Шуйский назначил туда воеводою.
– Он твой сторонник?
– Мы милости зычливы[3]3
Преданы.
[Закрыть] друг другу.
Через три дня пани Мнишек отправилась в Краков, надеясь получить одобрение короля, но дальше приемной ее не пустили – Сигизмунд таил гнев на Лжедимитрия, и всякое упоминание о самозванце было неприятно ему, в его же воскрешение король верил, как в летошний снег. Когда около дворца раздосадованная пани садилась в карету, к ней подошел московский посол князь Волконский в новорасшитом серебром кафтане и сверкающей бриллиантами мурмолке[4]4
Мурмолка (мурмонка) – вид шапки.
[Закрыть]. Тонкое, породистое лицо Волконского, его жесты, то, как он дотронулся красивыми, в перстнях, пальцами до мурмолки, мягкий, с переливами голос – все это так не походило на польских развязных шляхтичей. Умильную улыбку с лица пани как ветром сдуло, когда Волконский заявил, что он посол царя Василия.
– Верно ли, многочтимая пани Мнишек, что у вас в доме живет человек, который называет себя царем Димитрием? – полюбопытствовал Волконский.
– Да, живет, и он скоро пойдет и сгонит Шуйского.
– Но Гришку Отрепьева сожгли – то я видел своими глазами – и пеплом его выстрелили в сторону Польши.
– Господин посол, царь Димитрий живой, он вам еще припомнит оскорбления нашей дочери!
– Человек, который выдает себя за Димитрия, – Михалко Молчанов, промотавшийся дворянин без гроша в кармане, босяк, – вот какой он «государь»! На нем кровь Борисова сына, Феодора. Он, плут и чернокнижник, дран на площади кнутом. Я советую вам не иметь дела с проходимцем.
– Я не желаю вас слушать. Его величество король Сигизмунд признал Димитрия как сына Иоанна. А царь Шуйский не избран, а выкликнут, его величество это знает.
– Пани Мнишек, этот воскресший «Димитрий» вовсе не похож на прежнего. Тот был мал ростом, у этого руки как и подобает, а у того – одна короче!
– Вы лжете! – злобно бросила пани. – Мой зять, слава Господу, избежал смерти. Как я его могла не узнать? – И шляхтенка устремилась к карете.
– Не плакать бы вам после! – крикнул Волконский, но грохот колес заглушил его слова.
Запахло новыми бедами и потрясениями.
IIIМихалко Молчанов другую неделю сидел близ Самбора за монастырскими стенами. Жратвы давали от пуза. Свой православный крест Михалко сбыл иудею. Теперь у него на шее болтался католический. Пан Заболоцкий на это монашеское житье глядел уныло:
– Докуда мы здесь будем торчать? Повалить некого. На монаха ж не полезешь?
Молчанов кивал кудрявой головой:
– Оскоромиться не худо бы. Надо сказать теще, чтоб привезла монашек.
– Да, чтоб было за что держаться. Ты знаешь – я обожаю жопастых и сиськастых.
Михалко погрозил ему пальцем:
– Не позорь, сукин сын, кесаря!
Как-то под вечер на монастырском дворе появилась «галерная шкура», как окрестил мужика Молчанов: действительно, было отчего так его назвать. Рожа будто кованная из железа, от самых глаз заросшая дремучей каштановой бородой, – Молчанов не обманывался, что под густой волосней было тавро, кое ставили на проданных рабов. Серый, обтрепанный, потерявший цвет, весь в дырьях кафтанишко, штаны из галерной парусины, худые сапоги, из них, как из щучьей пасти, выглядывали грязные пальцы – все это указывало на то, что в келью к «непобедимому кесарю» влез беглый, скрывающийся от преследования. Вошедший, сняв облезлую итальянскую шляпу, исподлобья, с недоверчивостью оглядел Молчанова.
– Ты Димитрий, что ли? – спросил он, устремив на него посверкивающие живым умом, бойкие глаза.
Михалко Молчанов кивнул.
– Дозволь, твое величество, присесть. И нема ли чего пожрать? Со вчерашнева дня не держал на зубах макового зерна.
Заболоцкий, как-то криво посмеиваясь, отправился на промысел в монастырскую трапезную.
– Откуда ты такой молодец? – Молчанов, каким-то собачьим нюхом почуяв нужного человека, приглядывался к мужику.
– Зараз из Венеции.
– Отпробовал галер?
– Пришлося. В Константинополе выкупили у турок немцы.
– За что?
– За услугу…
– Имя твое?
– Ивашка, прозвищем Болотников{8}.
Ивашка Исаев сын некогда был холопом князя Телятевского. Хотелось ему воли… Недаром же цыганка ему нагадала: «Будет тебе, соколик, и ближняя и дальняя дорога. И не своей смертью помрешь». Глубокой ночью, удушив поднявшего лай пса, Ивашка бежал от господина. Дорога беглеца шла степью – к казакам. Снилась ему вольница… Однако на воле Иван Исаев сын гулял недолго – в Диком поле после короткой схватки попал в лапы татар. На корабле Ивашке поставили клеймо раба и продали в Турцию. Года четыре Иван сидел, закованный цепями, гребцом-галерником. Оброс темным волосом, белели одни зубы, да сверкали шафранные белки глаз. Был Иван угрюм и молчалив, как камень. Ночами глядел на луну, глотая холодные слезы. Вызревала месть, злая, кровавая… Немцы, разгромив флот турок, принесли волю. После того бродяга Ивашка вдоволь нагляделся на Европу.
О Венеции Ивашка сказал:
– Красиво, да тесно. У нас-то поширьше.
Судьба гнала по чужим землям, очутился в Польше. Там Иван и встретил «царишку Димитрия» – второго самозванца. Этот поротый, дубленый и ломаный, повидавший огонь и медные трубы мужик был тем человеком, которого так искал вор.
– Ну и рожа у тебя! Каленым железом потчевали? – продолжал выпытывать Молчанов, явно к нему присматриваясь.
– У раба, известно, шкура дубленая. – Ивашка помолчал, переспросил затем, не шибко веря кудрявому: – Ты и вправду Иванов сын?
– Я-то Иоаннов, природный царь, – прищурился Молчанов, – а ты, видно, сукин? А ежели сомневаешься, истинный ли я царь… – И вынул из сумы блистающие скипетр и корону. – Откуда бы они могли у меня быть?
– Не серчай, государь, я-то, видит Бог, тебе сгожуся.
– Чей ты был холоп? – поинтересовался Молчанов.
– Князя Телятевского.
Молчанов в знак расположения хлопнул Болотникова по плечу:
– Славно! Послужи, Иван, мне.
Два монаха внесли в глиняной посуде еду – у Ивашки аж заскрипели зубы, когда он набросился на принесенное. Крутые скулы его ходили как жернова. Молчанов и Заболоцкий молча наблюдали за ним. Михалко налил ему серебряную чарку.
– Испей, Иван, перед дорогой.
Порядочно нагрузившись, Болотников отпихнулся от стола, осведомился:
– Куды мне теперь? – Он хотел прибавить «государь», но отчего-то сдержался. Молчанов это заметил.
– Поедешь в Путивль к князю Григорию Петровичу Шаховскому. Он там воевода. Я пошлю грамоту князю.
Заболоцкий вынул из походной кожаной сумки гусиное перо и завинченную чернильницу. Молчанов бойко забегал пером по свитку.
– Вот, отдашь князю. Собирай войско, готовься идти на Москву. Такова моя… – Молчанов запнулся, не договорив: «государева воля». – Сыщи ему какую ни есть одежу. А то его схватят как подмостовника. Конь у тебя есть?
– Я добираюсь подвозами.
– Дай ему чалого. С Богом, Иван, в случае победы – получишь все, что токмо пожелаешь.
– А ты сам-то, государь, долго тут будешь сидеть?
– Недолго. Днями я тоже выеду в Путивль. Собирай войско. Тебя, я думаю, поддержит рязанец Ляпунов. Сыщи сотника Истому Пашкова. Он в Туле.
– Да поможет нам Бог. – Болотников поднялся из-за стола.
На другой день к вечеру, до пены запарив хорошего коня, Болотников въехал в Путивль. Садилось солнце, на косых лучах чистым огнем сверкали маковицы церквей, резал русский глаз острый, как игла, шпиль костела. Из-за тынов показывали солнцевидные головы подсолнухи, одетые, как в чехлы, пылью, от проезжей дороги гнулись к земле под обильными плодами яблони. Город был охвачен беспросветной дремой и скукой, но острый глаз Болотникова приметил оживление: из переулков доносился говор, скрип колес и конское ржание. Несколько казаков в твердых, словно железо, кожухах проехали мимо. Расспрашивать про воеводские хоромы было излишне – широкая улица вела прямо к ним. То был единственный в городе каменный дом. В прихожей воеводы жались по углам несколько торговых людишек. Начальник канцелярии из старых сотников, с саблей в истертых ножнах, в видавшем виды кафтане, с болтающейся чернилицей на груди, сурово уставился на Болотникова, не желая пускать его к воеводе, однако грамота Молчанова возымела действие. Ему дозволили войти. Григорий Петрович Шаховской, в новом кафтане, слушал то, что ему договаривал князь Мосальский, и по услышанному Болотников понял, что тут заваривается заговор против Шуйского. Мосальский, тучный и рыхлый, поперхнулся на слове, уставясь на вошедшего бродягу. Князь Михайло Долгорукий крутил пышный ус и кряхтел, обдумывая, что затевалось… Болотников молча подал Шаховскому свиток от Молчанова. Лицо Шаховского осветилось улыбкой, но он сдержал свои чувства, оглядывая Болотникова.
– Сей человек от спасшегося государя! – торжественно возвестил он.
– Ты кто? – с недоверчивостью спросил Долгорукий.
– Много чего повидал, господа, а теперя, видно, пришла пора послужить государю Димитрию Ивановичу! – горячо проговорил Болотников. – Плох ли я, хорош ли, но без меня государь на трон не сядет!
– Иоаннов ли он сын? – Долгорукий Продолжал крутить ус.
– Истинный царь. Показывал мне скипетр и державу. Как же он, княже, могет быть не истинным Димитрием, ежели его признала Мнишкова женка? То, господа, сын Ивана, у меня нету сомнения, а посему, коли хочете согнать Шуйского, – созывайте полки. Я поведу их на Москву и возьму ее. За мною пойдет народ, и я клянусь, что не пожалею крови!
– Я вам что говорил! – вскричал Шаховской, ударяя в пол ножнами. – А сего человека нам послал, может быть, сам Всевышний. Скоро ли Димитрий явится в Путивле?
– Сказал, что днями будет! Наряд, княже, ты имеешь? – спросил Шаховского как равного Болотников.
Шаховской, сдержав раздражение от такой фамильярности, кивнул:
– Не беспокойся, Иван, пушки будут. Найдем и гроши. Подсобят рязанцы и туляки.
– Ну, коли так – послужим государю Димитрию! Вы уж, княже, простите раба грешного, но вотчинников я не пожалею! – В голосе Болотникова звучали железные нотки, отчего как-то передернулся Михайло Долгорукий. – Не пожалею!
– Всех? – уточнил Долгорукий, пристально взглянув в жесткие, нелюдимые глаза галерного раба, готового мстить всему свету.
Болотников понимал, что, ответь он прямо, как стояло у него на языке, все эти господа от него разом отложатся. И Ивашка сказал, дабы не раздражать их:
– Всех, кто стоит за Шуйского.
Один Долгорукий уловил, что бродяга хитрит, и все-таки промолчал, – сама судьба послала того, кто мог покончить с Шуйским.
– К ним не может быть жалости, – кивнул Шаховской.
– Да простит нам Господь, – сказал Мосальский и постучал в стену.
Вошел начальник канцелярии.
– Собирай на площадь путивлян: я буду держать речь, – приказал воевода.
Через час на площади уже густела порядочная толпа, а люди все прибывали. Шаховской, скрипя новыми сапогами, поднялся на пустую пороховую бочку, которую выкатил из ворот слуга. Кругом колыхались кебеняки[5]5
Кебеняк – род верхней одежды с башлыком.
[Закрыть], казацкие бараньи шапки, чернели гуцульские душегреи, свитки и ризы священников.
– Братке! – сказал повелительно Шаховской. – Вы не избирали Шуйского, и пущай он надевает хоть десять шуб – он не наш царь. Законный царь Димитрий Иоаннович с Божией помощью остался жив, выпрыгнув из окна. С телохранителями пробрался в Польшу, в нашу заступницу. Теперь он у своей тещи, княгини Мнишек. И вот-вот будет здесь. То подтвердит ваш предводитель и вождь, под чье знамя все должны, как один, встать. Вот он зараз перед вами, Иван по кличке Болотников.
Болотников влез на другую бочку, властно и зычно выкрикнул:
– Все, что здеся слыхали от воеводы, – сущая правда. Я только вчера своими глазами видал государя Димитрия.
– Вишь ты, святой воскрес!
– Димитрий жив, невредим, и таперчи мы пойдем под евонным знаменем и будем жечь, бить и топить всякую собаку, кто вякает за Шуйского. Да здравствует государь Димитрий!
Во всех концах площади дружно гаркнули сотни глоток:
– Да здравствует Димитрий!
Однако чей-то отрезвляющий голос предостерег:
– Опять кланяться польскому холую?
В толпу сейчас же кинулись стрельцы, и как ни лез куда погуще сказавший, его сыскали и потащили на воеводин двор.
После того заговорили по Путивлю:
– Живой царь Димитрий, не попустил Господь!
…Болотников делал смотры все увеличивающейся рати, которая больше напоминала шайку отчаянных людей, у которых в душе не было ни Бога ни черта – одно лишь алчное желание пограбить да покутить. Шли беглые и поротые мужички, холопы, злые, яростные. Болотников, поглядывая на них, говорил:
– Ну что, ребятушки, умоем Шубника? А на царя Димитрия можете положиться. Евонным именем даю вам право грабить имения. Женок и дочек боярских али княжеских можете брать в жены. Можете драть их, кто скольки горазд. – Его внимание привлек кривой, в кебеняке с одним рукавом, в холщовых портках, заплата на заплате, в чунях, настолько худых, что торчали грязные, с собачьими когтями пальцы, босяк. Что-то в этой отпетой, с гулящим, пронзительным ржавым глазом, физиономии привлекло внимание Болотникова. Босяк сидел при дороге около разведенного огня, помешивая ложкой в черном, как сажа, котелке какое-то варево; он шарил пальцами по исподнице, разложенной на коленях, – бил блох и вошек.