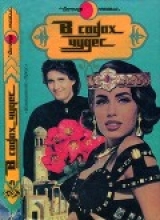
Текст книги "В садах чудес"
Автор книги: Клари Ботонд
Соавторы: Якоб Ланг,Жанна Бернар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
Маргарету похоронили тихо, в старом склепе.
Дня через два после похорон Михал осторожно постучался в дверь комнаты Иваны.
Родители сидели у постели дочери. Она уже чувствовала себя лучше.
– Войди, Михал, – спокойно произнес Реджеб.
– Как ты узнал, что это я? – сумрачно спросил юноша.
– А я решил, что ты должен стучать очень тихо.
Ивана повернула голову:
– Пусть он уйдет! Я не хочу говорить с убийцей!
– Теперь, – лицо Михала совсем помрачнело. – Теперь я тебе не ровня. Теперь думаешь, тебе найдут мужа побогаче, а, может, и познатнее. Там, откуда твой отец родом.
Слово «отец» он произнес почти примирительно.
– Ты бы лучше ушел, Михал, – сказала Кларинда. – Она еще слабая, ты мучаешь ее.
Михал молча отвернулся и хотел было выйти. Голос девушки остановил его. Реджеб улыбнулся.
– Твой отец был убит в честном поединке, – начала Ивана. – И я сержусь на тебя вовсе не за то, что ты хотел отнять отца у меня, когда я только нашла его. Пусть ты не думаешь обо мне. Пусть! Но за что ты хотел наказать мою бедную мать, отнять у нес человека, которого она любит!
– Я ни у кого ничего не хочу отнимать, – произнес Михал беззащитным от кротости голосом.
– У меня вот какая мысль, – безразлично заметил Реджеб, отвернувшись к окну. – Мы вернемся в город. Никто ничего не скажет, ни о чем не догадается! Я вернусь с женой. Моя жена – законная владелица Гезале! Но после свадьбы во владение замком и угодьями вступят Михал и Ивана. А мы уедем. Вероятно, на мою родину.
– После чьей свадьбы? – иронически полюбопытствовал Михал.
– Твоей, разумеется! Я как-то привык обходиться без свадеб!
Спустя примерно двадцать пять лет после описанных событий, армия Сулеймана разбила под Мохачем венгерскую армию, которой командовал Януш Запольи. Буда и Альфельд попали под власть османов. И долго еще мятежный полководец вел борьбу за целостность венгерского государства, распавшегося на отдельные княжества и провинции. Пока не сложил свою буйную голову.
В музеях Будапешта можно увидеть несколько портретов Януша Запольи.
В то же самое время молодой чиновник султанской канцелярии Мехмед Нешри начал работу над выдающимся произведением османской историографии, хроникой становления и расцвета великой империи, – «Зерцало истины».
Сохранились два портрета Мехмеда Нешри. Один из них находится в Истанбульском дворцовом музее, второй – в частном собрании в Венеции. До сих пор неясно, какой их них является подлинником, а какой – всего лишь копия. Потому что фактически это один и тот же портрет.
И если сравнить портреты Януша Запольи и Мехмеда Нешри, видно, как они похожи! Но, разумеется, в этом нет ничего удивительного, когда…
…когда восстание
подавлено
и на улицах еще стреляют
И женщины бегут из магазина в магазин
и кошельки сжимают в потных кулачках
На мусорных бачках
соседские играют дети
изображая танки и танкистов
А я вхожу с тобой в кафе на Пашарете
пока еще открыто
«Девушка, а вы еще не закрываетесь, а?»
будем кофе пить с пирожными
Вот это прежний я
Мой галстук
Узел завяжи
стяни широкий пестрый
Ты видишь, в галстучной булавке
стеклянный шарик
Посмотри,
в нем, словно в маленьком окне,
ты видишь, человек в чалме
он скачет на коне
Вот… видишь…
Он скачет в объемном крохотном пространстве,
где, молча, действует закон,
неограничивающий его свободу
А здесь, во мгле реальностей,
свободен только он
который никакому не принадлежит народу
Он – сказка
вот и все!
О философии, свободе и пирожных мы поговорим
на Пашарете.
Провода висят
Автобусы не ходят
Выбитые стекла
Кого-то
убили у консерватории
О-о!
И мальчики в перчатках из нейлона
смущенно
держат сигарету до конца
А критик Виллибальд Алексис говорит о ранних пьесах
Гейне
«У господина Гейне – все мавры – евреи!»
Нет, не прощайте, критик
вас не быть не может
иначе жизнь
преснятина
Прощайте, комната студента,
девочка моя,
где мы
где я,
зажмурясь, постигал твой алфавит
и сладко проникался
литерой «А»
которая дворец
Нам все же остается пух твоих подмышек
и запах —
как ты говоришь? —
каштановый? —
мой тополиный ствол…
Купи шубку и закажи меховые сапожки
А кровать —
возможно, в стиле Бидермейер —
продается
Возможно, нам еще пешком идти придется
проводнику все деньги отдавать
А вы, похожие на кротов,
хотите выдумку предать огню
А я бездумно сочинять готов
и нелепые сказки ценю!
Шагайте в том или в другом строю
на тот или другой собирайтесь бал
Я жизнь в лицо не узнаю
зато я все читал!
Я втаскиваю чемодан в вагон
Ау, носильщики!
Наперченная колбаса на станции,
прощай!
«Эй, эмигранты, покрепче держитесь на поворотах!» —
кричит проводник
Пошел, пошел вагон!
Последний – на перрон – окурок
Прощай, мой город!
В последний раз
Прощайте, город
австрийских Фердинандов, русских танков
и трансильванских турок!
И только критик Виллибальд Алексис,
не прощайте нас!
Хлещите нас веревкой
жгите нас огнем,
чтобы отчаяньем пылали наши строки!..
Я говорю душе:
Не прекословь
уйдем от времени
впадем в моря
Со мною светлая
со мной любовь
Со мной жемчужина моя!
Из мрака, из тьмы
уносимся прочь
А там впереди
все та же ночь
А небо, а море, а солнца свет?
Во времени? В пространстве?
О, нет!
И разом от слов родных отвык
мой гибкий бездумный язык
И бредет в одиночестве наша судьба
по улице Гюль-баба
Никто на заметил, никто не спас
Безумная, ищет нас
Одна, без нас, наша судьба
О, одинокая наша судьба
О, улица Гюль-баба!
Якоб Ланг
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Якоб Ланг (1900–1948) – немецкий писатель. В конце тридцатых годов вынужден был эмигрировать. Покончил с собой в Нью-Йорке в 1948 году. Автор более двадцати авантюрных и фантастических романов, среди которых выделяются – «Тайна магического знания», «Крыса», «Странная история Мальвины», «Наложница фараона», «Ведьма». Якоб Ланг также является автором нескольких сборников стихов – «Караван», «Рисунок свадьбы», «Видения маленького мальчика», «Книга моей Сибиллы». В 1928 году Якоб Ланг опубликовал научную работу «Частная жизнь древнего египтянина».
Jakob Lang«Das zauberhafte wissen».Berlin, Leipzig und Stuttgard, 1952.

Тайна магического знания
Глава перваяПробуждение
Первое утреннее ощущение, когда открываешь глаза, – холод. Тонкое одеяло (впрочем, фрау Минна уверяет, будто оно из верблюжьей шерсти) воспринимаешь как единственную защиту от этого равнодушного холода. Именно равнодушного. Не злого, нет, но равнодушного. Торопишься сжаться в комок, подтянуть к груди руки и ноги. Одна только мысль об умывальном кувшине, наполненном, разумеется, опять же ледяной водой, ужасает. Хорошо бы закрыть глаза и снова заснуть. Но спать уже не хочется. Во рту тошнотворный привкус. Вчерашний коньяк? Если это можно назвать коньяком!
Эти обои – продольные полосы, прореженные ромбами, чуть темнее общего бледно-зеленого фона. И все это вместе – холодный воздух, холодная вода в кувшине, зеленоватая твердость стены, все это почему-то наводит на мысль о стерильном жестком равнодушии больницы. Да, да, да.
Хотя, в сущности, такая квартирная хозяйка, как фрау Минна, разве это не находка? Идеальная чистота, умеренная плата, не досаждает разговорами, советами, расспросами, воспоминаниями о покойных мужьях, и так далее. Он здесь уже два месяца, а ведь он ничего о ней не знает. Кто она? Плотная женщина с этими какого-то стального оттенка, коротко остриженными седыми волосами, с этими равнодушными серыми глазами.
Будильник молчит. В полуприкрытое шторой окно просачивается серый смутный свет холодного городского утра. Еще рано. Часов шесть, наверное. Можно лежать, привыкая к холоду, и думать.
Значит, какова ситуация на сегодняшний день? Тебя зовут Пауль Гольдштайн. Двадцать три года. Университетское образование. Филолог. Диссертация – «Особенности творчества Вильгельма Гауфа как представителя немецкой позднеромантической традиции». Сегодня эта диссертация не нужна никому, и прежде всего – тому, кто ее написал.
История Пауля Гольдштайна – по сути дела, очень обычная история. После окончания университета в Берлине – возвращение в родной Айзенах, где отец считается лучшим практикующим акушером-гинекологом. Но что делать в провинции молодому человеку, пишущему стихи с тринадцати лет? Конечно, в Айзенахе когда-то родился Бах. Но все равно Айзенах – это провинция. И Паулю Гольдштайну там делать нечего. А что делать в Айзенахе Паулю Гольдштайну? Давать репортажи в местную центральную газету в отдел происшествий? Или писать в две другие местные (нецентральные) газеты рецензии на концерты классической музыки в Рококо-зале? И вот Пауль Гольдштайн возвращается в Берлин. Скромное денежное пособие, ежемесячно высылаемое отцом, поддерживает его силы; а несколько научных статей и опубликованные в берлинских газетах заметки дают иллюзию, будто он сам себя содержит.
Как все поэты, чье отрочество пришлось на годы Первой мировой войны, Пауль одержим идеей Апокалипсиса. Об этом, а также о далеких бразильских пальмах повествуют шесть стихотворений Пауля Гольдштайна, напечатанных в одном поэтическом альманахе, в редакции которого Паулю доброжелательно намекнули на то, что фамилия «Гольдштайн» – недостаточно арийская, и предложили придумать псевдоним. И Пауль придумал себе псевдоним – «Кениг». Если «Гольдштайн» – это «слиток золота», то «кениг» – это «король». Звучит достаточно вызывающе.
Паулю много раз говорили о том, что стихи его талантливы. Приходилось ему слышать и слово «гений», но он не из тех, кто склонен упиваться подобными эпитетами. Для Пауля главное – его внутренняя уверенность в том, что его стихи – настоящие.
Михаэлю Пауль доверяет, и вовсе не только потому, что Михаэль высоко оценивает стихи Пауля, но потому что Пауль чувствует – суждения Михаэля точны и оригинальны.
– Когда читаешь стихи Кенига, – задумчиво говорит Михаэль, – возникает странное ощущение… я бы назвал это уверенностью… уверенностью в том, что романтические стихи Пауля Кенига – отнюдь не есть некая компоновка деталей, вольно надерганных из книг, как это обычно бывает. Нет, когда я прочитываю уже первые три-четыре строки, мне начинает казаться, будто поэт…
– Все это видел на самом деле! – издевательски доканчивает резкая угловатая Рената, пишущая короткие новеллы о женщинах из рабочих кварталов.
– Оставь этот издевательский тон! – вмешивался Александер, еще один прозаик в этой компании молодых писателей. – И мне тоже всегда кажется, будто Пауль описывает то, что он действительно видел!
– Я только хочу добавить, – подытоживает Михаэль, – что мне совершенно безразлично, каким способом достигается этот необычайный эффект подлинности, мне важно, что он существует. И при этом под этим понятием «подлинности» я подразумеваю вовсе не какое-то плоское жизнеподобие, но это ощущение яркости, свежести…
Тут вступает в разговор еще кто-нибудь, и еще, и еще…
Пауль и сам о себе знает, что у него, то что называется, богатое воображение. Порою он чувствует, что все эти каждодневные впечатления обыденной жизни, все прочитанное и услышанное, все, что заполняет мозг и затрагивает душу, всего лишь не допускает туда какие-то иные ощущения и картины и впечатления. Когда Пауль отвлечен от всей этой многообразной обыденности, особенно часто это, конечно, случается по ночам, тогда его сознание заполняют странные видения. Иной раз он задумывался о том, является ли это аномалией? Для поэта, разумеется, нет. И, кроме того, Пауль Гольдштайн отнюдь не производит впечатления безумца. Это спокойный, в меру общительный юноша, довольно высокий, стройный, темно-каштановые пряди спадают на лоб, лоб у Пауля высокий. Карие глаза глядят доброжелательно. Короче, вид у него располагающий.
Но вот этой ночью… Он снова видел. И он не может сказать, что это было во сне. Правда, медики пишут о просоночном состоянии – что-то промежуточное, какое-то пространство между сном и бодрствованием. Но Пауль готов поклясться, что все это происходило наяву. Наяву, но… Он одновременно был там, в той другой действительности, и здесь – лежал на постели в холодной комнате, словно загипсованный, не в силах шевельнуться, ощущая свое тело каким-то бесформенным камнем.
Он ощущал тепло. Одновременно – в одной действительности, где его тело было странно-окаменелым, ощущал холод; в другой, где тело было живым, подвижным, но призрачным каким-то, ощущал тепло. Но это было не то тепло, не настоящее. А какое должно было быть настоящее? Он не знал.
А это было тепло костра. Это было за городом. Но это было довольно давно. Он был одет в пальто, и шляпа на голове. И он полагал, что это, должно быть, где-то середина девятнадцатого века. Но тот, другой «он», в «другой действительности», отлично знал, какой это год и как называется пальто, и все это было для него обыденной действительностью, но Пауль на постели в холодной комнате ничего этого не знал.
Город был – Берлин. Пригород? Обширный, наводящий уныние пустырь. Снег неопрятными клоками покрыл редкие, торчком стоящие голые черные кусты. Земля тоже была черная и вытоптанная. Потрескивал костерок. Горсточка красноты на черно-белой земле. Поодаль остановилась цыганская кибитка. Конь был впряжен и переступал с ноги на ногу, насторожив уши, потом выронил комья навоза. Они задымились на холоде. Несколько цыган, мужчин и женщин, жались у костра. Пауль остановился поодаль. Он был чужим для этих людей. Чего он ждал? Он видел их не в первый раз. Припоминалось другое – комната с высоким сводчатым потолком, столы. Трактир? При свете свечей он тогда различал их лица. Крупные черты, отчужденное очарование Востока, которое, конечно же никак не соответствовало внутренней сути этих людей. Он знал, что они грубы, примитивны, что напрасно толкуют об их свободе пресловутой; грубейшая и примитивнейшая субординация царит в их среде; если они от чего-то и свободны, так только от тех понятий гуманизма, что составляют смысл европейской культуры. С детства им внушено, что все люди (то есть большинство людей), не принадлежащие к их клану, существа низшие и потому всех людей можно обманывать и презирать. И сейчас, стоя у костра, поодаль от Пауля, они видели его и презирали. Но у него-то откуда бралось это раздражение? Что он хотел загасить, разжигая в душе именно это чувство?
Они кутались в какое-то темное тряпье. При дневном свете их лица казались менее таинственными. На самом деле он знал, что это все из-за нее. Он нарочно повернулся спиной. Он знал, что она среди них, она родилась среди них и всегда жила. И то, что ему показалось, будто она не похожа на них, то – иллюзия.
Он резко обернулся. Он не мог смотреть на нее непрерывно, делалось слишком больно. Длинная темная юбка скрывала ее маленькие ступни в темных, немного великоватых ей башмаках. Она куталась в коричневый платок с кистями. Было больно видеть ее черные волосы, свободно падавшие на плечи и на щеки, светло-смуглое лицо, оттененное черными бровями, нежные глаза и губы. И все это выражение нежности, мягкости и беззащитности. И вся, какая она была, худенькая и высокая, с чуть широковатыми плечами, с какой-то открытой порывистостью жестов и с этой по-детски наклоненной черноволосой головой.
Затем он очнулся. На самом деле (впрочем, где оно существовало – это «на самом деле» – здесь, в комнате с холодными стенами, оклеенными бледно-зелеными обоями, или там, на заснеженном пустыре у костра?), на самом деле он этой девушки не знал, никогда не видел ее. И влюбленность, которая его терзала в «другой действительности», не была такой мучительной для молодого поэта, жившего сегодня… А то, значит, было вчера, давно, когда-то? И все равно влюбленность была. Но все должно было произойти иначе. Как? Он не знал.
Он не мог сказать, что его стихи, то, что называется, замечены критикой, если не считать нескольких строк в одной из статей Михаэля. Хотя… о Пауле Кениге говорили, многим его имя было известно.
Ему нравилась эта жизнь, эта сосредоточенность на литературных сплетнях, на мнениях о своих и чужих стихах и прозе. Все остальное в жизни – политика, быт – воспринималось как нечто вспомогательное, служащее лишь почвой для создания истинного бытия, то есть литературы.
Ему нравилась вся эта беготня по редакциям и издательствам, шумные и, наоборот, тихие компании; кафе, кабаки, ни к чему не обязывающие, быстро прерывающиеся любовные связи. Нравилась даже неустроенность, нехватка денег. Интуитивно он чувствовал, что все это даже подстегивает его талант, но все это должно быть ограничено известными пределами, переход за которые уже будет означать отчаяние, отупение и полную невозможность работать, писать.
Комнату у фрау Минны ему устроил Александер. Александер одно время сам занимал эту комнату, и честно предупредил Пауля о том, что несмотря на дешевизну, лично его Александера, не устроил мрачный характер хозяйки, она производила на него гнетущее впечатление. Пауль поблагодарил. Он считал, что не отличается подобной нервностью, но, честно говоря, фрау Минна, когда он познакомился с ней, и его чем-то даже напугала.
После не особенно чистой лестницы стерильная чистота ее квартиры казалась странной. Паулю почему-то пришло в голову, что эта женщина должна ходить по своей квартире в белом медицинском халате. Алекс представил его. Она посмотрела на своего потенциального жильца равнодушно, плотная, с этой стальной стрижкой, кивнула, сказала свои условия. Внезапно Паулю пришла в голову еще одна, совершенно четкая мысль. Он даже как бы увидел это – как фрау Минна предлагает Алексу съехать, называет какую-нибудь ничтожную причину, какой-нибудь поздний приход домой или беспорядок в комнате. Но на самом деле причина вовсе не в этом. А в чем?
Квартирная хозяйка была равнодушна, но в этом равнодушии Паулю порой ощущались какая-то услужливость, даже заискивающее что-то. Иногда ему казалось, что фрау Минна приглядывается к нему. И вдруг возникало ощущение, что она радуется ему какою-то странной радостью.
Но на подобных ощущениях он старался не сосредотачиваться, слишком уж это… нелепо как-то. И когда Алекс спросил его, как ему комната и хозяйка, Пауль ответил, что хозяйка и впрямь мрачновата, но терпеть можно.
– А кто она, в сущности?
– Не знаю, – Алекс пожал плечами, – меня познакомила с ней Берта.
– Так она и девушкам сдает комнату?
– Ну да. А что в этом такого? Почему ты так встрепенулся?
Пауль и сам не мог понять, почему задал этот вопрос, что удивило его. Сдает. Комнату. Девушке или юноше, не все ли равно.
– Кем может быть квартирная хозяйка? – продолжил Александер. – Вдовой, скорее всего, которой не хватает пенсии покойного супруга.
Тема фрау Минны неожиданно была исчерпана и разговор перешел на другие темы. Но…
Резкий звонок будильника прервал размышления Пауля. Теперь надо было быстро откинуть одеяло и решительно приступить к умыванию холодной водой.
Глава втораяКниги и картины
Пауль был одним из тех (вероятно, все же таких людей следует называть «посвященными» или «немногими»), кто приходит в музей или в библиотеку просто потому что хочется, а вовсе не потому что «так принято» или нужно подготовиться к экзамену или музей является достопримечательностью, включенной в непременный туристский маршрут.
В музее Пауль, минуя группы, старательно слушавшие гидов, направлялся в тот зал, который его интересовал сегодня. Молодой человек останавливался против той картины или скульптуры, которая его привлекала сегодня, сию минуту, и подолгу рассматривал это произведение искусства. Он смотрел на картину или статую, потому что ему этого хотелось, а не потому что данная картина или статуя считалась выдающейся. Пауль и сам сознавал, что таких наслаждающихся внутренней свободой счастливцев не так уж много.
Сумрачным утром, холодным и сырым, Пауль заглянул в музей ненадолго. После очередного визита в редакцию газеты, где должны были опубликовать его короткое эссе об общих направлениях развития современной поэзии, Пауль собирался прямиком направиться в библиотеку. Но вдруг изменил маршрут.
Что потянуло его в музей? Какое-то подсознательное стремление к поиску истинного тепла. Уже неделю примерно он ощущал это стремление – отыскать некое тепло. Это было немного странно, но он как-то даже не очень задумывался над тем, что бы это могло значить. Человек искусства имеет право на самые странные, необъяснимые ощущения и стремления.
Пауль прошелся быстрым шагом по залам, не находя того, что могло бы заставить его почувствовать удовлетворение. Это стремление к поиску сделалось сильным и навязчивым, он уже ощущал его как нечто независимое от его личности, нечто привнесенное. Пауль немного встревожился. Подобные ощущения – не признак ли нервного расстройства? Но тут он почувствовал желанное тепло, близость успокоения. Он вошел.
В зале египетских древностей ему показалось, что все встало на свое место, всему нашлось объяснение. В комнате, где он спал, было холодно. Ночью ему несколько раз снились цыгане у костра. Вероятно, этот сон – реакция на холод. Цыган в Европе еще зовут «египтянами», хотя они выходцы из Индии, должно быть, а не из Египта. И вот возникло подсознательное желание как бы прикоснуться к египетскому теплу. Почему Египет, цыгане? Но ведь он занимался немецким романтизмом. Значит, повесть Ахима фон Арнима «Изабелла Египетская» – о цыганке, о магических действиях; значит, Гофман и гравер Калло с его циклом гравюр, изображающих цыган.
Итак, все стало понятно, все соединилось в одну вполне четкую цепочку логических взаимосвязей. Только где-то в самой глубине души осталось ощущение, что истина – вне этой логики. Но Пауль подавил это ощущение усилием воли, ему не хотелось снова упереться в хаос и непонимание. Ведь хаос и непонимание закономерно порождают страх.
В зале доминировали голубой и коричневый цвета. Казалось, все здесь излучает тепло, то самое тепло, к которому так стремилась душа Пауля. Все выставленные предметы виделись маленькими или, во всяком случае, небольших сравнительно размеров. Вынесенные бурными волнами времени из какой-то давней далекой-далекой действительности, где они жили естественно и обыденно, теперь все эти предметы так хрупки, так беззащитны. Такое чувство одиночества и пережитой катастрофы излучает каждый из них; такая усталая отрешенность и дряхлость чувствуются в камне и темном дереве, из которых все это сотворено. Грация полуобнаженных, оцепенелых фигур, очарование глиняной и деревянной простой посуды. А вот и копия известной настенной росписи – девушки с черными косичками, спускающимися на плечи. Огромные продолговатые глаза, черные зрачки, открытые руки и ступни. Пауль ощутил особенную нежность к этим изображениям, они напоминали цыганскую девушку из его сна. Это тепло, разлитое в воздухе, было, должно быть, теплом земли, где все произрастает легко, где голубизна и чернота и охра – иные, чем здесь, в нашем холодном сумеречном времени – иные – легкие, пронизанные светлым открытым солнцем.
«Надо будет заглянуть сюда еще раз», – подумал Пауль.
На улице его встретила сырость поздней затянувшейся осени, никак не желающей переходить в морозную зиму. Юноша поднял воротник пальто, сегодня он забыл дома шляпу. Все наводило тоскливую неудовлетворенность – сырость и промозглость, стальные трамвайные рельсы, и сам трамвай, подошедший с этим вульгарным раздражающим звоном. До библиотеки надо было проехать несколько остановок. В толчее серых помятых физиономий и серых плотных и неуклюжих одеяний, прикрывающих неуклюжие бледные тела, которые даже ночью обнажают со стыдом. Пауль отвернулся к окну. Уныние шиферных крыш, окон и мостовой все же лучше унылого вида всех этих людей.
В библиотеке надо было оставить пальто в раздевалке, взять книгу, сесть за стол. И… наконец-то отключиться.
Сегодня он взял несколько книг, посвященных Древнему Египту. Но не хотелось вникать в подробные скрупулезные профессорские описания. Тотчас забывались сведения, прочитанные на аккуратных страницах, вылетали из памяти факты и точные цифры. Но нарастало ощущение. Комплекс ощущений, сложных, разнообразных. Снова и снова он любовался всеми этими странно пластичными в скованности фигурами, продолговатыми глазами, черными зрачками, повернутыми в профиль лицами. Многочисленные контурные изображения хищных птиц, коз, быков, гиппопотамов были исполненны странного таинства. Он осознал – почему. В этих существах ощущали божественное начало. Трогательны были маленькие жуки с растопыренными согнутыми лапками, замершие в окружении иероглифических значков.
Но чудеснее всего оказались женщины. Мучительное умиление охватывало Пауля вновь и вновь. Ему не хотелось отрываться от всего этого. Все это было каким-то сладостным, наркотически-сладостным, дурманящим. Он ощущал свое тело, всего себя неуклюжим, тяжеловесным. И некая частица, невесомая, но значимая, его существа, словно бы отделялась в стремлении слиться с этим миром, открывавшимся в книгах.
Пауль просто заставил себя подняться. Все это становилось слишком уж мучительным, похожим на странно затянувшийся оргазм.
И, очутившись снова на улице, он почувствовал уже не раздражение, а даже какую-то благодарность к этой окружившей его обыденности.








