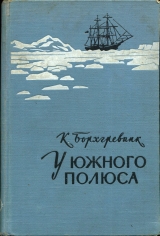
Текст книги "У Южного полюса"
Автор книги: Карстен Борхгревинк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
продовольствие на остров Йорк и принять меры к их розыску.
7 октября в 5 часов утра я пустился в одиночку в путь в
сопровождении шести собак, уложив на сани максимальное
количество продовольствия. Я шел на лыжах впереди, за мной
следовали собаки, тащившие сани.
К полудню того же дня я вошел в хижину на острове Иорк.
Там стояла мертвая тишина. Не было ни Элефсена, ни Муста,
ни собак. Я стянул перчатку и положил руку на кусок тюленьего
жира, лежавший на очаге. Жир еще полностью не остыл, значит,
Муст и Элефсен не больше четырех часов назад были еще в
хижине. Вероятно они завтракали около восьми утра, и жир тогда
еще горел. Судя по наличию спальных мешков и различных
предметов оборудования, можно было думать, что хижина еще
не покинута и что перед своим отъездом на мыс Адэр обитатели
еще раз зайдут сюда. Понятно, нельзя было знать, когда именно
это случится.
Обмакнув свой указательный палец в расплавленный и
почерневший тюлений жир, я написал на куске парусины
несколько слов. Это было распоряжение Элефсену и Мусту немедленно
возвращаться на основную базу, захватив с собой лишь наиболее
ценные образцы из коллекций. Остальное можно будет увезти
весною на санях или же переправить летом на шлюпке.
После этого я поел холодного тюленьего мяса, отрезав его
от куска, висевшего под низким потолком на лыжном ремешке, и,
дав отдохнуть собакам, пустился в обратный путь к мысу Адэр.
Ровно в 11 часов вечера я уже был на основной базе на мысе
Адэр, здорово проголодавшийся, но не чрезмерно утомленный.
За время, прошедшее с 5 утра, я отмахал 46 английских
миль.
Мои товарищи, по собственному опыту знавшие о трудностях,
какие встречаются на пройденном мною пути, сначала не хотели
верить, что я успел побывать на острове Йорк. Убедившись же
в истине моих слов, они не могли скрыть своего восхищения.
Между тем состояние Гансона в последние дни сильно
ухудшилось. Каждый день можно было ждать катастрофы.
Привожу здесь несколько записей из моего дневника,
относящихся к этому печальному периоду.
Воскресенье, 8 октября. С Гансоном сегодня очень плохо.
Его самого беспокоит собственное состояние. Такого рода
беспокойство я замечаю у него впервые.
В 10 часов явились с острова Йорк с различными
коллекциями Элефсен и лапландец Муст.
3 часа дня. У Гансона рвота, что бы он ни съел. Врач неутомим
в своем уходе за ним, но состояние Гансона его явно озабочивает.
Остальным участникам экспедиции я поручил разного рода
работы вне дома.
Понедельник, 9 октября. Мы провели беспокойную ночь.
У Гансона все время возрастает одышка. Он жалуется на
чувство голода, однако не может удержать в себе проглоченное.
Много говорил со мною о родине и своих родных.
10 октября. Врач дежурил всю ночь. Время от времени он
дает Гансону лекарство. Я встретил его сегодня в
продовольственной кладовой, у ящика с медикаментами. Он рылся в какой-то
медицинской книге. Я спросил у него, что он думает о
состоянии Гансона.
– Если мне не удастся избавить его от повторной рвоты, то
положение станет серьезным,—сказал доктор.—Пищеварение
нарушено,—продолжал он,—виновата, быть может, слепая кишка.
После долгой зимы доктор сам имел нездоровый вид. Никогда
не забуду я тех минут, когда мы разговаривали с ним в тот день
в пристроенном к домику сарайчике,—не забуду его бледное
лицо, большие темные, выразительные глаза, в которых светило
беспокойство, седые волосы, падавшие на плечи (а, между тем,
ему едва исполнилось тридцать лет!).
5 часов вечера. Гансону хуже. У меня предчувствие, что мы
его потеряем. Врач все еще надеется его спасти.
Фоугнер поймал рыбу нового, до сих пор неизвестного вида.
Она имеет плоскую голову, длина которой в два раза превышает
ширину. Ее вытянутую морду образуют две длинные челюсти.
Носовые отверстия хорошо развиты и велики, голова занимает
почти треть всей длины тела.
Нижняя челюсть длиннее верхней. В нижней челюсти сидят
острые зубы хищника с направленными назад остриями. Спинка
ее темно-оливкового цвета, брюшко светлое. На голове имеются
темные пятна. Гансон рассматривал ее с большим интересом.
Бедняга! Он жалуется на то, что тело вышло из его
подчинения. С каким удовольствием вышел бы он сейчас на лед для
рыбной ловли.
Товарищи по экспедиции начали разговарить друг с другом
полушепотом—думаю, что они уже чуют надвигающуюся беду,
Сегодня я больше не сомневаюсь, что Гансон скоро умрет...
Врач сохраняет спокойствие. Когда он сидит около Гансона,
то внушает последнему уверенность в будущем. Однако потом
у доктора наступает упадок. По меньшей мере 48 часов он не
смыкал глаз. По моему настоянию он попытается сегодня ночью
немного поспать.
Среда, 11 октября. Состояние атмосферы, температура
воздуха и барометр указывают на приближение бури.
Сегодня видели коричневого поморника (Megalestris Mac-
cormicki).
Состояние Гансона сегодня резко ухудшилось, у него
непрерывная икота; внешний вид его, однако, неплохой. Силы
у Гансона еще настолько сохранились, что он может подняться
с постели и добраться до деревянного столика без посторонней
помощи.
Он проявил живой интерес, когда ему рассказывали о
пролетевшей коричневой чайке.
– Что ж,—сказал он,—близится весна, появятся съедобные
птичьи яйца, и я от них быстро поправлюсь. Досадно, что как
раз сейчас, когда я так охотно наблюдал бы прилетающих птиц,
я вынужден лежать.
Тут он вновь погрузился в печальное раздумье.
Я загрузил делами всех участников экспедиции. Все заняты
и кажутся спокойными. Никто ничего не говорит, но каждый
понимает, конечно, что с Гансоном дело обстоит плохо.
12 октября. Я дежурил сегодня около Гансона до пяти утра.
Доктор забрался на свою койку (она расположена над койкой
Гансона); ему удавалось время от времени задремать. Гансон
неспокоен; его мучит непрерывная судорожная икота.
Он так сильно потеет, что на подушку скатываются крупные
капли пота.
8 5 утра доктор сменил меня, расспросив сначала подробно
о состоянии Гансона ночью.
9 утра. Гансону стало как будто лучше. Доктор доволен его
пульсом.
12 часов. Гансон проявляет беспокойство. Состояние его,
по-видимому, улучшается. Он хочет есть, но в его желудке
ничто не удерживается.
Доктор решил, что у Гансона чрезмерная продукция
желудочного сока; он хочет провести операцию откачивания
излишней кислоты.
13 октября. Сегодня рано утром врач оперировал Гансона.
Путем прокола желудка с левой стороны он удалил избыточную
жидкость. Болей у Гансона после этого не было. Он стал
жаловаться лишь тогда, когда снова наступил приступ
сильной икоты.
– Мне теперь легче,—сказал Гансон спустя несколько
часов после операции.—Меня, наверно, делала больным избыточная
жидкость в желудке.
Врач, однако, считает, что эта операция была ни к чему. По
его мнению, не в порядке слепая кишка.
Теперь он делает Гансону частые уколы, которые его
успокаивают и в то же время стимулируют жизненные силы.
Гансон просит пощадить его и меньше колоть. Врач терпеливо
дежурит у постели больного и Ьремя от времени щупает его
пульс.
Все люди, за исключением врача и Фоугнера, которого я дал
ему в помощь, пошли отдыхать в сравнительно уютную большую
зеленую палатку.
Я сам попытаюсь немного отдохнуть в своем спальном мешке
между ящиками с продовольствием.
14 октября в 2 часа утра меня разбудил Фоугнер и сообщил,
что Гансон умирает и обязательно хочет перед смертью
поговорить со мной.
Войдя в домик, я нашел Гансона лежащим на койке; он
был спокоен и сохранял полное самообладание. Доктор сидел
на табурете возле него и уступил мне место, когда я вошел.
– С добрым утром,—произнес Гансон,—доктор сказал, что
мне осталось жить недолго. Слова его, конечно, оправдаются.
Я, собственно, был уже к этому почти подготовлен; к тому же
особенных болей я не испытываю, мучит меня только
постоянная икота. Жаль мне очень, что я не смогу довести до конца
свою работу; как раз теперь, когда весна не за горами, мне бы
особенно хотелось еще немного пожить. Много бывает дела,
когда появляются птицы.
Затем он спросил меня, как я думаю распределить лежащие
на нем обязанности после его смерти.
Я сказал, что поручу Фоугнеру коллекционирование и
подготовку препаратов морской фауны, а Ивенсу наблюдения над
птицами и тюленями, но что им нужно будет дать в помощь еще
кого-нибудь. Он слушал меня с большим интересом.
Затем он возобновил разговор:
– Скажи, друг, где вы меня похороните?
Я ответил:
– Там, где ты захочешь.
– Помнишь ли ты большой валун там, высоко на мысе Адэр?
В тысяче футов над уровнем моря. Мы были там как-то в
воскресенье полгода назад? Там, в сени большого камня, хотел бы
я лежать... Впрочем, нелегко ведь вырыть могилу в промерзшей
земле. Вы положите меня, верно, в гробу...
Я обещал ему, что все его желания будут в точности
выполнены.
Затем мы говорили о его доме и близких.
– Поверь мне, Борхгревинк,—сказал он,—когда мы в
начале экспедиции прощались с Христианией, я ощущал переход
к новому этапу сильней, чем сейчас, когда я навсегда расстаюсь
с этим миром! У меня такое чувство, будто я отправляюсь в
долгий, долгий путь. Ничего нет в смерти особенного. Я представлял
ее себе совсем по-другому... Хорошо, пожалуй, что я умираю
тут и не вижу слез близких людей.
Затем он вновь посетовал на то, что не сможет довести до
конца свою работу.
По всему его телу выступил обильный пот. Однако болей,
сказал Гансон, он не испытывает никаких. Он благодарил меня
за все проявления добрых чувств, которые встретил в лагере
с моей стороны, и передавал приветы на родину. После этого
попросил позвать остальных товарищей.
Один за другим появлялись люди с обветренными лицами,
держа в руках меховые шапки. Один за другим подходили они
к койке Гансона, чтобы сказать ему последнее «прости».
Печально торжественной была в ту ночь минута, когда мы все
в последний раз собрались вдесятером. Перед моими глазами
стоит как живое и сейчас обрамленное седыми волосами
печальное лицо доктора, сообщающего всем собравшимся, что часы
Гансона сочтены...
Ныне и доктор перешел в тот великий неведомый мир, где
вечно сияет полуночное солнце...
У Гансона нашлось дружеское слово для каждого. Когда
все простились с ним и поблагодарили его за то, что он был
нам добрым товарищем, он вдруг ощутил прилив
жизненных сил.
– А что бы вы сказали, ребята, если б я сейчас с вами
побежал на лыжах?—и он рассмеялся...
Тихо покидали товарищи домик.
Последними уходили лапландцы.
– Кончилась, Муст, навсегда моя охота на
тюленей,—сказал Гансон, и лапландцы тоже покинули домик. По щекам их
струились слезы...
Затем мы с Гансоном еще поговорили немного. Вслед за этим
я оставил его, пообещав скоро вернуться. Занявший мое место
врач получил от него несколько личных поручений и
распоряжений для передачи родственникам.
15 октября. С рассветом Гансону стало значительно лучше.
Врач сообщил мне с великой радостью, что состояние Гансона
заметно улучшилось и что он не вырвал съеденную пищу.
Гансон производил впечатление человека, еще полного сил,,
и никак не походил по своему облику на умирающего.
В 11 часов пришли сказать, что на мыс Адэр вернулся
первый пингвин. Гансон воспринял эту весть с живейшим интересом.
Он попросил меня убить птицу и принести ее к его койке.
Внимательно осмотрев мертвого пингвина, Гансон установил, что
перед нами немолодое животное.
' – Как раз теперь надо было бы мне жить,—сказал он,—
теперь, когда весна вот-вот наступит.
Солнце снаружи ярко светило. Был один из лучших дней,
какие только выпадали на долю экспедиции...
В 12 часов у Гансона наступила рвота и сильное
беспокойство. Он стремился беспрестанно изменить положение и просид
перенести его на другую койку.
Мы сколотили новую койку и поставили ее посреди дома.
Шерстяное одеяло повесили так, чтобы свет снаружи не падал
на лицо Гансона (это его, по-видимому, беспокоило). Однако
Гансон выразил желание еще раз увидеть солнечный свет. Доктор
убрал одеяло и открыл окно. Свежий воздух и солнечные лучи
ворвались в комнату.
Гансон вновь как бы обрел силы, полностью и радостно
улыбнулся солнечному свету. Затем он опять погрустнел и сказал:
– Надо же было так случиться, чтобы я покидал свет как
раз теперь, когда наступает весна и возвращается «Южный
Крест». С какой бы радостью вернулся я домой вместе с вами
после всех трудов и лишений.
Он глубоко вздохнул и попросил нас вновь завесить окно.
В последний час с Гансоном оставались лишь я и доктор.
За полчаса до смерти Гансон сказал мне, что не испытывает
никаких болей и чувствует только «онемение» в левой руке.
Он говорил ясным громким голосом и выглядел
относительно неплохо; его выразительные глаза неестественно
блестели.
Доктор, который накануне вечером получил от Гансона
несколько записных книжек и заметки на отдельных листках,
передал их мне, рассказав о содержании каждой записной книжки
в отдельности. Но я не был расположен в этот момент
углубиться в их изучение.
От имени всей экспедиции я принес Гансону слова
благодарности за его труды...
Это произошло в 2 ч. 30м. пополудни. После этого я оставил
палатку и выпил чашку холодного кофе. Никого из людей в
помещении не было. Я заметил их на северном берегу полуострова,
где они следили за стаями пингвинов, спешивших к
полуострову.
Множество коричневых поморников, высоко летая,
внимательно наблюдало за перемещением пингвинов.
После моего возвращения в домик у Гансона вновь была
сильная рвота, и он потерял сознание.
В 3 часа он испустил последний вздох; присутствовали при
этом только Клевстад и я; Клевстад в это мгновение молча
протянул мне руку.
Я спросил доктора о причине смерти.
– По всей вероятности, воспаление слепой
кишки,—прозвучало в ответ. Поскольку врач не был абсолютно уверен в
диагнозе, я предложил сделать вскрытие. Из уважения к памяти
умершего, учитывая заинтересованность в этом деле родных,
а также членов экспедиции, доктор немедленно выразил
согласие.
Я лично присутствовал на вскрытии. Заворот кишок...—
непроходимость кишечника—таков был диагноз.
– Однако,—заявил врач,—причина смерти не имеет ничего
общего с тем заболеванием, которым Гансон страдал в течение
целого года.
Глубокая печаль охватила наш маленький лагерь после
смерти Гансона.
Все мы за это время сильно сблизились друг с другом.
Каждый привык опираться на других, и теперь мы болезненно
ощущали отсутствие одного из товарищей, ушедшего навеки.
Гансон лежал, укутанный почти до подбородка в норвежский
флаг. Выражение лица его было мягким и спокойным. Из-за
мороза черты лица не менялись. Лицо его было словно изваяно
из мрамора.
Все были в сборе, я выполнил обряд короткого богослужения.
После этого мы перенесли нашего мертвого друга под навес,
на мороз.
Когда в тот вечер мы собрались вместе в домике, горе от
утраты с новой силой охватило нас» Напрасно пытались мы успо
коить себя с помощью холодного голоса рассудка. Жара нашей
душевной боли не мог охладить и господствовавший кругом холод...
Этой ночью была ужасная погода. На следующий день
бушевал такой шторм, что вне помещения нельзя было находиться.
Поэтому мы вынуждены были отодвинуть день погребения Ган-
сона.
Ветер завывал, каменный дождь барабанил по крыше, а
Гансон тихо покоился под навесом, и ничего не доходило до
него.
И все же мы не считали, что можем его там оставлять одного.
Мы чувствовали потребность время от времени пойти и
взглянуть на него при свете фонаря. И в жилом помещении люди
говорили пониженным тоном, как бы боясь разбудить
спящего.
16-го я послал Берначчи и Ивенса вверх по склону мыса
с тем, чтобы вырыть могилу близ валуна. Ветер сдул снежный
покров с мыса, тем не менее рыть в твердом промерзшем грунте
из гальки и камней было невозможно. На следующий день они
захватили с собой динамит и с помощью взрыва сделали яму
глубиной свыше 5 футов.
Под слоем гальки в 1 фут и 6 дюймов они увидели пласт
льда, который являлся, бесспорно, частью бывшего ледника.
На старом леднике теперь лежал слой щебня. Он накапливался
здесь постепенно, по мере того как сильный юго-восточный ветер
сметал его с горного кряжа книзу.
Фоугнер и Колбек изготовили гроб.
18 октября в 6V2 часов вечера мы положили нашего мертвого
друга в сколоченный из досок гроб. Гроб поместили на сани,
поставленные возле домика.
Лапландцы попросили разрешения совершить отпевание.
Было трогательно смотреть на этих двух детей природы, когда они,
обнажив, несмотря на сильный мороз, головы, стояли там и
исполняли лапландские песнопения... Время от времени они
прерывали пение и обращались на своем родном языке к
бездыханному телу Гансона; по их щекам текли слезы.
Они испытывали большое удовлетворение от того, что им
было разрешено оказать Гансону последнюю честь, и, казалось,
несколько успокоились после этого.
Это хотя и необычное, но безыскусственное богослужение
оказало также и на остальных людей успокаивающее влияние.
Теперь нас оставалось только девять человек на большом
и пустынном континенте у Южного полюса.
Когда мы уменьшимся в числе до восьми человек? Кто
следующий разделит судьбу Гансона?
Вначале нам казалось просто непостижимым, что Гансон
впрямь умер. Все выглядело совсем по-иному, чем в случае чьей-
либо смерти в цивилизованном мире. Мы жили так близко, так
постоянно помогали, так хорошо знали друг друга—и смерть.
наступила спокойно и естественно, не сопровождаемая ни одной
из тех многих обрядностей которые делают сто^ь страшным
переход в иной мир в условиях цивилизации.
Гансон спал по-прежнему, застывший в своей
неподвижности, как статуя. Но в нашем маленьком лагере, отрезанном от
остального мира, после периода треволнений, связанных с
болезнью Гансона, от непосредственного соприкосновения со смертью
наступила теперь естественная реакция.
Доктор, который неутомимо дежурил и работал в последнее
время, погрузился опять в свое прежнее состояние. Он
замкнулся, стал нервозным, скупым на слова. Остальные
начали обращать чрезмерное внимание на свое здоровье.
Кто теперь на очереди?
20 октября Гансона похоронили.
Мы все собрались с утра перед лагерем, и я совершил
короткое богослужение. После этого я и Фоугнер положили
несколько засохших цветков на грудь Гансона. Это были лепестки,
которые Гансон получил от своей жены из Норвегии, когда мы
стояли в Тасмании. Затем заколотили гроб гвоздями,
привязали его к саням, покрыли норвежским флагом и приступили
к сво'ей трудной работе.
После шторма на полуострове осталось мало снега, поэтому
сани двигались медленно. Вокруг уже были сотни пингвинов.
Они устремлялись со всех сторон, чтобы стать свидетелями
необычайной процессии, приближавшейся к крутому мысу.
Мы тянули сани за веревки, прикрепленные к ним,
перекинув эти веревки через плечо.
Двигались мы как во сне. Пингвины в своем своеобразном
одеянии, с любопытством наблюдавшие за нами, казалось,
подчеркивали торжественность обряда.
Нам предстояла многочасовая, тяжелая, напряженная и
рискованная работа. По пути мы использовали каждый
покрытый снегом участок, чтобы облегчить свое продвижение вперед.
Временами сани и гроб с телом товарища повисали над
пропастью, тогда как мы сами лежали плашмя на скале, удерживая
веревки. Стоял сильный мороз, и пальцы, крепко сжимавшие
концы веревок, коченели.
Когда, наконец, втащили сани с гробом по откосу на высоту
900 футов, самое трудное осталось позади. После короткой
передышки продолжали свой путь по кучам гальки до того валуна,
где была приготовлена могила.
Я произнес у могилы краткую молитву и, закончив ее,
бросил на гроб три горсти норвежской земли. Это была
земля из цветочного горшка, привезенного Гансоном из
Норвегии.
Растение засохло уже по дороге из Европы в Австралию,
но Гансон из присущей ему любви к родине взял с собой
норвежскую землю на южнополярный континент.
Забросав могилу, положили на верхние камни собранный
мох. Мы надеялись, что за лето он покроет темные камни своим
извечным бледно-зеленым цветом.
На вершине мыса Адэр, на высоте 1000 футов, расположена
первая на южнополярном материке человеческая могила.
Там наш дорогой товарищ будет покоиться в мире, не зная
тления под мерцающим созвездием Южного Креста, под
восходящими и падающими лучами полярного сияния—до тех пор,
пока иное, немеркнущее солнце не зальет надгробный валун
морем непреходящего света.



Приближалась весна с ее перспективой ясных дней, жизни
и труда. Птичье население спешило на свои старые места.
Бесконечно длинными шеренгами направлялись птицы по
замерзшему океану на полярный континент.
Глядя с берега на птиц, мы видели только черные головки
на белом фоне. Спереди пингвины—серебристо-белоснежного
цвета. Они шли и шли, один за другим; если посмотреть на них
сзади, то можно было подумать о какой-то траурной процессии.
Для сохранения равновесия они приподнимали свои короткие
рудиментарные крылья1, как руки. Своей походкой вразвалку
они напоминали старых матросов. Птицы ступают при ходьбе
на всю лапу, толстую и мясистую; создается впечатление, что
они идут в галошах.
Вскоре после того, как первый из пингвинов появился на
полуострове, вся колонна их затопала по твердой и ровной
дороге. На мысе Адэр число пингвинов непрерывно возрастало;
они прибывали день за днем. Мы выходили из домика и
наблюдали их на приличном расстоянии. Однако достаточно было
одному пингвину из шеренги заметить нас, как он сейчас же
покидал свой ряд и в сопровождении товарищей начинал осторожно
двигаться к нам по рыхлому снегу. При каждом шаге он так
высоко поднимал в воздух свои галоши, что мы отчетливо
различали их над снегом.
Подойдя к нам, передний пингвин останавливался и
поворачивался к своим товарищам. Немедленно развертывалась
оживленная научная дискуссия. Они осторожно касались нас своими
клювами, тянули за одежду, осматривали со всех сторон.
Высказав о нас свое ученое мнение, передний пингвин в
сопровождении остальных ходил вокруг нас на некотором расстоянии до
тех пор, пока любопытство каждой из птиц не было удовлетворено.
В гордой уверенности, что им удалось открыть новую породу
И К. Борхгревинк 161
пингвинов, они шествовали к местам, где обычно высиживали
яйца.
На некоторых участках паковый лед был взломан и
образовал нагромождения. Большие льдины преграждали дорогу путе-
шгствующим птицам, однако это не смущало пингвинов. Они
осторожно взбирались на маленькие айсберги и внимательно
оглядывали пропасть, отделявшую льдину, на которой они
стояли, от соседней. Они прикидывали расстояние между ними,
многократно приседали и приподнимали крылья, пока, наконец,
не решались на скачок. Если прыжок проходил удачно, птицы
с гордым видом поворачивались назад, измеряли глазами еще
раз расстояние между двумя льдинами и возобновляли путь с
удвоенной поспешностью. Восхищение самими собой как бы
придавало им силы, чтобы наверстать упущенное время.
Каким чисто человеческим было все их поведение! Не так
уж редко случалось, что прыжок пингвину не удавался, и он
срывался в океан. Тогда его место в шеренге занимал
ближайший в ряду. Остальные пингвины не удостаивали сорвавшегося
даже взглядом. У неудачника был пристыженный виноватый вид;
даже оставшись невредимым при падении, он долго держался
в стороне от остальных и, наконец, кружным путем снова
добирался до своего подразделения.
Как только пингвины оказывались на полуострове у мыса
Адэр, они начинали приводить в порядок свои старые гнезда.
Гнезда эти состояли из кругообразно сложенных камней. Дела
сразу же находилось немало. Больше всего, были, по-видимому,
заняты юные пингвины. Они подбирали себе самок, подыскивали
подходящее место для гнезда и собирали камешки.
Пингвины моногамны и свято соблюдают свои брачные
обязательства. Поэтому даже в больших городах полярной страны
господствует строгая нравственность. Правда, распространяется
она лишь на половые отношения. Очень комично выглядит, когда
молодой предприимчивый пингвин, воспользовавшись глубоким
философским раздумьем и рассеянностью какой-либо пожилой
пары, утаскивает камешек из их гнезда; с невинным видом
возвращается воришка после этого к своему гнезду и продолжает
его достраивать.
В солнечные дни самец, сидя в своем гнезде, принимает
горделивую осанку и направляет клюв кверху. Он вращает глазами,
двигает своими неразвитыми крыльями взад и вперед и испускает
хриплые крики, заканчивающиеся клохтанием и напоминающие
отчасти токование глухаря. Самка со вниманием прислушивается
к этой антарктической серенаде.
Подруга пингвина кладет два яйца; супруги, как и подобает,
делят между собой труд по высиживанию птенцов. Они сидят
на яйцах с середины ноября до середины декабря. Можно только
удивляться, как во время сильных снежных бурь,
разыгрывающихся на полуострове не только зимой, но также и ле-
том, пингвинам удается обеспечивать яйцам необходимое
тепло.
Мы пытались измерить температуру под птицами, сидящими
на яйцах. Однако эта работа была связана с некоторыми
трудностями. Подложенный в гнездо ртутный шарик термометра
птицы считали блестящим камешком, которому тут не место.
Они захватывали клювом инструмент и с важным видом
опытных метеорологов уносили его в сторону от гнезда на некоторое
расстояние. Там они осторожно клали термометр на землю и
возвращались к гнезду продолжать свой тяжкий труд.
После ряда неудачных попыток нам, наконец, удалось про-
никнуть в семейные тайны. Мы определили среднюю температуру
под сидящими на яйцах птицами. Она достигала по Цельсию
43° выше нуля.
Примерно через месяц птенцы вылупились. Маленькие,
серенькие, очаровательные, с мягкими перышками! Родители
относились, по-видимому, к малышам с большой любовью. Они их
так раскармливали, что птенцы, начав ходить по земле,
выглядели как серые набитые до отказа мешочки. Обильный корм имел,
вероятно, назначением обеспечить не только питание, но и
достаточную устойчивость при сильных штормах.
С ледяного покрова океана на полуостров вступали все новые
и новые пришельцы. Хотя птицы скапливались в большом
количестве, они, казалось, образовывали относительно
организованную общину. Они редко дрались между собой без особенного
повода. Чаще всего щум возникал тогда, когда того или иного
вороватого самца ловили на очередной краже камней из
чужого гнезда. Тогда хозяин начинал драться с похитителем до
кровопролития и гнался за ним; остальные пингвины
взволнованно кричали, наблюдая за дерущимися и нанося им удары
клювом.
Пингвины любят чистоту. Когда у одного из них бывает на
белом жилете пятно грязи, остальные сейчас же это замечают,
собираются вокруг и порицают его неряшливость. Несчастный
пингвин отыскивает тогда первую попавшуюся полынью и,
полный отчаяния, бросается в холодные волны с тем, чтобы
после этого присоединиться к своим родичам в сверкающей
безупречной белизной манишке.
Птицы, которые не были непосредственно заняты
высиживанием яиц, отправлялись компаниями по 50—100 штук к воде,
чтобы раздобыть корм, окунуться или порезвиться.
2 ноября мы нашли первое яйцо пингвина. Промежуток
между откладыванием первого и второго яйца составлял обычно
два-три дня. Яйца были белого цвета, длина их в большинстве
случаев равнялась 5—8 сантиметрам, поперечник их составлял
4—5 сантиметров. Скорлупа довольно толста, с внутренней
стороны зеленовата. Желток сравнительно с обильно
представленным белком, невелик.
Не забуду я день 3 ноября, когда Муст появился перед нами
с собранной им кучей яиц. Теперь у нас к обеду будут свежие
яйца. Лишь тот, кто месяцами был вынужден питаться
консервами, может понять, как мы жаждали наступления того времени,
когда пингвины станут поставлять нам свежие яйца. Гансон,
бедняга, все мечтал о весне и о птичьих яйцах, от которых
он ожидал укрепления сил и выздоровления.
И нас также снедало нетерпение! По мнению врача, ак раз
пингвиньи яйца были нам настоятельно необходимы. Тем не
менее в то утро он просил еще воздержаться от их потребления:
доктор как раз был занят изучением нашего пищеварения и
кровообращения.
Он брал у нас кровь и для этой цели колол ланцетом так,
что она брызгала, затем изготовлял из выступившей крови
прекрасные микроскопические препараты, подсчитывал красные
кровяные тельца и записывал результаты. Наш пульс доктор
регистрировал с помощью сфигмометра2; аппарат закреплялся
над артерией и точно и наглядно вычерчивал неправильности
в работе сердца на полосках бумаги, закопченных на лампе.
В заключение он проверял деятельность легких. При этом нам
требовалось дуть что есть силы в резиновую трубку,
соединенную с металлическим цилиндром, на котором были нанесены
деления.
Все эти и многие другие детальные исследования доктор
проводил как раз в это время; данная работа поглощала его целиком
и полностью. Доктор считал, что если он разрешит сейчас
людям есть яйца, то эксперименты его потеряют свою чистоту.
Я, однако, не счел нужным пойти ему навстречу. Как только
на стол были поданы сваренные всмятку яйца, доктор
присоединился к прочим и с такой же быстротой стал их поглощать.
Свежие яйца вносили не только приятное разнообразие в
питание; они означали также пополнение на будущее наших
продовольственных ресурсов. Ежедневно собирали мы как можно
больше яиц и засаливали их впрок.
Если с «Южным Крестом» что-нибудь случится, то нам
придется, быть может, просидеть на новом континенте лишних один-
два года против запланированного времени, причем наше
питание в таком случае станет весьма скудным. Мы уже прекрасно
знали, на что можно рассчитывать во время антарктической
зимы; ничто нас так не страшило, как однообразная диета из
консервов.
Пингвиньи яйца были неплохи и очень нравились нам.
Однако я не уверен, что пингвины по вкусу своих яиц могут
соперничать с курами. Яйца пингвинов, как и сами птицы, были
слишком жирными и отзывали ворванью.
Когда нам приходилось есть самих пингвинов, имеющих ча-
tTO под толстой кожей до полудюйма сала, то мы сперва их
обдирали и затем вешали тушки снаружи, чтобы они вымерзли.
После этого кипятили их в уксусе, пока слой белого сала не
отставал и не начинал плавать на поверхности воды.
Но вкус пингвиньего мяса, подвергшегося только варке, был
все-таки очень неважен. Поэтому мы дополнительно жарили
мясо с маслом на сковороде. При всем том, мясо все еще имело
привкус ворвани и, несмотря на длительную кулинарную обработку,
оставалось жестким. Приятным на вкус его, во всяком случае,
нельзя было назвать.
Первые пришельцы уже сидели в своих гнездах две недели,
а новые путники все продолжали появляться и селиться меж
камней. Лишь с трудом, распихивая в стороны пингвинов,
расположившихся на земле тесными рядами, могли мы
себе прокладывать путь.
Места их расселения напоминали улицы, заполненные








