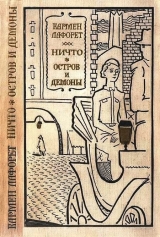
Текст книги "Ничто. Остров и демоны"
Автор книги: Кармен Лафорет
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
– Но и ты не забывай, что уже носила его сына! Не изображай теперь из себя недотрогу, со мной это ни к чему… Может, тогда на меня нашло затмение, но сегодня я хочу тебя. Поднимись, ко мне. – Давай покончим сразу со всеми счетами.
– Не знаю, чего ты добиваешься, ты ведь предатель, все равно как Иуда… Не знаю, что у тебя там случилось с этой Эной, с этой блондинкой, от которой ты, верно, совсем одурел, если уж предлагаешь мне такое…
– Не трогай ты ее! Не она, а ты можешь успокоить меня, будь и этим довольна, Глория!
– Много я из-за тебя плакала, но ждала этой минуты… Если ты думаешь, что я еще интересуюсь тобой, так сильно ошибаешься. Если думаешь, что я рву на себе волосы из-за того, что ты водишь к себе эту девушку, так считай, что ты глупее Хуана. Я тебя ненавижу. Ненавижу с той самой ночи, когда я все ради тебя позабыла, а ты надо мной насмеялся. Хочешь знать, кто на тебя донес, чтобы тебя расстреляли? Я донесла, я, я! Хочешь знать, из-за кого ты сидел? Из-за меня. А хочешь знать, кто бы снова донес на тебя, если бы только мог? Я, я бы снова донесла. Вот теперь наступил мой черед плевать тебе в лицо, и я плюю…
– Какую чепуху ты городишь, Глория! Надоело слушать. Я не стану тебя умолять, этого ты не дождешься… Ты же любишь меня! Пойдем и закончим наш разговор у меня в комнате. Ну, пошли!
– Поосторожней, мерзавец! Не прикасайся ко мне! А то позову Хуана! Глаза выцарапаю, подойди только.
Теперь Глория говорила очень громко, истерически взвизгивала.
В столовой послышались бабушкины шаги. Роман и Глория стояли за балконными дверями, их силуэты отчетливо вырисовывались при свете звезд, и бабушка могла их увидеть.
Роман был невозмутим, только в голосе его звучало какое-то нервное жужжание, которое я заметила, еще когда он только заговорил.
– Замолчи, дура! Я и пальцем не шевельну, чтобы взять тебя. Можешь прийти сама, если хочешь… Но только если не придешь сегодня ночью, так и не смей больше никогда смотреть на меня. Это твой последний шанс…
Он ушел с балкона и столкнулся с бабушкой.
– Кто это? Кто? – спросила старушка. – Господи боже мой, Роман, с ума ты сошел, сынок!
Он прошел, не останавливаясь; хлопнула дверь. Бабушка, шаркая, подошла к балкону.
– Это ты, Глория? Ты, дочка? Да? – Голос ее звучал испуганно и беспомощно.
Я поняла, что Глория плачет…
– Идите вы спать, мама! Оставьте меня в покое! – крикнула она.
Потом бросилась, всхлипывая, к своей комнате:
– Хуан! Хуан!
Пришла бабушка:
– Молчи, дитятко, молчи… Хуан ушел. Сказал, что не спится…
Все смолкло. Послышались шаги на лестнице. Вернулся Хуан.
– Вы что, все не спите? Что случилось?
Долгое молчание.
– Ничего, – ответила наконец Глория. – Пошли спать.
Иванова ночь обернулась для меня событиями, чересчур уж странными. Я стояла посреди комнаты, напряженно впитывая каждый шепоток в доме, и внезапно ощутила острую боль в горле – его словно сдавили. Руки у меня похолодели. Кто может постичь смысл слов и бесчисленное множество нитей, соединяющих людские души? Уж конечно, не молоденькая девушка, какой я была в ту пору. Чувствуя себя больной, повалилась я на кровать. Совсем в мирском значении пришли на ум слова из Библии: «Имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат»… Моим глазам, которые стали круглыми – так широко они открылись, моим ушам, которые были изранены услышанным, не удалось уловить во всем этом никакого подспудного дрожания, никакой глубинной ноты… Нет, мне казалось невозможным, чтобы Роман, очаровывавший своею музыкой Эну… Невозможным, чтобы он внезапно, безо всякой причины стал умолять Глорию, он, который столько раз при мне издевался над нею, оскорблял ее на людях. Причину эту не улавливали мои уши в нервном жужжании его голоса, ее не удавалось разглядеть моим глазам среди густой сияющей синевы ночи, вливавшейся в комнату через балконное окно… Я накрыла лицо, чтобы слишком безмерная и слишком непонятная красота этой ночи не била мне в глаза. И в конце концов заснула.
Проснулась я, увидев сон про Эну. Незаметно моя фантазия связала ее с подлыми, предательскими словами Романа. Горькое чувство, которое в те дни сразу же охватывало меня при мысли о ней, совершенно меня затопило. Поддавшись порыву, я побежала к ней, даже не зная, что скажу, охваченная одним желанием: защитить от моего дядюшки.
Я не застала свою подругу дома. Мне сказали, что сегодня именины ее деда и что она проведет весь день на даче старого сеньора в Бонанове. Услышав это, я страшно взволновалась, мне стало казаться совершенно необходимым повидаться с Эной. Немедленно поговорить с нею.
На трамвае я проехала через всю Барселону. Помню, утро было чудесное. Деревья в садах Бонановы стояли отягченные цветами, и красота этого утра подавляла мой дух, тоже чересчур отягченный. Мне казалось, что я тоже вот-вот расплещусь, как расплескивались через глинобитные ограды цветущие ветви жимолости, сирени, бугенвиллей: так сильны были во мне нежность к подруге и тоскливый страх за ее жизнь и мечты…
Кто знает, быть может, и за всю нашу дружбу я не пережила таких прекрасных, наивных мгновений, как во время этой бессмысленной прогулки среди цветущих садов сияющим утром Иванова дня.
Вот наконец и нужный мне дом. Железные ворота; сквозь прутья виден большой квадрат газона, фонтан и две собаки… Я не знала, что сейчас скажу Эне. Не знала, как сейчас снова сказать ей, что никогда не будет Роман достоин соединить свою жизнь с ее жизнью. С жизнью Эны, блестящей Эны, такой любимой благородным и добрым человеком – Хайме… Я была уверена, что стоит мне заговорить, как Эна поднимет меня на смех.
Прошли долгие минуты, полные солнца. Я стояла, прижавшись к прутьям высокой садовой решетки, и не решалась позвонить.
Неожиданно стеклянная дверь, выходившая на белую террасу, с грохотом распахнулась, появился маленький Рамон Беренгер и с ним черноголовый мальчик – его двоюродный брат. Они сбежали с лестницы в сад. Тут ни с того, ни с сего мне стало так страшно, будто меня схватили за руку, когда я рвала чужие цветы. И я тоже кинулась бежать, не в силах перевести дух – лишь бы скорее скрыться… Придя в себя, я посмеялась над собой, но к решетке уже не вернулась. Как утром мною внезапно овладело волнение за судьбу Эны и нежность к ней, так сейчас безмерная депрессия уже захватывала меня. К концу дня я и не помышляла о том, чтобы одним прыжком преодолеть пропасть, которую сама Эна разверзла между нами. Мне показалось, что лучше предоставить событиям идти своим чередом.
Я услышала собачий вой: пес, выскочив из комнаты Романа, в страхе мчался вниз по лестнице. На ухе у него алела отметина – след зубов Романа. Я вздрогнула. Три дня Роман провел взаперти. По словам Антонии, он писал музыку, не выпуская изо рта сигареты. Атмосфера была тоскливая. Должно быть, Гром узнал, какое настроение эта атмосфера нагоняет на его хозяина. При виде пса, укушенного Романом, служанка затряслась, будто отравленная ртутью. Ухаживая за собакой, она сама стонала, только что не выла.
Я взглянула на календарь. Три дня прошло с той синей ночи. И до именин Понса оставалось три дня. Душа моя трепыхалась – так не терпелось мне бежать из этого дома. Мне уже почти казалось, будто я люблю моего друга, стоило лишь подумать, что он поможет мне воплотить в жизнь мое отчаянное желание.
XVIII
Ночи улицы Арибау, – воспоминания о них иногда накатывают на меня, – ночи эти текли черной рекой под мостами дней, и застоявшиеся испарения их клубились бредовыми кошмарами.
Мои первые осенние ночи – вспоминаю я их, вспоминаю и первые мои тревоги, оживавшие этими ночами. Зимние ночи, пропитанные тоскливой сыростью. Внезапное пробуждение от резкого скрипа стула и нервный озноб, пробегающий по спине, когда в глаза тебе вонзаются два светящихся кошачьих глаза. Эти стылые ночные часы принесли с собой мгновенья, в которые жизнь сбросила передо мной стыдливые покровы и предстала голой, выкрикивая о себе интимные подробности, печальные и отталкивающие. Интимные подробности, которые утро бралось начисто стереть, будто их никогда и не было… Потом наступили летние ночи. Сладостные средиземно-морские ночи спустились на Барселону, залили город лунным соком и ароматами моря – нереиды расчесывали свои водяные волосы, струящиеся по их белым плечам и золотым чешуйчатым хвостам. В одну такую жаркую ночь голод, тоска и молодость довели меня до галлюцинаций: тело жаждало ласки, жадное и измученное, как иссохшая земля перед грозой.
Но едва я, усталая, разбитая, вытягивалась на постели, в голове у меня начинало гудеть и стучать. Голову надо было класть совсем низко; я лежала без подушки и чувствовала, как боль медленно затихает, заглушаемая множеством знакомых звуков на улице и в доме.
Сон приходил волнами, я погружалась в него все глубже, пока не наступало полное забытье, – у меня больше не было ни тела, ни души. А жара дышала мне в лицо, обжигая крапивой, и я снова просыпалась с ощущением страха и подавленности, словно в каком-то кошмаре.
Мертвая тишина. Только изредка шаги ночного сторожа. И высоко над миром, над балконами, над плоскими и островерхими крышами, сияние небесных светил.
Неясное беспокойство гнало меня с постели: неосязаемые светящиеся нити, которые тянутся к нам из звездного мира, действовали на меня вполне ощутимо, хоть я и не могла бы объяснить существа их воздействия.
Помню одну лунную ночь. После трудного дня я была как-то особенно возбуждена. Поднявшись с кровати, я увидела зеркало в шкафу у Ангустиас, а в зеркале – всю комнату, словно затянутую серым шелком, и длинную тень, тоже серую. Я подошла поближе к зеркалу, и тень подошла ко мне. И вот мне удалось разглядеть ее лицо – мое лицо – над вырезом длинной ночной рубашки. Длинной, отделанной тяжелыми кружевами рубашки из старинного полотна, мягкого от долгой носки; много лет назад эту рубашку носила моя мать. Странно было стоять с широко раскрытыми глазами, глядеть на себя и едва угадывать свое лицо. Подняла руку, хотела коснуться лица – оно, казалось, ускользало от меня; там, по ту сторону, возникли длинные бледные пальцы, они были еще бледнее лица и ползли по изгибам бровей, носа, щек, повторявших строение черепа. Значит, все же это я, Андрея, живу среди обступивших меня теней и страстен. А ведь случалось, я начинала в этом сомневаться.

Как раз в тот день был праздник у Понса.
Пять дней подряд лелеяла я мечты об этом моем бегстве из обыденной действительности. Мне прежде всегда было легко отвернуться от всего, что оставалось где-то позади, легко поверить, что в любую минуту может начаться совсем новая жизнь. И в тот день я чувствовала, что вот-вот передо мной раскроются новые, неоглядные дали. Чувство это было сродни тому мучительному беспокойству, которое, бывает, охватывает меня на вокзале, когда свистнет, трогаясь, паровоз или когда в порту порыв ветра донесет до меня с баркасов запах смолы и дегтя.
Мой приятель позвонил мне утром, и, услышав его голос, я вдруг преисполнилась к нему нежностью. Ощущение, что меня любят и ждут, разбудило во мне множество женских инстинктов: опьянение успехом, желание, чтобы тебя все превозносили, восхищались тобой, чтобы ты, как Золушка, стала принцессой на час после долгого, никому не ведомого существования.
Я вспоминала один сон, который много раз видала в детстве, когда была смуглой, долговязой девчонкой; гости никогда не хвалят таких за миловидность, а для их родителей в ход идут уклончивые утешения… Слова этих утешений дети, казалось бы всецело захваченные игрой и не интересующиеся разговором взрослых, ловят на лету: «Вот увидите, когда вырастет, станет интересной», или: «Дети, вырастая, приносят много сюрпризов».
Во сне я видела, как я бегаю, на что-то натыкаюсь и с меня начинает спадать не то одежда, не то сморщенный кокон. У людей изумление в глазах, а я подбегаю к зеркалу и, дрожа от волнения, созерцаю свое чудесное превращение в золотоволосую принцессу – непременно (золотоволосую, как в сказке, – и благодаря красоте еще и кроткую, очаровательную, добрую и наделенную свойством великодушно раздаривать свои улыбки…
Эта сказка, столько раз повторявшаяся в моих детских снах, заставляла меня улыбаться, когда чуть дрожащими руками я старалась тщательно причесаться и получше выглядеть в своем менее других изношенном платье, которое я ради праздника тщательно отутюжила.
«Может быть, как раз сегодня и наступит этот день», – думала я, чувствуя, что слегка краснею.
Если в глазах Понса я была красива и обаятельна (и друг неуклюже говорил мне об этом или выражал свое восхищение куда красноречивее, обходясь вовсе без слов), то все было так, словно завеса уже упала. «Может быть, смысл жизни для женщины и состоит исключительно в том, чтобы какой-то мужчина вот так бы нашел ее, увидел, дал бы ей почувствовать, что она излучает сияние». Не в том, чтобы выслушивать гадости и пошлости от других, обращать на них внимание, а в том, чтобы жить совершенно растворившись в наслаждении собственными чувствами и ощущениями, жить собственными огорчениями и радостями. Собственной злобой или добротой…
И вот я ускользнула из дома на улице Арибау, чуть ли не заткнув уши, чтобы не слышать, как терзает рояль Роман.
Мой дядя провел запершись в своей комнате пять дней (по словам Глории, он ни разу не выходил на улицу). В то утро он впервые за все время появился у нас в квартире, пытливо высматривая своими зоркими глазами, нет ли чего новенького. По углам недоставало мебели, преданной Глорией старьевщику. В просветах шуршали растревоженные тараканы.
– Мою мать обкрадываешь! – заорал Роман.
Немедленно на помощь Глории прибежала бабушка.
– Нет, сынок, нет. Это я продала вещи, вещи-то мои. А они мне не нужны, вот я их и продала. Я вправе ими распоряжаться…
Роман улыбнулся, так несообразно было услышать о каких-то правах от этой несчастной старушки, которая готова была умереть с голоду, если еды в доме не хватало, лишь бы побольше осталось другим, или от холода, лишь бы укрыть малыша вторым одеялом.
После обеда он сел за рояль, и я с галереи увидела его в зале. За его головой струился светлый нимб. Роман повернулся и тоже меня увидел – и тоже радостно мне улыбнулся, вопреки всем своим тягостным раздумьям.
– Слишком ты стала хорошенькой, не до моей музыки тебе теперь, верно? Как и все женщины из нашей семьи, ты бежишь из дому…
Он с силой ударил по клавишам, чтобы и они почувствовали сияющий блеск весны. Глаза у него покраснели, как бывает, если много пьют или не спят несколько ночей подряд. Когда он играл, морщины сеткой покрывали его лицо.
И я убежала от него, как делала это и прежде. На улице я вспомнила его любезность. «Как бы там ни было, – подумала я, – Роман умеет заставить людей вокруг себя жить энергичнее. Он ведь и в самом деле знает, что с ними происходит. Он знает, что сегодня я зачарованная».
Вместе с мыслями о Романе, помимо моей воли, пришли мысли и об Эне. Потому что я, которая так хотела, чтобы эти два существа в конце концов все же не познакомились, теперь уже не могла разъять их в своем воображении.
– Ты знаешь, что Эна приходила к Роману в канун Иванова дня, к вечеру? – спросила Глория, искоса на меня поглядывая. – Сама видела, как она мчалась вниз по лестнице, все равно как Гром потом бежал… Точно так, Андрея, ну, словно не в себе она была… Что ты об этом думаешь? С тех пор она не приходила.
Стараясь здесь, на улице, ничего не слышать, я стала смотреть на верхушки деревьев. Листья уже потемнели, стали густо-зелеными, словно из жести. Пылающее небо разбивалось о них.
Среди солнечного блеска я снова превратилась в восемнадцатилетнюю девочку, которая сейчас будет танцевать со своим первым поклонником. Радостному ожиданию удалось совершенно заглушить отзвуки иных событий.
Понс жил в роскошном особняке в конце улицы Мунтанер. У решетки сада, такого цивилизованного, что цветы пахли воском и – цементом, я увидела вереницу машин. Сердце болезненно заколотилось. Я знала, что через несколько минут должна оказаться в веселом, беззаботном мире. В мире, который вращался на мощном денежном основании; представление о его оптимизме мне дали разговоры моих приятелей. На праздник в большое общество я шла впервые, ведь вечера в доме у Эны, на которых я бывала, носили характер скорее интимный, там занимались поэзией и музыкой.
Вспоминаю мраморный подъезд и его приятную прохладу. Мое смущение при виде швейцара, полумрак холла, украшенного растениями и вазами. Сеньору, густо увешанную драгоценностями, и исходивший от нее аромат, который я почувствовала, пожав ей руку, и неопределенный взгляд, брошенный на мои старые, потрескавшиеся туфли, взгляд, который пересекся с другим взглядом – полным отчаяния взглядом Понса, наблюдавшего за нею.
Дама была высокая, величественная. Говорила она со мною, улыбаясь, улыбка словно навеки застыла у нее на губах. Меня тогда ничего не стоило задеть. И в тот миг я сразу же остро почувствовала, как бедно я одета. Мне стало горько; неумеренно взяв Понса под руку, я вошла с ним в зал.
Там было много народу. В небольшой гостиной, смежной с залом, «взрослые» приятно проводили время, предаваясь еде и веселью. Одна тучная дама до сих пор так и стоит у меня перед глазами. Лицо у нее от смеха побагровело, она подносит ко рту пирожное. Не знаю почему, но этот образ неподвижен, он навеки застыл среди непрестанного движения остальных.
Молодежь тоже ела и пила и перебиралась с места на место. Было много хорошеньких девочек. Понс познакомил меня с четырьмя или пятью, сидевшими вместе; он сказал, что это все его двоюродные сестры. Среди них мне было до того неловко, что впору казалось заплакать: уж очень это чувство не походило на то ощущение ослепительной радости, которого я ожидала. От нетерпения и злости мне и захотелось плакать.
Не отваживаясь ни на шаг отойти от Понса, я вдруг с ужасом почувствовала, что он нервничает под лукавыми взглядами разглядывающих нас девичьих глаз. В конце концов моего друга позвали, и с виноватой улыбкой он оставил меня на минутку со своими двоюродными сестрами и с какими-то двумя незнакомыми мне юношами. Я не знала, что сказать. Было совсем не весело. В белом зеркале мое отражение выглядело до невозможного невзрачно среди веселой пестроты окружавших его летних платьев. Совершенно серьезная среди безудержного веселья, я показалась себе даже, пожалуй, смешной.
Понс исчез из поля моего зрения. А когда зазвучал медленный фокс, я оказалась совсем одна; стояла у окна и глядела, как танцуют другие.
Музыка смолкла, вокруг жужжали разговоры, а за мной так никто и не пришел. Вдруг я услышала голос Итурдиаги и быстро обернулась. Гаспар восседал среди девочек, излагая им какие-то планы и объясняя свои проекты на будущее.
– Сегодня эта скала неприступна, – говорил он, – но я построю фуникулер… Мой замок будет воздвигнут на самой вершине. Я женюсь и буду круглый год жить в этой крепости только с любимой женой… Буду слушать лишь рев ветра, орлиный клекот да раскаты грома…
Итурдиагу перебила очень хорошенькая девчушка, слушавшая его разинув рот:
– Да этого же не может быть, Гаспар…
– Как это не может быть, сеньорита? У меня есть чертежи. Я говорил с архитекторами и инженерами! А ты мне будешь говорить, что этого не может быть?
– Да ведь не может быть, чтобы ты встретил такую женщину, которая согласилась бы жить с тобою там! Правда, Гаспар…
Итурдиага поднял брови и с меланхолической гордостью улыбнулся. Его широкие синие брюки ниспадали на туфли, сияющие как зеркало. Я подумала, не подойти ли мне к нему, потому что чувствовала себя несчастной и жаждала общения, как собачонка… Но в этот миг внимание мое отвлек чей-то голос, отчетливо произнесший его же имя позади меня, и я повернула голову. Окно было раскрыто, оно выходило в сад. Там, на одной из узких, залитых асфальтом дорожек, я увидела двух сеньоров, которые, по-видимому, гуляя, беседовали о делах. Один, огромный и толстый, чем-то напоминал Гаспара. Оживленно разговаривая, они ненадолго задержались неподалеку от окна.
– Но вы понимаете, сколько мы можем заработать на войне в этом случае? Миллионы, миллионы! Это вам, Итурдиага, не детские игрушки!..
Они пошли дальше.
Улыбка тронула мои губы, как будто бы на пылающем закатным огнем небе я и в самом деле увидела этих почтенных мужей (головы их были прикрыты остроконечными магическими колпаками), скачущими верхом на черном призраке войны, который летал тогда над полями Европы…
Мне казалось, что время тянется ужасно медленно. Час, а может, и два простояла я так, одна. Люди входили и выходили, они мелькали у меня перед глазами и доводили до исступления.
Пожалуй, я была несколько рассеянной, когда снова увидела Понса. Раскрасневшийся и счастливый, он пил с двумя девочками, отделенный от меня всем пространством зала. У меня в руках тоже был мой одинокий бокал, и, бессмысленно улыбаясь, я смотрела на него. Простояв все это время одна, я почувствовала себя жалкой и ненужной. Да я ведь и правда никого здесь не знала и совсем растерялась. Словно бы от одного дуновения разлетелся красивый игрушечный замок, который я строила из целой горы картинок. На картинках изображено: Понс покупает мне гвоздики, Понс обещает мне идеальный летний отдых, Понс за руку тащит меня из моего мрачного дома к солнцу, радости и веселью. Мой друг, который так умолял меня прийти, которому удалось растрогать меня своей нежностью, в тот вечер, без сомнения, стыдился меня… Может быть, все испортил тот первый взгляд, который его мать бросила на мои туфли… А может быть, я сама была виновата. И как это я никогда не понимаю, что происходит?
– Ты скучаешь, бедняжка… Невежливый у меня сын! Сейчас я его найду!
Мать Понса, конечно же, наблюдала за мной все это долгое время. Я зло поглядела на нее, уж очень она отличалась от той, которую я себе вообразила. Она подошла к моему другу, и через несколько мгновений он стоял возле меня.
– Прости меня, пожалуйста, Андрея… Потанцуем?
В это время вновь заиграла музыка.
– Нет, спасибо. Мне плохо здесь. Я хотела бы уйти.
– Но почему, Андрея? Не обиделась ли ты на меня? Я много раз направлялся к тебе, но по дороге меня все время останавливали… Конечно, мне было приятно, что ты не танцуешь с другими… Я глядел иногда на тебя…
Он смутился и замолчал. Так мы и стояли. Он был готов заплакать.
Мимо прошла одна из двоюродных сестер.
– Сентиментальная размолвка? – задала она дурацкий вопрос и неестественно улыбнулась улыбкой кинозвезды. Такой забавной, что теперь, вспоминая о ней, я смеюсь. Но тогда я заметила только, что Понс залился краской. В меня словно демон вселился, я и сама от него страдала.
– Мне не доставляет удовольствия находиться среди таких вот… – сказала я. – Таких вот, как эта девочка, например.
Понс был задет и кинулся в атаку.
– Какие у тебя основания говорить так об этой девочке? Я всю свою жизнь знаю ее, она умная и добрая… Может быть, на твой взгляд она чересчур хорошенькая. Вы, женщины, все такие.
Теперь залилась краской я, и он, мгновенно раскаявшись, попытался взять меня за руку.
«Возможно ли, чтобы я оказалась героиней такой нелепой сцены?» – подумала я.
– Не знаю, что с тобою сегодня, Андрея. Не знаю, почему ты не такая, как всегда…
– Это верно… Я себя здесь неловко чувствую. Я и правда не хотела приходить к тебе на праздник. Хотела поздравить тебя и уйти, понимаешь? Но тут подошла твоя мама, поздоровалась со мной, и я растерялась… Да ты же видишь, что я даже не одета, как полагается. Разве ты не заметил, что на мне старые спортивные туфли? Ты не обратил на это внимания?
«О, зачем я говорю все эти глупости!» – с отвращением думала я.
Понс не знал, что и делать. Он испуганно глядел на меня. Уши у него горели, и в элегантном темном костюме он казался очень маленьким. Инстинктивно он с тоской поглядел на далекий силуэт матери.
– Ничего я, Андрея, не заметил, – пробормотал он, – но если ты хочешь уйти… я… не знаю, что сделать, чтобы помешать.
– Прости, Понс, меня за все, что я тут наговорила о твоих гостях, – сказала я после долгого молчания, и мне стало не по себе от собственных слов.
Молча мы прошли в прихожую. Уродство роскошных ваз позволило мне почувствовать себя здесь увереннее и тверже и несколько смягчило овладевшее мной напряжение. Понс вдруг разволновался и на прощанье поцеловал мне руку.
– Не знаю, Андрея, что произошло, но только сначала приехала маркиза… Понимаешь, мама несколько старомодна в этом вопросе. Она очень почитает титулы. Потом моя двоюродная сестра Нурия увела меня в сад. Ну вот, и призналась мне в любви… нет…
Он остановился и проглотил слюну.
Мне стало смешно. Все уже казалось мне смешным.
– Нурия – это та хорошенькая девочка, которая только что нас задела?
– Да. Я не хотел тебе об этом говорить. Никому, понятно, не хотел говорить. В конце концов это было очень отважно так поступить, как она. Она очень привлекательная девочка. У нее множество поклонников. И такие духи…
– Да, конечно.
– Прощай… Так что… Когда же мы встретимся?
И он снова покраснел, потому что ведь на самом деле был еще совсем ребенком. Как и я, он отлично знал, что теперь если мы и встретимся, так только случайно. Может быть, в университете после каникул.
На улице было душно. Я стояла, не зная, что делать, на длинной, полого спускающейся передо мной улице Мунтанер. Небо, без единой тучи, давило и угрожало своей глубокой синевой, оно было почти черное. Нечто ужасающее таилось в классическом великолепии этого неба, расплющенного над немой улицей. Нечто такое, что заставляло ощущать себя маленькой и придавленной космическими силами мирозданья, подобно героям греческой трагедии.
Задыхаясь от этого света, от палящей жажды асфальта и камней, я шла пустынной дорогой, словно по своему жизненному пути. Людские тени скользили где-то рядом, но я не могла их уловить, в каждое мгновение своей жизни я неизменно наталкивалась на одиночество.
Промчалось несколько машин. Прошел в гору битком набитый трамвай. Дорогу мне перерезал огромный проспект Диагональ, с бульваром, пальмами и скамейками. На одной из этих скамеек, совсем отупевшая, в конце концов я и очутилась. Изнуренная, измученная, словно после тяжких трудов.
Мне казалось, что ни к чему спешить, если мы навсегда обречены идти все тем же замкнутым предопределенным нам путем. Одни существа рождаются для радостной жизни, другие – для каждодневного труда, а третьи – только для того, чтобы глядеть на жизнь. У меня была маленькая и подлая роль соглядатая. Мне невозможно выйти из роли. Невозможно отказаться от нее, освободиться. Единственной реальностью в те минуты была для меня безмерная скорбь.
Наползла легкая серая тучка, солнце на мгновенье озарило ее всеми цветами радуги, и вот уж весь мир затрепетал от слез. Мое жаждущее лицо с наслаждением ловило эти слезы. Мои пальцы с яростью осушали их. Я долго плакала, отделенная от всего мира безразличием улицы, и мне стало казаться, что мало-помалу душа моя омылась.
На самом деле мои страдания – страдания разочаровавшейся девочки – не требовали такого оформления. Я быстро прочитала еще одну страницу своей жизни, о ней не стоило больше вспоминать. Несчастия, куда более серьезные, гнездившиеся рядом со мной, оставляли меня тогда до смешного безразличной.
Возвращаясь, я прошла почти вдоль всей улицы Арибау. Так долго я просидела, погрузившись в свои мысли, что небо успело побледнеть. В сумерках улица излучала свою душу освещенными витринами, словно рядами желтых и белых глаз, глядевших из темных впадин. Великое множество всяких запахов, горестей, историй подымалось от мостовой, свешивалось с балконов, высовывалось из подъездов улицы Арибау. Оживленный людской поток, спускаясь с солидно-элегантной Диагонали, сталкивался с неустойчиво-разношерстной волной, поднимавшейся из изменчивого мира Университетской площади. Жизни, характеры, вкусы – все перемешалось на улице Арибау. И я сама – еще одна маленькая песчинка, затерянная в ее сумятице.
Я подходила к своему дому, от которого никакое приглашение на чудесные летние каникулы меня не спасет, я возвращалась со своего первого вечера с танцами, на котором я так и не танцевала. У меня пропал всякий вкус к жизни, хотелось одного – лечь в постель. Сквозь слезы я увидела, как возле нашего подъезда высоко вверху зажегся фонарь, ставший мне родным и близким, как черты дорогого лица.
В это мгновенье я с изумлением увидела, что из моего дома выходит Энина мать. Она тоже увидела меня и подошла. Как всегда, я была глубоко очарована элегантной простотой и мягкостью этой женщины. Она заговорила, и ее голос принес мне целый мир воспоминаний.
– Какое счастье, что я вас встретила, Андрея! – воскликнула она. – Я была у вас и ждала очень долго. Найдется у вас для меня минутка? Вы позволите пригласить вас куда-нибудь поесть мороженого?







