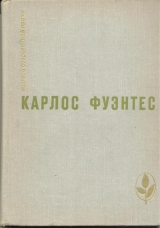
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Карлос Фуэнтес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц)
– Ради них приходил Христос. Но один ты ничего не достигнешь, понял?
– Да,– сказал Хайме,– Думаю, что да,– улыбнулся он и поцеловал руку священника.– Однако, падре, мне кажется, что все, о чем вы говорили, весь этот мир любви возможен для меня только тогда, если я буду исполнять заветы Христовы.
– Так думаем все мы, сын мой. Но чтобы исполнять их, тебе необходима Церковь, ибо она есть тело Христово на земле. Возможно ли, чтобы ты шел своим путем, а Церковь – своим?
Падре Обрегон притопывал своим огромным, изогнутым, как гондола, башмаком по каменному полу ризницы.
– Церковь – это уже не Христос, падре.– Голос мальчика и взгляд опять стали жесткими.– Церковь – это место, куда ходят тетя Асунсьон, и дядя Балькарсель, и все прочие, чтобы один раз в неделю почувствовать себя хорошими людьми. Ходят сюда, как ходили бы в театр или на праздник. Чтобы их видели. Христос им не нужен, на самом-то деле они вовсе не хотят жить с ним. Да и не могут.
– Не отрицай возможности добра и не суди других так строго. Не этому учил он нас. Неужто ты думаешь, что твои дядя и тетя, твой отец, все эти добрые люди совершают большие грехи?
– Да, да!… Все они причинили зло…
– Но ты не должен обвинять их за зло, которое они, возможно, и совершили, ты должен сам стремиться к добру…
Солнце скрылось, и в ризнице вдруг стало темно. Несколько секунд Обрегон не мог различить лица Хайме и едва не вскрикнул, почувствовав прижавшееся к нему тело мальчика, словно во внезапно нахлынувшем мраке стало невыносимым человеческое одиночество.
– Падре,– говорил приглушенный объятием голос, – неужели мы не можем быть такими, как он желал? Неужели не можем простить людям их злые дела, взять, как он взял на себя, грехи и страдания их всех и вместить в своем сердце? Почему сами вы не следуете ему во всем? Почему все мы не приносим себя в жертву, как сделал он, не живем в бедности и унижении? Побейте меня бичом!…
Мальчик всхлипывал, падре Обрегон, сжимая его в объятиях, с трепетом ласкал нежный затылок. Хайме стало не по себе от резкого запаха потных подмышек и давно не мытого белья.
– Успокойся, сын мой, успокойся. Ты раздираешь мне сердце. Не плачь. Выслушай меня,– говорил Обрегон, не замечая, что у прижавшегося к нему мальчика проступала сквозь сорочку какая-то густая влага и липла к его рукам.– Я уже пятнадцать лет служу, исполняю обязанности пастыря. Мне сорок… Возьми, вот мой платок. Высморкайся, ну же… За эти пятнадцать лет мне пришлось выслушать исповеди многих людей. Да, согласен: я знаю, что грех однообразен, у всех одно и то же. Иногда мне думается, что жалкие эти грешники даже не достойны отпущения. Все эти люди и грехов великих не совершают, и не заслуживают великой кары…
– Побейте меня бичом, падре,– бормотал мальчик.– Я хочу проверить, сколько стерплю…
– Успокойся, Хайме,– сказал Обрегон, все еще не замечая пятен на своих потных руках, обнимавших плечи мальчика.– Все мы – обыкновенные, средние люди. Для них-то, для всех тех, кого я исповедовал, и существует христианство, а не для людей исключительных. Святой – это исключение. Религия же должна помогать в повседневной жизни всем этим мужчинам и женщинам, от которых нельзя без снисхождения к их положению требовать, чтобы они жили по заветам христианства в чистом его виде… Как же можно требовать от кого-то из них, чтобы он взял на себя грехи всех?
– Вы проповедуете компромисс! – И Хайме высвободился из объятия.– Христос не любил тех, кто ни холоден, ни горяч!
Священник с глубоким вздохом встал из кресла. Подойдя к комоду, он приподнял подол сутаны, чтобы достать из брючного кармана коробок спичек, и зажег свечи.
– Святой Франциск Сальский сказал, что богу надлежит служить на человеческий лад и в согласии с временем, в ожидании того дня, когда можно будет ему служить на божеский лад и в согласии с вечностью.
– Какой же он, этот человеческий лад? – донесся из соломенного креслица слабый, прерываемый невольными рыданиями голос.
Все предметы в ризнице и алтарь сразу потускнели. Падре Обрегон задул спичку, тонкая струйка серого дыма взвилась к потолку.
– Богу угодней, чтобы мы придерживались тех малых обязанностей, которые его провидение сделало для нас достижимыми. Мы смертны и слабы, и мы можем лишь исполнять повседневные свои повинности, вытекающие из нашего положения. Возможны, конечно, великие дела, но это не для нас. Героические подвиги нам не по силам. Будем же смиренны. Тихий, спокойный, полный жалости голос падре Обрегона гулко отдавался в ризнице.
– Твой отец, Хайме, один из малых сих, которых возлюбил господь. Не обижай его, относись к нему с любовью.
– Откуда вы знаете? – спросил Хайме, повернувшись лицом к священнику.
– Знаю. Подумай о том, что ты не лучше других и что каждый на свой лад исполняет закон господен. Ты это называешь компромиссом, я – состраданием. А теперь ступай, уже поздно. Завтра придешь на настоящую исповедь. Я устал, и час поздний.
Хайме поцеловал руку Обрегону и подошел к окну с жалюзи. Только теперь священник смог увидеть Хайме во весь рост, разглядел эту стройную фигурку в синих брюках и белой сорочке и заметил, что мальчик двигается с трудом, еле волоча ноги. Подойдя к решетке, Хайме ухватился за прутья и стал на колени.
– Я, кажется, заболел, падре…
Только теперь Обрегон увидел на своих руках пятна крови. Неуверенной походкой мальчик шел уже по нефу, и только теперь падре Обрегон все понял, побежал за ним, упал перед ним на колени и, обратив к нему лицо, воскликнул:
– Молись за меня!
Сидевший в храме на последней скамье дядя Балькарсель наблюдал эту сцену. Когда священник упал на колени, он перестал играть цепочкой часов и хотел было пройти вперед, чтобы напомнить о своем присутствии. Смятение парализовало его.
Хайме подошел к главному входу, тут дядя попытался взять его под руку. Мальчик уклонился и пошел впереди Балькарселя по улицам, погруженным в густо-синие сумерки. Зажглись фонари, и от камней подымался терпкий весенний запах.
8
С той самой ночи, проведенной в Ирапуато, Хуана Мануэля Лоренсо он не видел. Начались весенние каникулы, Хайме опять слег, у него был жар, и выздоровление длилось несколько недель. Он читал романы, пил лимонад и терпел долгие посещения доньи Асунсьон. О происшедшем больше не упоминали. Сидя очень прямо, не касаясь спинки стула, тетка вязала.
– Как бежит время! – говорила Асунсьон.– Племянники Паскуалины Барона вчера еще были детьми, а вот уже поступают в институт. А что ты думаешь делать, когда окончишь подготовительный? Хорошо бы тебе заняться правом! Об этом мечтал когда-то твой отец, но Революция помешала ему сделать карьеру.
Сеньорита Паскуалина и донья Пресентасьон повадились приходить каждый вечер. Всегда они являлись под предлогом, что пришли осведомиться о состоянии больного, Хайме захлопывал книгу, закрывал глаза и предоставлял им говорить что угодно.
– Он спит?
– Бедняжка! Ах, мальчики этого возраста – сущее наказание для родителей!
– Не огорчайся, Асунсьон. Мы никому не сказали, как было дело. Мы говорим, что у него дифтерит.
– Что сказали бы люди, если б узнали, что он пошел за город в поле, чтобы бичевать себя!
– Ничего, он это перерастет. Молодость.
Потом обе гостьи принимались описывать тетке последние религиозные церемонии, присутствовать на которых Асунсьон не имела возможности, так как ухаживала за больным. Пересказывали беседы с падре Лансагортой и обсуждали глубокий смысл его очередной еженедельной проповеди.
Балькарсель ни разу не зашел в комнату Хайме. Родольфо, тот заходил, и его присутствие раздражало Хайме сильнее всего. Он знал походку отца и, только услышит его шаги по коридору, сразу прикидывался спящим. Родольфо, подойдя к кровати, видел, что мальчик притворяется. Все же он не уходил, стоял, держась за позолоченные прутья изголовья. Крепко зажмурив глаза, Хайме отдавался во власть чувству злобы и отчужденности. Это было сильней его, он давал понять отцу, что платит ему той же монетой. Злобе противостояла надежда, что Родольфо постарается найти Аделину, и эта возможность стала для Хайме смыслом всей его жизни.
Родольфо сознавал, что утратил любовь сына. Почему это случилось, он не понимал. Ему вспоминались светлые минуты, когда Хайме был ребенком, оба они ходили по улицам и Родольфо придумывал всякие истории. Теперь жизнь его влачилась с утомительным однообразием. Всю неделю он сидел в старом магазине, совсем уже захудалом. По вечерам ходил от скуки на двухсерийные мексиканские фильмы. По воскресным утрам пил пиво в обществе старых приятелей коммерсантов. Вечерами в субботу тайком выскальзывал из дому и направлялся в публичный дом в квартале Пастита. Там, точно в десять, его всегда ждала маленькая смуглая брюнетка, вся в родинках. Посещения Родольфо были недолгими и безмолвными. Никогда он не говорил с девушкой ничего сверх самого необходимого. Они даже не знали имен друг друга. Родольфо замечал, что девушка всегда отводит глаза, когда он с усилием отстегивает подтяжки и спускает брюки. Выходя из ее комнаты, он видел следующего, ожидавшего своей очереди. В одиннадцать часов медленно возвращался в каменный особняк.
Хайме стало лучше, и он как-то спросил у тетки, не заходил ли к нему его друг Хуан Мануэль. Асунсьон сказала, что нет, не заходил.
– Ты еще не поумнел? Ты теперь думай о своем будущем. Займись учебой и позабудь обо всем этом вздоре, которым набита твоя голова. Вот видишь, мне удалось немного успокоить дядю, он даже позволил тебе читать все, что ты захочешь, пока ты болен.
– А падре Обрегон? Он тоже не… заходил?
– Заходил. Он сказал, чтобы ты некоторое время подождал, прежде чем к нему идти, и чтобы почаще вспоминал его слова. Не знаю, мне иногда кажется, что наш падре Обрегон немножко тронутый. Недаром мальчики предпочитают его. А не вернуться ли тебе к падре Лансагорте?
– Нет, нет…
– Что ж, воля твоя. Посмотрим, что скажет дядя.
– Я бы хотел повидать Хуана Мануэля.
– Ты еще не поумнел?
В начале мая Родольфо Себальос стал хиреть. Сперва он почувствовал все возраставшую усталость при подъеме по винтовой лестнице. Раза четыре по меньшей мере приходилось ему останавливаться. Иногда слуги, привыкшие к скрипу железных ступенек, выглядывали из окон и смотрели, как поднимается этот толстяк, приходивший из магазина без пиджака, с обвисшими брюками на подтяжках в красную полоску. Четыре ступеньки, пять, пальцы судорожно хватаются за перила – казалось, непрочный остов лестницы не выдержит груза этого тучного тела. Еще несколько шагов вверх, снова передышка и тревожный взгляд. Слуги подсматривали исподтишка, скрывая свое любопытство. Потом у Родольфо началась бессонница. По ночам Хайме и супруги Балькарсель слышали над головой сомнамбулическое шарканье по плоской крыше. «Ты схватишь воспаление легких»,– сказала ему Асунсьон. Одной из немногих радостей для Родольфо в часы бессонницы было наблюдать восход солнца. Прохладный воздух вызывал у него кашель. Свет зари будто очерчивал белыми контурами, придавал объемность, глубину и яркость тому, что несколько минут назад казалось мутным гладким стеклом. В шесть утра он снова ложился, и ему удавалось с полчаса вздремнуть. Спал он крепко, но тревожно. Ему грезилось, что спальня заполнена врагами, а он, как ни силится, беспомощно лежит и спит на дне колодца. Около семи он просыпался и, одевшись, спускался позавтракать – выпить чаю с сухарями. Резкая боль вдруг пронзала низ живота, он, извинившись, выходил в уборную и мочился с острым, болезненным наслаждением. Мочился очень часто. Ночного горшка, стоявшего в спальне, не хватало на ночь. Он должен был выходить на узкую галерейку.
У него появилась страсть к портретам родственников. Он перерыл стоявшие в сарае сундуки, ящики конторки, которой пользовался старик Панфило, даже выпросил у Асунсьон фотографии ее самой, Балькарселя, мальчика. Желтоватые стены его спальни вскоре заполнилась фотоснимками – старыми, поблекшими, на жестком картоне, и новыми, еще блестящими. Фотографии – это жалкое бессмертие, подобное второй смерти,-странным образом успокаивали и поддерживали его. Втайне ему казалось, что домашние духи-хранители рассеют безликих врагов, заполнявших его сны. Порой же он осознавал, что дело тут в чем-то более глубоком, хотя и весьма простом. Целыми часами, сидя в продырявленном кресле, он делал смотр глядевшим на него со стен лицам. Вот гравюра на стали: его дед, дон Ихинио Себальос,– ясные, твердые глаза. Вон Гильермина, мать, подпирает рукою голову самым неестественным образом. Из овального дагерротипа глядит юная Гильермина с пышными локонами на ушах и пучком гвоздик на груди. У изголовья он повесил снимок в тоне сепии – родители в день свадьбы: у обоих широко раскрыты глаза, она с длинным шлейфом и затянутым корсажем, он со светлыми пышными усами и бородкой и в белой манишке, а в глубине разрисованное полотно, изображающее мост Риальто и Большой венецианский канал. Остальные снимки были менее парадные. Единственная карточка его жены Аделины запечатлела худую улыбающуюся девушку, сидящую в саду на скамейке. Колени ее открыты, черная юбка по моде двадцатых годов, на лбу – лента в блестках. На другом снимке улыбается Родольфо в соломенной шляпе, он держит за руку малыша в нагруднике, сосущего конфету. Мания Родольфо дошла до того, что он откопал в подвале литографию дона Порфирио, сам толком не зная зачем. Но, усаживаясь в кресло, чтобы созерцать застывшие эти лица, он чувствовал, что от них исходит теплый, обволакивающий тело покой.
Он все больше худел. Одежда, сшитая на мужчину весом девяносто шесть кило, стала свободна, и, кроме подтяжек, приходилось надевать пояс, чтобы придержать обвисшие складками брюки. Из чересчур просторной сорочки торчала дряблая, сморщенная шея. Его часто тошнило, а потом он мочился кровью.
«Решительно, Родольфо стал соблюдать диету, чтобы опять жениться»,– с тонким юмором заметил лиценциат Балькарсель. А Асунсьон однажды по окончании завтрака шепнула брату: «Свинья! Служанки жалуются, что ты делаешь свои гадости прямо на крыше… и все это… стекает по трубе в патио». Только Хайме ничего не говорил, хотя он был единственным, к кому во время семейных трапез отец обращал свои взгляды, полные любви и молившие о нежности.
Отец все назойливей донимал сына этими взглядами, словно сознавал, что ему уже осталось мало времени для любви. Болезненная улыбка Родольфо во время трех трапез всегда была обращена к мальчику. Напрасно Балькарсель велеречиво разглагольствовал о поведении родных и чужих. Напрасно Асунсьон взглядом укоряла брата в том, что он недостаточно внимательно слушает речи хозяина и главы семьи. Душа старика Себальоса была постоянно устремлена к сыну, а Хайме, уткнувшись лицом в тарелку, как бы не замечал этого вопиющего факта.
– Ради бога, тетя, скажи ему, чтобы он не смотрел на меня» так! – воскликнул однажды вечером Хайме.
– Что это значит? Что за поведение? – проворчал Балькарсель, когда Хайме вдруг отшвырнул салфетку и вскочил на ноги рядом с Асунсьон. Тирада лиценциата против отрыжек «выдохшегося якобинства» времен Хуареса была прервана этой выходкой. Разъярясь, Балькарсель вдруг понял, что в течение всей речи его слушали только притворно.– Решительно, тут не оказывают мне должного уважения. Ты, садись и ешь. Что за выходка! Сейчас же повтори суть всего, что я говорил. А вы, Родольфо, вы, который явно повинны в этом неуважении, что вы скажете? Надеюсь, вы согласитесь, что в этом доме должны кого-то слушаться, и я не понимаю, как вы…
Но с уст Родольфо не сходила застывшая улыбка паралитика. Напряженный его взгляд был по-прежнему прикован к разнервничавшемуся мальчику.
– Я к вам обращаюсь, Родольфо! – сказал Балькарсель, и лицо его стало иссиня-багровым.
– Он болен, Хорхе… он не понимает…– попыталась вмешаться Асунсьон, оправдывая брата причиной, которую до сих пор никто из членов семьи не решился назвать вслух. Балькарсель проглотил гнев, соблюдая молчаливый уговор семейного клана: не оказывать насилия, чтобы к тебе не применили насилия, умалчивать о личных переживаниях, говорить только сентенциозные общие места. «Ах, да!» – спохватилась его жена, подумав, что это в первый раз она говорит открыто о болезни Родольфо.
– Болен! – процедил сквозь зубы Балькарсель.– Здесь в доме нет больных. Просто все мы… немного утомлены и нервны, и только. Больше чтоб не было никаких разговоров о болезнях,– заключил он, стараясь овладеть собой, найти нужную формулу осуждения, но, так ничего и не придумав, встал из-за стола, опираясь руками на зеленую бархатную скатерть, и пожелал, чтобы ему подали кофе отдельно, в библиотеке с почерневшей кожаной мебелью. Опаловый свет лампы падал на скатерть, выделяя светло-зеленый круг: по краскам место действия напоминало игорный дом. Трое за столом молчали. Тетка и Хайме делали вид, что не замечают неподвижного взгляда, застывшей улыбки Родольфо Себальоса. Отец пожирал глазами сына. Хайме опустил голову и, пробормотав извинение, вышел из столовой. Несколько минут брат и сестра не обмолвились ни словом, прислушиваясь сперва к шагам мальчика по каменному полу коридора, затем – к странно отчужденному ритму маятника больших часов. Обе фигуры с опущенными головами находились вне зеленоватого светлого круга. Ночная сырость мрачной комнаты стала спускаться с потолочных балок, распространяться от оклеенных обоями стен. Родольфо положил на стол руку в веснушках и сероватых венах и начал вертеть ложечку. Асунсьон, скрестив руки под шалью, думала о том, как это правильно – никогда не говорить правды, никогда не ранить правдой своих близких. Правила, советы, усвоенные от родителей, которые также усвоили их от своих родителей: малая житейская мудрость, передающаяся из поколения в поколение, равнодушная к личности каждого нового существа, пригодная на все времена.
– Как далеки…
– Что? – спросила Асунсьон, когда брат прервал молчание. В лице Родольфо было что-то бесповоротно определившееся, как будто черты его уже никогда не изменятся.
– Как далеки… мы, такие, как мы есть, от того, чем могли быть.
Сестра слушала его, чопорно выпрямившись. Фигура ее походила на черную плоскую статую с готически резкими углами. Она хотела бы понять Родольфо, понять хотя бы теперь, когда Хайме стал мужчиной и ускользает от них обоих. Но, не решаясь об этом думать, она знала, что понять его – значит оскорбить: правда была жестока, и только ложь позволяла как-то существовать вместе.
– Кто знает, почему мы не похожи на наших отца и мать. Мне… мне бы очень хотелось жить так же счастливо, как они,– сонным голосом говорил Родольфо.– Помнишь ли ты, чтобы папа и мама хоть раз пожаловались? Мы были очень нежны с ними, все мы были так близки… А… а ты… помнишь, как папа играл с нами? Такой был славный старик, такой веселый, правда?
– А помнишь, как он привел кукольника в день, когда мне исполнилось девять лет?
– Ну да! Как же! – засмеялся Родольфо, барабаня пальцами по бархату.– Как же! Он любил, чтобы вокруг него все были довольны, это доставляло ему радость. Но ты и я…
– Ты и я, мы делали что могли, Родольфо. Не все было так уж плохо,– снова опустила голову сестра.
– Но дело-то в том, что могло быть куда лучше. Встреть я женщину вроде моей матери, мальчик был бы моим, а ты… будь у тебя сын, не присвоила бы Хайме себе одной. Он был бы моим.
От стола шел неприятный запах грязных тарелок, застывшего жира. Асунсьон наклонилась к брату, положила руку ему на плечо.
– Ты болен,– сказала она.– Ты сам не знаешь, что говоришь.
– Нет, знаю. Знаю, что меня сделали одиноким, что у меня отняли мою Аделину – такая или сякая, она могла бы согреть меня и составить мне компанию. Вы-то оставите меня умирать одного в моей комнате…
– Родольфо! – Асунсьон поддержала брата, чтобы он не свалился со стула.– Родольфо,– повторила она, обняв вялое тело без позвоночника. Голова больного гулко ударилась о стол.– Я предупреждала тебя – ты помнишь? – насчет этой женщины. Я говорила, что она недостойна тебя и всех нас. И вот изволь – так ей было суждено. Просто ты глупец, да, глупец. Будь я тогда здесь, этого никогда бы не случилось. Она была низкая женщина, это сразу было видно. Ее привлекало только твое положение, она не любила тебя.
– Не любила? – прозвучал над скатертью глухой слабый голос.– Нет… нет… любила… и это уже было кое-что, надо же что-то иметь в жизни… хотя бы любить кого-то, пусть нас и не любят…
– Нет, она тебя не любила! Ты не подумал, что она недостойна стать матерью Хайме. Потому-то матерью ему стала я, из-за твоей ошибки… Ты один во всем виноват.
Асунсьон бросала слова в окаменевшее нахмуренное лицо. Говоря об этом с братом, она заодно избавлялась от затаенного бремени горькой правды. Родольфо не хотел слушать. Ему хотелось спать, отдохнуть. Знаком он попросил помочь ему подняться.
– Отведи меня наверх. Мне нехорошо.
Тут в столовой послышались быстрые шаги, подбежал Хайме и, обняв отца, приподнял его. Родольфо прижался головой к груди мальчика, закрыл глаза и пошевелил губами, чтобы поцеловать его сорочку.
Всего один раз довелось ему еще увидеть отца за семейным столом одетого, держащегося на ногах. Из окна он увидел, как отец идет по улице, и сказал себе, что это желтое лицо, эта одежда, слишком просторная для истощенного тела, эти пепельные волосы и узкий лоб, эти выпуклые глаза с кровавыми точками на белках, эти покорные жесты, эта веснушчатая рука, открывавшая дверь, этот отчужденный, пустой взгляд, что все это – его отец. Родольфо медленно поднялся в гостиную, затем прошел в столовую, вымыл руки над расписным умывальником и, еще не садясь, сказал, что задыхается. Измельченные овощи – единственное, что он мог глотать без труда,– остывали на тарелке. Асунсьон засовывала салфетку для мужа в кольцо черненого серебра и не обратила на него внимания. «Садись, ешь, горячее тебе полезно». Хайме, видя, что больной покачнулся, и не подумал помочь ему. Он ждал, что в глазах отца появится обычное молящее выражение. Но у старика уже не было сил чего-то желать. Он искал опоры, и мальчик, сидя на своем стуле, был заворожен этим зрелищем физической немощи. Родольфо все же удержался на ногах, обхватив выкрашенную лазурью колонну. Он закрыл глаза, глубоко вздохнул и вышел из столовой. Потом его нашли в комнате сына, на кровати Хайме,– у него не было сил подняться к себе. Врач приказал не трогать его, и Хайме пришлось спать на кожаной софе в библиотеке. Комната на крыше внушала ему страх. «Но ведь это не заразно,– говорила донья Асунсьон.– Мы тебе постелим твои простыни».
Каждое утро в течение всех двадцати дней, которые осталось жить Родольфо, сын заходил в свою спальню, занятую умирающим, взять себе на день что нужно из одежды. Хайме был благодарен отцу за слова, сказанные в разговоре с сестрой, который он слышал. Но, входя в спальню, он не знал, что сказать отцу, как к нему подойти. Утренний свет озарял узкий череп больного. Он был уродлив, агонизирующий, уродливый старик, просыпавшийся с гримасой улыбки на губах и залепленными гноем ресницами. Растрепанные волосы падали ему на уши. Когда Хайме выдвигал ящик, чтобы найти сорочку, он пытался также найти хоть слово для отца. Но, подняв голову, видел себя в зеркале – юное лицо с точеными чертами, со светлым пушком у рта. Так и не нашел он этого слова. И отец тоже ни разу не обратился к нему. Оба ждали.
За несколько дней до смерти у Родольфо хватило сил вытянуть руки и коснуться пальцев сына. Хайме сел у постели больного, и его затошнило от дурного запаха, от грязной пижамы в зеленую полоску. Сморщенная шея, седоватая бородка и покрытые одеялом плечи дрожали от страстного желания. Этот живой труп хотел с ним поговорить, силился притянуть голову юноши к своему рту. Но напрасно шевелился язык в этой беззубой серой яме. Почему же опустил глаза юноша, застигнутый врасплох явлением смерти? Почему ум его, уклоняясь, устремлялся к тем вычитанным в книгах идеям, что облегчали боль, которую он не хотел испытать? Почему он оправдывал себя, свое безразличие к смерти отца страницами книги, где нашел утверждение, что страдать и причинять страдания другим – свойство сильных духом? Он пытался вспомнить слова Евангелия о семье, которая будет разделена, и они смешивались в его уме с цитатами из Ницше. Но разделяло их и нечто большее, чем идеи, чем разница в возрасте или отчуждение. Хайме, сидящий у одра своего отца, был воплощением молодости и жизни. Родольфо, чьи серые руки лежали поверх простыни, казалось, победоносно утверждал смерть. Один ничего не желал знать о другом. Каждый хотел бы видеть в другом свое отражение, но не отрицание. Сблизить их могла бы лишь тождественность положения. Но в это утро сближение было невозможно. Поэтому Хайме не захотел слушать слова, прорвавшиеся наконец из гортани больного, подобно пузырькам остывающего кипятка. Приникнув головой к груди отца, сын затаил дыхание. «Мы живем недолго,– говорил невнятный голос.– А умираем долго, очень долго». В дверь тихо постучался врач. Хайме, обрадованный его приходу, поднялся. Но, повинуясь внезапному порыву, еще обернулся к отцу и пожал его руку.
В четыре часа утра его разбудила Асунсьон. Озябшие петухи вторили плачу тетки. Утро было голубое, оно окрасило металлическими тонами окоченевшее лицо Родольфо. Синие руки сжимали распятие. Только простыни были ослепительно белы – металлические отсветы сосредоточились на трупе. Хайме стоял на пороге и Думал, что отец умер в этой комнатке юности, на постели его, семнадцатилетнего. Он силился подавить рыдание, рвавшееся из ноздрей и рта. Теперь у его отца – у этих синих рук, этой ослепительно белой простыни – уже не было имени.
Дядя Балькарсель стоял, засунув руку за борт жилета. Он надел личину величавой суровости. Асунсьон, преклонив колени, плакала. Сидевший у изголовья падре Обрегон поднялся и очень тихо сказал:
– Мы всегда являемся слишком поздно.– И, проходя мимо Хайме, серьезно оглядел его.– Зайди ко мне послезавтра, сын мой.
– Rйquiem aeternam dona eis, Domine… [9] – бормотала рыдая Асунсьон – темная, плоская, коленопреклоненная фигура.
Балькарсель вышел в коридор и строго округлил брови:
– Рано или поздно это ждет всех нас.
Да, у него уже не было имени, и последний знак любви был уже невозможен. То, о чем он просил каждый день в эти последние месяцы. Хайме захотелось подойти к трупу, поцеловать в лоб. Его остановило сознание, что это будет ложью. Стоя у двери, он хотел бы поговорить с этим застывшим, покрытым простынею телом. Хотел бы просить у него сочувствия к своей гордыне и юности.
– Решительно, он был добрый человек,– изрек Балькарсель.– Весьма безалаберный, но добрый, да-с.
– …et lux perpetua luceat eis… [10]
В шесть утра явился служащий из похоронного бюро.
– Запущенный случай, рак желудка,– сказал ему врач. Затем попросил всех удалиться из спальни.
9
Когда начали лопатами бросать на гроб землю, Хайме не мог подавить нахлынувшую на него горькую радость. Как не мог понять, откуда это чувство освобождения, все возраставшее по мере того, как останки отца скрывал второй саван – грязь. В последние дни шел дождь, и гроб на глинистом дне ямы покачивался, подобно каравелле, готовой отчалить, как только удалится похоронный кортеж.
– Ты должен вести себя прилично с нашими друзьями,– предупредила его Асунсьон.– Тебе ведь в первый раз приходится участвовать в похоронах члена семьи. Ты должен надеть черный галстук и вместе с нами принимать соболезнования. Смотри не поставь нас в неловкое положение.
И вот он стоял, подавая по очереди руку дону Чеме Наранхо, донье Пресентасьон Обрегон и сеньорите Паскуалине, дряхлому дядюшке X. Гуадалупе Монтаньесу, влиятельному сеньору Максимино Матеосу, девицам Дочерям Марии, падре Лансагорте. Скорбные лица, пожимающие руки и слова утешения были все одни и те же. Хайме только кивал головой, будто подтверждая что-то. Никто из этих людей не подал руки Родольфо Себальосу, когда он был жив. Толстый коммерсант был самое большее объектом давно позабытых сплетен. Никто не подал ему руки, и еще менее других – его сын, сказал себе Хайме, приняв последний поцелуй соболезнования.
– Можно мне побыть здесь одному? – спросил он у дяди и тети, когда родичи и друзья удалились с кладбища. Балькарсель пожал плечами.
– Не задерживайся,– шепнула Асунсьон.– У дяди вечером заседание, от которого он не мог отговориться. Пожалуйста, будь со мной за ужином.
И Хайме направился по кипарисовой аллее, ускоряя шаг, стараясь держаться поближе к самым нижним веткам деревьев и ощущая на лице капли влаги.
У могилы, где покоился Родольфо Себальос, кто-то стоял. Это был Хуан Мануэль Лоренсо, странно выглядевший в узком синем пиджаке. Друзья обменялись рукопожатием.
– Я ждал… пока все уйдут, Себальос.
– Спасибо, Лоренсо.
– Я заходил к тебе… когда ты был болен… Тебе передавали?
– Нет.
Они пошли с кладбища. Каждый был уверен, что друг не прервет молчания. С кладбищенского холма свинцовые тучи быстро неслись вниз на Гуанахуато. В сумерках слышнее были дневные испарения города. Запахи лака из столярных мастерских, жженых копыт из кузниц, горьковатого дымка из кухонь бедняков вздымались серыми волнами над крышами домов и наполняли легкие Хайме и Хуана Мануэля. Нестройно звучали церковные колокола и бубенчики ослов. Под серебристыми тучами еще ярче блестели купола колониального города, голубые стены в извилистых переулках и белые хижины, лепившиеся по склонам оврагов.
– Я ждал тебя тогда… на другой день… чтобы вместе… пойти на работу,– сказал Хуан Мануэль, когда они спускались по крутому откосу.
Хайме расслабил черный галстук и отстегнул ворот сорочки.
– Знаешь, та женщина, которую называли Аристократка…
– …твоя мать, Себальос.
– Откуда тебе это известно? – Хайме пнул ногой консервную банку.
– Я это давно знаю… Она… всегда об этом говорит… Всегда, когда бывает в пивнушке…
– Почему же ты мне не сказал?
– А разве… не лучше было… чтобы ты сам узнал? Почему ты ей не сказал, кто ты, Хайме?
– Ты бы это сделал?
– Конечно… Я бы не постыдился.
– Я не постыдился!
– Нет, ты тоже… постыдился… как твой отец… и твои дядя и тетя.
– Хуан Мануэль, Хуан Мануэль!
Они остановились. От влажной земли густо поднимались глубинные ее запахи. Друзья впервые назвали один другого по имени.
Асунсьон ждала Хайме до девяти вечера. На зеленой бархатной скатерти остывал ужин. Одинокая неподвижная фигура тетки во главе стола казалась еще. одной из спинок дюжины стульев. Дон Пепе Себальос, отец, когда-то заказал эту дюжину стульев, чтобы хватило для многочисленной семьи и ежедневных гостей. Во времена основателя рода, дона Ихинио, в семье было восемь человек. В правление Пепе – десять; чопорная Гильермина, дети – Асунсьон и Родольфо, брат Панфил о, бедные родственники Лемусы, бабушка-андалуска донья Маргарита, жених дочери. А теперь, в этот вечер, она одна, без мужа, без Хайме.








