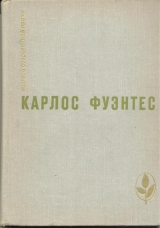
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Карлос Фуэнтес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
– Больше не сметь охотиться! – раздался резкий голос Сагаля, скалившего зубы в улыбке.– Когда-нибудь тебе дорого обойдутся эти выстрелы, капрал Паян.
Приподнявшись на стременах, полковник обратился к отряду:
– Поймите наконец, дурачье: карранкланы [89] наступают нам на пятки. Нечего зря тратить патроны. Или вы думаете, что мы, как раньше, идем с победой на юг? Совсем наоборот. Мы разбиты и идем на север, откуда пришли.
– Но, мой полковник,– послышался глуховатый голос капрала, – теперь хоть будет что пожрать.
– Тут пожрать на твою мать! – взревел Сагаль. Отряд загоготал, а Паян привязал убитую косулю к седлу
своей лошади.
– Не трогать ни воду, ни муку, пока не сойдем вниз,– распорядился Сагаль.
А он не сводил глаз с обрывистой тропки. Там, за поворотом, зияет пасть рудника.
Под копытами лошади Сагаля зазвякали узкие рельсы, на полметра выступавшие из входа в рудник. И Крус бросился с коня, кубарем покатился вниз по пологому спуску. Огорошенные солдаты едва успели схватиться за ружья, а он уже грохнулся в темноте на колени. Прогремели первые выстрелы, послышались голоса вильистов. Прохлада подземелья освежила лицо, но от темноты закружилась голова. Вперед, только вперед: ноги, не чувствуя боли, несли его, пока тело не наткнулось на скалу. Растопырив руки в стороны, понял: слева и справа коридоры. Из одного тянуло свежим ветерком, из другого – спертым жарким воздухом. Кончики пальцев его распростертых рук ощутили разницу температур. Он снова побежал туда, где жарко, где штрек, видимо, шел вглубь. Сзади, звеня шпорами, бежали вильисты. Оранжевым огоньком вспыхнула спичка. А он, в этот самый миг потеряв под ногами почву, свалился в вертикальный колодец, услышал глухой удар собственного тела о гнилую рудничную крепь. Наверху громче зазвенели шпоры; стены шахты отзывались эхом негромких голосов. Беглец с трудом поднялся, попробовал определить размеры ямы, в которую упал, нащупать выход, чтобы бежать дальше.
«Лучше переждать здесь…»
Голоса наверху стали громче, словно шел спор. Он ясно расслышал хохот полковника Сагаля. Голоса начали удаляться. Вдали кто-то свистнул: резко, предостерегающе. Затем до его убежища донесся непонятный тяжелый грохот, продолжавшийся несколько минут. Потом наступила полнейшая тишина. Глаза привыкли к темноте.
«Кажется, ушли. А может, ловушка. Лучше переждать здесь».
В духоте заброшенного штрека он потрогал грудь, ощупал бок, нывший от удара. Колодец не имел выхода – наверное, тупик. Рядом валялось несколько прогнивших крепежных свай; другие подпирали зыбкий глиняный потолок. Он удостоверился в надежности одной из свай и сел, прислонившись к ней, решив переждать несколько часов. Эта свая поднималась к отверстию, через которое он сюда попал. Было нетрудно вскарабкаться по бревну и снова добраться до выхода. Нащупал дыры в штанах и в кителе, золотые галуны кое-где содрались. Одолевали усталость, голод, сон. Молодое тело обмякло, ноги расслабились, в паху заныло. Тьма и полный покой, учащенное дыхание и закрытые глаза. Стал думать о женщинах, которыми еще не обладал: знакомые тела не занимали воображения. Последняя была во Фреснильо. Разряженная проститутка. Из тех, которые плачут, когда их спрашиваешь: «Ты откуда? Как здесь очутилась?» Обычный вопрос, чтобы завязать разговор. Да и им нравится рассказывать сказки. Но эта – нет, не рассказывала, только плакала. И война никак не кончается. Ясно, идут последние бои. Он скрестил руки на груди и попытался дышать ровно. Захватить бы разбитое войско Панчо Вильи – и будет мир. Мир.
«Что же буду делать я, когда все кончится? А зачем думать, что все кончится? Это не в моем характере».
Может, и в мирное время найдется неплохое занятие. Он прошел всю Мексику – из конца в конец – и участвовал только в разрушении. Но ведь заброшенные поля можно снова засеять. Как-то в Бахио ему попалось на глаза прекрасное поле, около которого можно было бы построить дом с аркадой и патио, развести цветы и заняться земледелием. Смотреть на прорастающее семя, орошать посевы, оберегать цветущие растения, собирать плоды. Славная жизнь могла бы наступить, славная…
«Эй, не спать, быть начеку…»
Он ущипнул себя за ляжку. Затылок тяжелел, голова откидывалась назад.
Сверху не доносилось ни звука. Можно идти на разведку. Он оперся плечом о вертикальную сваю и нащупал ногой выступы на стене колодца. Полез вверх, охватив здоровой рукой бревно и переступая с выступа на выступ; лез, пока не заскреб ногтями по полу верхнего штрека. Высунул голову. Вылез в жаркий коридор. Теперь здесь, казалось, стало еще более душно и темно. Побрел к стволу шахты и скоро почувствовал, что добрался до цели, потому что неподалеку от душного штрека начиналась штольня, продуваемая ветерком. Но там, дальше, где находился вход, не было видно света. Или уже стемнело? Может, он потерял счет времени?
Ощупью добрался до входа в штольню. Нет, не ночь закрыла вход, а баррикада из тяжелых обломков скал, сложенная вильистами перед отъездом. Они замуровали его в этом склепе – заброшенном руднике.
Прихлопнули. От этой мысли к горлу подступила тошнота. Невольно расширились ноздри, ловившие воздух. Пальцы прикоснулись ко лбу, потерли виски. Но ведь была и штольня с выходом наружу. Ведь в нее врывался воздух снаружи, с равнины, вместе с солнцем! Он бросился туда. Да, сладкое свежее дуновение. Он шел, спотыкаясь в темноте, ощупывая руками стены. Вот пальцы раздавили каплю воды. Он прижался открытым ртом к стене, ища источник влаги. От потолка медленно ползли холодные жемчужинки, одна за другой. Слизнул языком вторую, дождался третьей, четвертой. Опустил голову. Штольня, кажется, кончилась. Он повел носом. Воздух шел откуда-то снизу, овевал щиколотки. Он опустился на колени, пошарил руками. Да, из какого-то невидимого, заваленного прохода несло свежестью. Надежда придала сил: завал был непрочным. Он начал раскидывать камни, отверстие ширилось и наконец открылось. Оно вело в новую подземную галерею, в которой слабо мерцали серебристые прожилки. Он протиснулся в проход и лишь тогда понял, что во весь рост идти нельзя – можно передвигаться только на четвереньках. И он пополз, не зная, куда выведет его этот звериный лаз. Серебристо-серые прожилки да тусклые отблески золотых галунов – вот и все, что он видел, продвигаясь ползком, как полумертвое пресмыкающееся. Глаза напряженно сверлили мглу, струйка слюны текла по подбородку. Рот, казалось, был полон тамариндов: от невольного воспоминания об этих фруктах била слюна. А может, это настоящий запах, который врывался сюда из какого-то далекого сада и вместе с ленивым воздухом равнины проникал в этот тесный коридор? Да, обостренное чутье уловило свежее дуновение. Глубокий вдох. Полной грудью. Аромат близкой земли, аромат, который сразу учует тот, кто столько времени дышал воздухом гор. Узкая галерея опускалась все ниже и ниже и вдруг сразу оборвалась. Внизу он разглядел нечто вроде патио, покрытого песком. Оторвался от скалы и упал на мягкое белое ложе. Сюда уже добрались щупальца каких-то растений. Но откуда?
«Надо вылезать. Вон свет! Это не отблеск песка, это свет!» Он бежал, глубоко дыша, к выходу, залитому солнцем. Он бежал, ничего не слыша и не видя. Не слыша ни треньканья гитары, ни разливистого и надрывного пения отдыхающего солдата:
Там, в Дуранго, все девчонки носят платья голубые и зеле-о-оные,
Приласкал их, а красотки расцарапали мне щеки, разозле-о-онные…
Он не замечал ни маленького костра, над которым покачивалась тушка убитой косули, ни рук, отрывавших от нее кусок за куском.
Он упал, ничего не видя и не слыша, едва ступил на горячую землю. Разве что-нибудь увидишь при дневном палящем солнце, под которым, как меловой гриб, белела высокая шляпа человека, скалившего зубы в улыбке и протягивавшего ему руку:
– Поживей, капитан, вы нас задерживаете. Глядите-ка, ваш яки уже набил брюхо. Сейчас можно и глотку смочить.
В Чиуауа девчонки все тоскуют и хиреют, богу мо-о-лятся,
Чтоб послал он им парней, да по-сильнее, по-задо-о-ристей…
Пленник поднял лицо и, не глядя на прикорнувших солдат Сагаля, устремил взор вперед: суровые зубцы скал и колючие заросли, путь долгий и медленный, пустынный и трудный. Он встал и дотащился до маленького бивуака. Его встретил твердый взгляд индейца яки. Он протянул руку, оторвал обжигающий кусок мяса от хребта косули и стал есть.
Пералес.
Деревня с глинобитными домишками, мало чем отличавшаяся от других деревень. Только небольшая часть дороги – перед муниципалитетом – замощена булыжником. Дальше – сплошная пыль, которую толкли босые ноги детей, лапы надутых индюков да бродячих собак, дремавших на солнце или с лаем гонявших по деревне. Всего один или два солидных дома – с большими дверями, железной крышей и жестяными сточными трубами. Обычно они принадлежали лавочнику-спекулянту и представителю власти (если это не было одно лицо), которые бежали теперь от скорой расправы Панчо Вильи. Войска заняли обе усадьбы и заполнили конями и фуражом, боеприпасами и оружием патио, отгороженные от улицы высокими, словно крепостными, стенами. Здесь было все, что удалось спасти разбитой и отступавшей Северной дивизии.
Вся деревня казалась бурой. Только фасад муниципалитета отсвечивал розовым, но цвет этот на боковых стенах и в патио тускнел и приобретал тот же серовато-бурый оттенок. Неподалеку был водоем; поэтому здесь и выросло селение, все богатство которого составляли несколько дюжин кур и индюков, сухие маисовые поля рядом с пыльными улочками, две кузницы, одна плотницкая мастерская, мелочная лавка, а также кое-какой домашний промысел. Деревушка жила каким-то чудом. Жила тихо. Как и большинство мексиканских деревень, казалась вымершей. Разве что утром или вечером, вечером или ночью услышишь частый стук молотка или плач новорожденного, но очень редко встретишь на жарких улицах человека. Только дети иной раз выскочат – крохотные, босые. Солдаты тоже не покидали занятых домов, отсиживались в патио муниципалитета, куда и направился усталый отряд. Когда всадники спешились, к ним приблизился сторожевой пикет. Полковник Сагаль кивнул на индейца яки:
– Этого в каталажку. А вы, Крус, пойдете со мной.
Полковник больше не улыбался. Распахнул дверь побеленной комнаты и рукавом вытер пот со лба. Расстегнул пояс и сел. Пленный стоял и смотрел на него.
– Берите стул, капитан, и давайте поговорим по душам. Хотите сигарету?
Пленный взял; огонек на секунду сблизил оба лица.
– Так,– снова оскалился в улыбке Сагаль.– Дело-то простое. Вы сообщили бы нам планы наших преследователей, а мы выпустили бы вас на свободу. Говорю вам прямо. Мы знаем, что нам конец, но все-таки хотим защищаться. Вы – настоящий солдат и должны понять.
– Да. Потому-то я и не скажу ничего.
– Хорошо. Но нам надо знать очень немного. Вы и мертвецы, оставшиеся в каньоне,– отряд разведчиков, это ясно.
Значит, основные части идут следом. Можно сказать, разнюхали, каким путем мы направляемся на север. Но раз вы не знаете дорогу через горы, то, понятно, вашим придется пересечь равнину, а это отнимет несколько дней. Так вот, сколько вас? Не отправлены ли вперед эшелоны по железной дороге? Сколько, по-вашему, у вас боеприпасов? Сколько пушек? Какова тактика? Где соединятся отдельные бригады, которые нас преследуют? Все очень просто: вы мне расскажете про это и будете свободны. Даю слово.
– А где гарантии?
– Карамба, капитан! Нам же все равно крышка. Говорю вам откровенно. Дивизия распалась. Она разбилась на отряды, которые теряют связь друг с другом и рассеиваются в горах, потому что люди остаются в своих деревнях. Мы устали. С тех пор как мы поднялись против дона Порфирио [90] , мы провели в боях немало лет. Дрались с Мадеро, с отрядами Ороско, воевали с сопляками Уэрты, а потом с вами, с карранкланами Каррансы. Немало лет. И мы устали. Наши люди как ящерицы: они меняют кожу под цвет земли, прячутся в своих хижинах, снова обряжаются в тряпье пеонов, ждут часа, чтобы опять идти в бой, и могут прождать еще сто лет. Они знают, что на сей раз мы побеждены, как и сапатисты на юге. Победили вы. Зачем же вам умирать, если война выиграна вашими? Но дайте нам проиграть с оружием в руках. Я прошу только одного. Дайте проиграть нам с честью.
– Панчо Вильи нет в этой деревне?
– Нет. Он идет впереди. И люди уходят. Нас осталось уже немного.
– Что вы мне обещаете?
– Мы оставим вас живым тут, в тюрьме, и ваши друзья вас освободят.
– Да, если наши победят. Если нет…
– Если мы их разобьем, я даю вам коня и вы бежите.
– А вы стреляете мне в спину.
– Значит, не…
– Нет. Нечего мне вам сказать.
– В каталажке – ваш приятель-яки и лиценциат Берналь, посланец Каррансы. Вместе с ними будете ждать приказа о расстреле.
Сагаль встал.
Ни один из них не испытывал никаких чувств. Чувства каждого – на той, на этой ли стороне – были парализованы, раздавлены повседневным напряжением непрестанных боев, боев вслепую. Они разговаривали машинально, без всяких эмоций. Полковник хотел получить сведения и давал возможность выбирать между свободой и расстрелом; пленный отказывался сообщить сведения: не Сагаль и Крус, а две сцепившиеся шестерни разных военных машин. Поэтому известие о расстреле было встречено пленным с полным спокойствием. Правда, спокойствие это позволяло ему осознать чудовищное равнодушие, с каким он обрекал себя на смерть. И вот он тоже встал, выпятил нижнюю челюсть:
– Полковник Сагаль, мы долгое время подчинялись приказам, не имея возможности что-то сделать… что-то такое, что позволило бы сказать: это делаю я, Артемио Крус; делаю по своей воле, не как офицер. Если вам надо убить меня, убейте как Артемио Круса. Вы уже говорили – все это кончается, люди устали. Я не хочу умирать как последняя жертва победы, и вы тоже, наверное, не хотите умирать как последняя жертва поражения. Поступите со мной, как человек с человеком, полковник. Я предлагаю вам драться на револьверах. Проведите черту посреди патио и выйдем навстречу друг другу с оружием в руках. Если вам удастся ранить меня до того, как я перейду черту, вы добьете меня. Если я перешагну черту и вы не попадете, вы меня отпустите.
– Капрал Паян! – крикнул Сагаль, сверкнув глазами.– Отведите его в камеру.– Потом повернулся лицом к пленному: – Я не сообщу вам часа казни, сидите и ждите. Может, это будет через час, а может, завтра или послезавтра. И все же подумайте о том, что я вам сказал.
Лучи заходящего солнца, проникавшие сквозь решетку, золотили силуэты двух узников. Один из них ходил, другой лежал на полу. Тобиас попытался прошептать какое-то приветствие; тот, что метался по камере, повернулся к вновь вошедшему, едва только закрылась дверь и ключи капрала щелкнули в замочной скважине.
– Вы капитан Артемио Крус? Я Гонсало Берналь, парламентер главнокомандующего Венустиано Каррансы.
Берналь был в гражданском платье – в кашемировой куртке кофейного цвета с хлястиком. И капитан взглянул на него так, как глядел на всех штатских, которые лезли в мясорубку войны: нехотя, с презрительным равнодушием. Но Берналь продолжал, вытерев платком свой широкий лоб и рыжеватые усы:
– Индеец совсем плох. У него сломана нога. Капитан пожал плечами;
– Терпеть недолго.
– Что там слышно? – спросил Берналь, задержав платок у самых губ; слова прозвучали глухо.
– Всех нас поставят к стенке. Но когда – не говорят. Не пришлось помереть от простуды.
– И нет надежды, что наши подоспеют?
Он перестал ходить по камере. Глаза, невольно сверлившие потолок, стены, решетчатое окно, земляной пол в поисках лазейки для побега, остановились на этом новом враге, на лишнем соглядатае.
– Воды тут нет?
– Яки всю выпил.
Индеец стонал. Он подошел к изголовью каменной голой скамьи, служившей также кроватью, нагнулся к медному лицу. Его щека почти коснулась щеки Тобиаса, и впервые – так явственно, что он отпрянул назад,– перед ним возникло это лицо, прежде бывшее только темной маской, одной из многих, которые принадлежали безликим воинам и в его сознании сливались воедино с быстрыми ловкими телами – войском. Да, у Тобиаса было лицо, и он видел его, страдальческое, суровое. Сотни белых морщинок – от смеха, от гнева и от солнца – бороздили уголки век, широкие скулы. Толстые губы беззлобно улыбнулись, а в черных узких глазах мелькнуло что-то похожее на радость.
– Значит, ты пришел,– сказал Тобиас на своем наречии; капитан научился его понимать, командуя солдатами-индейцами с гор Синалоа.
Он пожал нервно подрагивавшую ладонь яки.
– Да, Тобиас. Но сейчас важнее другое: нас расстреляют.
– Так должно быть. Так сделал бы и ты.
– Да.
Наступила тишина; солнце уходило из камеры. Троим пленникам предстояло вместе провести ночь. Берналь бродил по камере. Капитан опустился на землю и что-то рисовал в пыли. Снаружи, в коридоре, зажглась керосиновая лампа и зачавкал дежурный капрал. С равнины потянуло холодом.
Снова поднявшись, он подошел к двери: толстые сосновые доски и маленькое оконце на уровне глаз. За оконцем поднимался дымок самокрутки, которую раскуривал капрал. Капитан ухватился руками за ржавые прутья решетки и смотрел на приплюснутый профиль своего стража. Черные клоки волос свисали из-под брезентовой фуражки, касаясь голых квадратных скул. Пленный попытался привлечь его внимание, и капрал тотчас вскинул голову: «Чего надо?» – взмахнул рукой. Другая рука по привычке сжала карабин.
– Уже есть приказ на завтра?
Капрал глядел на него желтыми узкими глазами. И не отвечал.
– Я нездешний. А ты?
– Сверху, с гор,– проговорил капрал.
– А что это за место?
– Какое?
– Где нас расстреляют. Что видно-то оттуда?
Он умолк и подал капралу знак, чтобы тот посветил ему лампой.
– Что видно?
Только сейчас вспомнил он, что всегда смотрел вперед, с той самой ночи, когда пересек горы, оставив старый дом под Веракрусом. С тех пор назад не оглядывался. С тех пор полагался только на себя, только на свои собственные силы… А сейчас… не смог удержаться от глупого вопроса – что за место, что оттуда видно? Наверное, просто для того, чтобы избавить себя от подступавших воспоминаний, от внезапной тоски по тенистым папоротникам и медленным рекам, по вьюнкам над хижиной, по накрахмаленной юбке и мягким волосам, пахнущим айвой…
– Вас отведут в задний патио,– говорил капрал,– а видно… Чего там видно? Стенка, голая, высокая, вся пулями исковыренная,– кто сюда попадет, всех…
– А горы? Горы видно?
– Правду сказать – не помню.
– И многих ты тут… видел?…
– У-ух…
– Небось кто стреляет, больше видит, чем тот, кого?…
– А сам ты разве никогда не расстреливал?
(«Да, но никогда не представлял себе, не задумывался о том, что можно в эти минуты чувствовать, что и мне тоже когда-нибудь придется… Поэтому нечего тебя расспрашивать, верно? Ты убивал, как и я, без оглядки. Поэтому никто не знает, что в этот миг чувствуют, и никто ничего не расскажет. Вот если бы можно было вернуться оттуда, рассказать, что значит услышать залп, ощутить удары пуль в грудь, в лицо. Если бы рассказать всю правду, может, мы больше не стали бы убивать, никогда. Или, наоборот, стали бы плевать на смерть… Может, это страшно… А может, так же просто, как родиться… Что знаем мы с тобой оба?»)
– Слышь, капитан, галуны тебе более не понадобятся. Отдай мне.
Капрал просунул руку сквозь решетку, а он повернулся к двери спиной. Стражник засмеялся, хрипло и глухо.
Яки что– то зашептал на своем языке, и он медленно пошел к каменному ложу, потрогал горячий лоб индейца, прислушался. Речь лилась плавно, как песня.
– О чем он?
– Рассказывает. Как правительство отняло у них исконно индейские земли и отдало гринго. Как они дрались, чтобы их отстоять. Тогда пришла федеральная армия и стала рубить руки мужчинам, ловить их в горах. Как привели всех вождей-яки на высокую гору и сбросили в море с камнем на шее.
Яки говорил с закрытыми глазами:
– Тех, кто остался в живых, погнали длинными-предлинными рядами, погнали в чужие края, погнали на Юкатан, погнали из Синалоа…
– Рассказывает, как шли они к Юкатану, как женщины, старики и дети их племени падали замертво на дороге. Тех, кому удалось дойти до хенекеновых плантаций, продавали, словно рабов, разлучая с женами. Как заставляли женщин жить с китайцами, чтобы они забыли свой язык и нарожали побольше
работников…
– Но я вернулся, вернулся. Когда узнал, что война, я вернулся, с моими братьями вернулся воевать против зла.
Яки тихо засмеялся, а он, ощутив желание помочиться, встал, расстегнул штаны цвета хаки, пошел в угол – струя прибила пыль. Он нахмурил брови, подумав об обычном конце храбрецов, умирающих с мокрым пятном на брюках военного образца.
Берналь, скрестив руки на груди, казалось, выискивал в темноте и холодном мраке, там, за высокой решеткой, лунный отсвет. Порой из деревни до них долетал монотонный стук молотка, выли собаки. За стеной слышались приглушенные голоса. Он стряхнул с кителя пыль и подошел к молодому лиценциату.
– Сигареты есть?
– Да… Как будто… Вот.
– Дай индейцу.
– Я давал. Мои ему не по вкусу.
– А свои у него есть?
– Кажется, кончились.
– Наверное, у солдат есть карты.
– Нет. Пожалуй, не смогу сосредоточиться. Едва ли…
– Спать хочешь?
– Нет.
– Ты прав. Нечего время терять.
– Думаешь, еще пожалеем?
– О чем?
– О том, что время теряли…
– Да, смешно.
– Вот именно. Лучше вспоминать. Говорят, помогает.
– Не так много прожито.
– Согласен. Тут в выигрышном положении яки. Поэтому,, значит, ты и не склонен разговаривать.
– Да. Впрочем, не совсем тебя понял…
– Я говорю, яки есть о чем вспомнить.
– Может, они вспоминают иначе.
– Хотя бы об этом пути, из Синалоа. О чем он только что рассказывал.
– Да.
– Рехина…
– А?
– Нет, я так. Перебираю имена.
– Тебе сколько лет?
– Скоро двадцать шесть. А тебе?
– Двадцать девять. Мне тоже, в общем, нечего вспомнить. А ведь жизнь в последние годы была такой неспокойной, такой переменчивой…
– Интересно, когда люди начинают вспоминать свое детство, а?
– Детство… Нет, это трудно.
– Знаешь? Вот мы тут разговариваем…
– Ну?
– Мне припомнились некоторые имена. И они для меня уже ничего не значат, ничего не говорят…
– Скоро рассвет.
– Не стоит об этом думать.
– Спина вся мокрая от пота.
– Дай-ка сигарету. Эй, слышишь?
– Прости. Вот. Может, ничего и не почувствуем.
– Так говорят.
– Кто говорит, Крус?
– Понятное дело – те, кто убивает.
– Ты-то как?
– Хм…
– Почему ты не думаешь о…
– О чем? О том, что все пойдет по-старому, хоть нас и не будет?
– Нет, надо думать не о будущем, а о прошлом. Я думаю сейчас о всех тех, кто умер в революцию.
– Ну… Я помню Буле, Апарисио, Гомеса, капитана Тибурсио, Амарильяса… Других тоже.
– Готов держать пари, что ты не назовешь и двадцати имен. И не только своих. А как звали всех убитых? Нет, не только в эту революцию – во всех революциях, во всех войнах… И даже умерших в своей постели. Кто о них помнит?
– Дай-ка спичку. Слышишь?
– Прости.
– Вот и луна.
– Хочешь взглянуть на нее? Если станешь мне на плечи,. сможешь…
– Нет. Ни к чему.
– Пожалуй, это хорошо, что у меня отобрали часы.
– Да.
– Я хочу сказать, что не следишь за временем.
– Понимаю.
– Мне всегда ночь казалась… казалась длиннее…
– Проклятая вонючая дыра.
– Погляди на яки. Уснул. Хорошо, что никто из нас не трусил.
– Пошел второй день, как мы тут.
– Кто знает. Могут войти с минуты на минуту.
– Нет. Им нравится эта игра. Всем известно, что расстреливают на рассвете. А им хочется поиграть с нами.
– Значит, он не такой скорый на решения?
– Вилья – да, Сагаль – нет.
– Крус… Ну разве это не абсурд?
– Что?
– Умереть от руки одного из каудильо и не верить ни в кого из них…
– Интересно, нас выведут вместе или поодиночке?
– Проще одним махом, не так ли? Ты ведь военный.
– А тебя как сюда занесло?
– Я тебе расскажу сейчас кое-что. Ей-богу, умрешь со смеху.
– Выкладывай.
– Я бы не рассказал, если бы не был уверен, что отсюда не выйду. Карранса послал меня парламентером с единственной целью – чтобы они схватили меня и были виновны в моей смерти. Он вбил себе в голову, что для него мертвый герой лучше живого предателя.
– Ты – предатель?
– Смотря как это понимать. Ты, например, воевал не думая. Исполнял приказы и никогда не сомневался в своих вождях.
– Ясно. Главное – выиграть войну. А ты разве не за Обрегона и Каррансу?
– С таким же успехом я мог бы быть за Сапату или за Вилью. Я не верю ни в кого из них.
– А дальше?
– В этом вся драма. Кроме них, никого нет. Не знаю, помнишь ли ты, как было вначале, совсем недавно. А кажется уже таким далеким… Тогда вожди ничего не значили. Тогда все думали о благе для всех, а не о славе для одного человека.
– Ты хочешь, чтобы я хаял солдатскую верность наших людей? Нет, революция – это верность вождям.
– Вот именно. Даже яки, который сначала шел воевать за свою землю, теперь сражается только за генерала Обрегона и против генерала Вильи. Нет, раньше было иначе – до того, как революция выродилась в войну группировок. В деревне, куда приходила революция, крестьяне освобождались от долговой кабалы, богатеи лишались своих богатств, политические заключенные выходили на волю, а касики теряли свои привилегии. Теперь посмотри, куда делись те, кто верил, что революция призвана освободить народ, а не плодить вождей.
– Еще будет время…
– Нет, не будет. Революция начинается на полях сражений, но, как только она изменяет своим принципам, ей конец, даже если она еще выиграет несколько военных сражений. Мы все в ответе за это. Мы позволили расколоть себя и повести людям алчным, властолюбивым, посредственным. Настоящей революции, последовательной и бескомпромиссной, к сожалению, хотят лишь люди невежественные и кровожадные. А интеллигенты хотят революцию половинчатую, которая не затронет их интересов, не помешает им благоденствовать, жить в свое удовольствие, прийти на смену элите дона Порфирио. В этом драма Мексики. Вот я, например. Всю жизнь читал Кропоткина, Бакунина, старика Плеханова, с детских лет возился с книгами, спорил, дискутировал. А настал час, и я пошел за Каррансой, потому что он показался мне человеком порядочным, которого можно не бояться. Видишь, какой я слизняк? Я боюсь голодранцев, боюсь Вилью и Сапату… «Всегда я буду человеком неприемлемым, тогда как люди, ныне приемлемые, таковыми останутся навсегда…» Да. Вот именно.
– Душу перед смертью наизнанку выворачиваешь…
– «Мой основной недостаток – это любовь к фантазиям, к невиданным авантюрам, к свершениям, которые открывают бескрайний и удивительный горизонт…» Да. Вот именно.
– Почему ты никогда не говорил обо всем этом там, на воле?
– Я говорил об этом с тринадцатого года и Лусио Бланко, и Итурбе, и Буэльне, и всем честным военным, которые никогда не стремились стать каудильо. Поэтому они не сумели помешать козням старика Каррансы, который всю свою жизнь только и знал, что сеял раздоры и плел интриги. А иначе у него у самого вырвали бы кусок изо рта. Потому этот старый пройдоха и возвеличивал всякую шушеру, всяких Пабло Гонсалесов, которые не могли его затмить. Так он расколол революцию, превратил ее в войну группировок.
– Из-за этого тебя и послали в Пералес?
– С поручением убедить вильистов сдаться. Будто мы не знаем, что они разбиты и бегут и что в панике хватаются за оружие при виде каждого карранклана. Старик не любит пачкать руки. Предпочитает оставлять грязную работу своим врагам. Эх, Артемио, такие люди не достойны своего народа и своей революции.
– Почему ты не переходишь к Вилье?
– К другому каудильо? Побыть, поглядеть, сколько он протянет, а потом перебежать к следующему и так далее, пока не очутишься у какой-нибудь другой стенки, под другим ружьем?
– Но на этот раз ты спасся бы…
– Нет… Поверь, Крус, мне хотелось бы спастись, вернуться в Пуэблу. Увидеть жену, сына, Луису и Панчолина. И сестренку Каталину – она у меня такая беспомощная. Увидеть отца, моего старого дона Гамалиэля,– он так благороден и так слеп. Попытаться объяснить ему, зачем я ввязался в эту историю. Отец никогда не понимал, что существует долг, который необходимо выполнить, хотя и знаешь заранее, что дело обречено на провал. Для него те, старые порядки были заведены раз навсегда: усадьба, завуалированный грабеж и все прочее… Вот если бы нашелся кто-нибудь, кого можно было бы попросить пойти к ним и передать что-нибудь от меня. Но отсюда никто не выйдет живым, я знаю. Нет. Все играют в жуткую игру «кто кого». Мы ведь живем среди убийц и пигмеев, потому что каудильо покрупнее милует лишь мелюзгу, чтобы удержать место под солнцем, а каудильо помельче должен угробить крупного, чтобы пролезть вперед. Эх, жаль, Артемио. Как нужно то, что происходит, и как не нужно это губить. Не того мы хотели, когда делали революцию со всем народом в тринадцатом… А ты смотри, решай. Когда уберут Сапату и Вилью, останутся только два вождя – твои теперешние начальники. С кем пойдешь?
– Мой командир – генерал Обрегон.
– Уже выбрал, ну что ж. Потом посмотрим, что у тебя получится. Посмотрим…
– Ты забыл, что мы будем расстреляны.
Берналь от неожиданности рассмеялся – мол, рванулся в небо и забыл, что прикован. Сжав плечо товарища по камере, сказал:
– Проклятые политические увлечения! Или, может быть, тут интуиция? Почему, скажем, не идешь с Вильей ты?
Он не мог разглядеть в темноте выражение лица Гонсало Берналя, но ему Чудились насмешливые глаза, самоуверенная поза этого ученого лиценциатика, из тех, кто и воевать-то не воевал – только язык чешут, в то время как они, солдаты, выигрывают сражения. Он резко отстранился от Берналя.
– Что с тобой? – улыбнулся лиценциат.
Капитан угрюмо хмыкнул и раскурил потухшую сигарету.
– Нечего зря болтать,– процедил он сквозь зубы.– Хм. Сказать тебе по правде? Меня тошнит от слюнтяев, которые мелют всякую чушь, когда их никто не просит, а тем более – в свой смертный час. Помолчите-ка, уважаемый, или говорите про себя сколько влезет, а я не хочу распускать слюни перед смертью.
В голосе Гонсало зазвенели металлические нотки:
– Видишь ли, приятель, мы – трое обреченных. Яки рассказал нам свою жизнь…– Он поперхнулся от гнева, от гнева на самого себя, незачем было исповедоваться и философствовать, открывать душу человеку, который того не стоит.
– Яки был мужчиной. Он имеет право.
– А ты?
– Воевал – и все. Если и было что-то еще, не помню.
– Любил ведь женщину… Он сжал кулаки.
– …имел родителей; может быть, у тебя даже есть сын. Нет? А у меня есть, Крус. И я верю, что прожил жизнь по-настоящему, и хотел бы выйти на свободу и продолжать жить. А ты -нет? Разве не хотелось бы тебе сейчас приласкать…
Голос Берналя сорвался, когда он набросился на него в темноте, вцепился обеими руками в лацканы кашемировой куртки и, не говоря ни слова, с глухим рычанием стал бить об стену своего нового врага, вооруженного идеями и гуманностью, который лишь повторил тайную мысль его самого, узника, капитана Круса: что будет после нашей смерти? А Берналь, невзирая на жестокую тряску, повторял:








