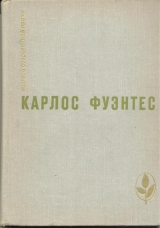
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Карлос Фуэнтес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 34 страниц)
– Тебе лучше?
Я не вижу ее. Не вижу Каталину. Я вижу то, что там, дальше. В кресле сидит Тереса, держит в руках раскрытую газету. Мою газету. Это – Тереса, хотя лицо ее скрыто за развернутой газетой.
– Откройте окно.
– Нет-нет. Можешь простудиться, и будет хуже.
– Ну, мама. Разве ты не видишь, что он нас разыгрывает? Ara. Чую ладан. Ara. За дверью слышу шепот. Явился святой отец со своим запахом ладана, в своих черных юбках, с кропилом в руках, чтобы спровадить меня на тот свет по всем правилам. Хе-хе, а я их надул.
– Падилья не пришел?
– Пришел. Он там.
– Пусть войдет.
– Но…
– Пусть сначала войдет Падилья.
Ara, Падилья, подойди. Магнитофон принес? Если ты знаешь свое дело, ты принесешь его сюда, как всегда приносил по вечерам в мой дом в Койоакане. Сегодня как никогда ты должен показать мне, что все идет по-старому. Не нарушай обычая, Падилья. А, вот и ты. Им обеим это не по нутру.
– Подойди ближе, детка, чтобы он узнал тебя. Скажи ему свое имя.
– Я… Я – Глория…
Если бы мне только разглядеть ее лицо. Увидеть бы ее гримасу. Она, наверно, чувствует запах мертвеющей плоти; наверно, смотрит на ввалившуюся грудь, на серую свалявшуюся бороду, на нескончаемую струйку из носа, на эти…
Ее уводят от меня.
Врач щупает мой пульс.
– Надо созвать консилиум.
Каталина поглаживает мою руку. Увы, ненужная ласка. Я вижу ее как в тумане, но пытаюсь заглянуть в глаза. Останавливаю ее руку, пожимаю холодные пальцы.
– Тем утром я ждал его с радостью. Мы переправились через реку верхом.
– Что ты сказал? Помолчи. Не утомляйся. Я не понимаю тебя.
– Хотелось бы вернуться туда, Каталина. Какая чепуха.
Да. Священник преклоняет колени рядом со мной. Бормочет какие-то свои слова. Падилья включает магнитофон. Я слушаю свой голос, свои слова. Ох, закричать бы, закричать. Ох, выжил ведь. В дверь заглядывают двое врачей. Я выжил. Рехина, мне больно, чертовски больно, Рехина, и я знаю, что у меня болит. Рехина. Солдат. Солдат. Обнимите меня; ох, больно. Мне воткнули в желудок длинный холодный кинжал. Я знаю, кто всадил клинок в мое нутро; я чую запах ладана, я устал. Пусть делают, что хотят. Пусть ворочают меня, когда я охаю. Я не вам обязан жизнью. Не могу, не надо, я не выбирал… Боль разламывает поясницу. Трогаю свои ледяные ноги. Не хочу этих синих ногтей… О-хо-хо, я выжил. А что я делал вчера? Если буду думать о том, что делал вчера, отвлекусь от настоящего. Это я помню ясно. Очень ясно. Думаю о вчерашнем. Ты еще не помешался – не так уж невыносимо страдаешь, ты можешь думать об этом. Вчера, вчера, вчера. Вчера Артемио Крус летел из Эрмосильо в Мехико. Да. Вчера Артемио Крус… До болезни, вчера Артемио Крус… Вчера Артемио Крус сидел в своем кабинете и вдруг почувствовал себя очень плохо. Нет, не вчера. Сегодня утром. Артемио Крус. Нет, не плохо. И не Артемио Крус. Кто-то другой. Тот, кто отражается в зеркале рядом с постелью больного. Другой Артемио Крус. Его близнец. Артемио Крус болен, не живет. Нет, живет. Артемио Крус жил. Жил несколько лет… Нет, не лет, о годах я не жалею… Жил несколько дней. Его близнец. Артемио Крус. Его двойник. Вчера был Артемио Крус, который жил всего несколько дней, вчера был Артемио Крус… Это – я… И не я… Вчера…
Ты вчера делал то же самое, что всегда. Вообще едва ли стоит вспоминать. Но сейчас, на этой кровати, в полутьме этой комнаты хочется думать о прошлом, но лишь как о будущем: словно бы с тобой еще ничего не случилось. В мутной полутьме глаза смотрят из глубин прошлого вперед, не надо обращаться вспять.
Да, вчера, 9 апреля 1959 года. Ты полетишь из Эрмосильо обычным рейсом на самолете Мексиканской авиационной компании, который вылетит из столицы Соноры – где будет стоять адская жара – в 9 часов 55 минут утра и приземлится в Мехико точно в 16 часов 30 минут. Из салона четырехмоторного лайнера ты увидишь внизу низкорослый серый город, цепь глинобитных домиков под цинковой кровлей. Стюардесса предложит тебе жевательную резинку в целлофане – ты вспомнишь эту подробность, потому что девушка будет (была, нет, не надо думать обо всем в прошедшем времени) очень красивой, а ты ведь не промах по этой части, хотя возраст твой приговаривает Тебя скорее к созерцанию, нежели к действию (не то говоришь: ведь ты же никогда не согласишься с таким приговором, даже если и останется одно – созерцать).
Яркая надпись «No Smoking. Fasten Seat Belts» [11] зажжется в тот самый момент, когда самолет, приближаясь к долине Мехико, вдруг резко устремится вниз, словно теряя способность держаться в воздухе, и тут же накренится вправо. С полок посыпятся свертки, саквояжи, чемоданы, раздастся общий вопль, который сменится чьим-то рыданием, а пламя охватит четвертый мотор – на правом крыле. Он остановится, и все снова будут кричать. Только ты останешься сидеть – невозмутим и недвижен, жуя свою резинку и разглядывая ножки стюардессы, которая будет бегать по проходу, успокаивая пассажиров. Тут сработает система огнетушения, и самолет спокойно приземлится. Никто и не заметит, что только ты, старик, которому перевалило за семьдесят, сохранил присутствие духа. Ты будешь горд собою, но не подашь и виду. Ты подумаешь, что совершил на своем веку столько трусливых поступков, что храбрость уже далась тебе легко. Ухмыльнешься и скажешь себе: нет, это не парадокс, а истина, и, может быть, даже избитая.
В Сонору тебе придется поехать – в своей автомашине «вольво-1959», номер ДФ-712,– потому что кое-кто из местных властей вдруг закобенится и тебе понадобится проведать их, чтобы проверить и укрепить все звенья цепочки чиновников, которых ты купил. Да, купил – ты не станешь обманывать себя высокопарными словами «убедил», «уговорил». Нет, ты их покупаешь, чтобы они поприжали – еще одно крепкое словцо! – рыботорговцев, курсирующих между Сонорой, Синалоа и Федеральным округом. Ты дашь десять процентов инспекторам, и рыба, хотя и пройдет через руки многих посредников, будет продана на столичном рынке по цене, которая принесет тебе прибыль, в двадцать раз превосходящую реальную стоимость товара.
Тебе придется вспоминать обо всем этом, раз уж захотел вспоминать, хотя подобный материал вполне заслуживает ядовитой реплики в твоей газете, и ты подумаешь, что, по сути дела, только теряешь время, вспоминая о таких вещах. И тем не менее ты углубишься в воспоминания, разворошишь их. Разворошишь. Тебе захочется припомнить и другое, но прежде всего захочется забыть о состоянии, в каком находишься. Нет, прости, не находишься – будешь находиться.
Тебе станет плохо в твоей конторе. Тебя без сознания отвезут домой; придет доктор и скажет, что диагноз можно поставить только через несколько часов. Придут другие врачи. Они ничего не определят, ни в чем не разберутся. Обронят несколько мудреных слов. Теперь ты захочешь увидеть себя со стороны. Обмякший, сморщенный бурдюк. Дрожит подбородок, воняет изо рта, из-под мышек, воняет между ногами. Так и будешь валяться – немытым, небритым, злым; заливаться потом и мочой. Но не перестанешь вспоминать о том, что случится вчера.
Из аэропорта ты направишься в свою контору, проедешь через город, пропитанный слезоточивым газом – полиция только что разгонит демонстрацию на площади Кабальито. Затем просмотришь вместе с главным редактором самые крупные заголовки, передовицы и карикатуры и останешься доволен. Примешь своего североамериканского компаньона и обратишь его внимание на опасность, которой чреваты пресловутые профсоюзные чистки. Потом в контору зайдет твой управляющий Падилья и сообщит, что среди индейцев волнения, а ты поручишь Падилье передать комиссару индейской общины твой приказ: согнуть индейцев в бараний рог – за то он, комиссар, и деньги получает.
Утром будет уйма работы. Тебя посетит представитель некоего латиноамериканского благодетеля, и ты добьешься увеличения субсидий для своей газеты. Призовешь репортера из отдела светской хроники и закажешь ему клеветническую статейку о том самом Коуто, который подставил тебе подножку в сонорском бизнесе. В общем, провернешь массу дел! А потом сядешь вместе с Падильей подсчитывать свои капиталы. Это доставит тебе немалое удовольствие. Во всю стену кабинета распластается карта, показывающая масштабы твоей деятельности и деловые связи: газета и надежные капиталовложения в Мехико, Пуэбле, Гуадалахаре, Монтеррее, Кулиакане, Эрмосильо, Гуаймасе, Акапулько; серные разработки в Халтипане, рудники в Идальго, лесные концессии в Тараумаре, долевая собственность на многие отели, трубопрокатная фабрика, рыботорговля, финансовые сделки, биржевые операции, законное представительство североамериканских компаний в своей стране, распределение железнодорожного займа, советник многих благотворительных фондов, акционер ряда иностранных фирм – по производству красителей, стали, медикаментов. Имеется и еще кое-что, о чем умалчивает карта: пятнадцать миллионов долларов в банках Цюриха, Лондона и Нью-Йорка.
Ты закуришь сигарету, невзирая на предупреждение врачей, и вновь перечислишь вслух Падилье махинации, принесшие тебе богатство. Краткосрочные, под высокий процент, займы крестьянам штата Пуэбла после революции; приобретение земель под городом Пуэблой в предвидении его быстрого роста; покупка в столице – при дружеском содействии очередного президента – земли для перепродажи мелкими участками; приобретение столичной газеты, покупка акций горнорудных компаний и создание смешанных мексикано-североамериканских обществ, в которых ты становился подставным президентом, чтобы все было «по закону»; деятельность в качестве доверенного лица североамериканских инвесторов и посредника между Чикаго, Нью-Йорком и мексиканским правительством; биржевая игра на повышение и понижение курса ценных бумаг, чтобы затем с выгодой купить или продать их; упрочение позиций при президенте Алемане [57] ; присвоение общинных земель, отвоеванных у крестьян, для продажи участков во внутренних районах страны, и расширение лесных концессий. Да – ты вздохнешь и попросишь у Падильи спичку,– двадцать лет взаимопонимания с властями, социального мира, классового сотрудничества; двадцать плодотворных лет после периода демагогии Ласаро Карденаса [58] , двадцать лет, когда процветало подлинно свободное предпринимательство, молчали профсоюзные лидеры, подавлялись забастовки. И вдруг ты схватишься руками за живот, твое смуглое лоснящееся лицо исказится, голова в седых завитках гулко стукнется о настольное стекло. Ты опять увидишь, на этот раз очень близко, отражение своего больного двойника, и все шумы жизни со смехом унесутся из твоей головы, а пот многих и многих людей зальет тебя, их тела навалятся на тебя. Ты потеряешь сознание.
Отраженный двойник воплотится в другого, станет тобой, стариком семидесяти одного года, который будет лежать почти бездыханным между вращающимся креслом и огромным стальным письменным столом. Это случится. И ты не узнаешь, какие дни и даты войдут в твою биографию, а о каких умолчат, не вспомнят. Не узнаешь. Известными станут банальные факты – и ты не первый и не последний удостоишься подобного послужного списка. Тебе бы он понравился. Ты только что вспоминал о нем. Но теперь ты припомнишь и другие события, другие дни, должен вспомнить о них. Эти дни – далекие и близкие, преданные забвению или врезавшиеся в память («встреча», «размолвка», «мимолетная любовь», «свобода», «злоба», «неудача», «стремление») – были и будут чем-то большим, чем ярлыки, которые ты на них навесил. Эти дни, когда твоя судьба будет преследовать тебя по пятам, как борзая. Она настигнет тебя, схватит, заставит говорить и действовать твое тело – сложную, непрозрачную, плотную материю, навечно спаянную с чем-то иным, неосязаемым – с твоей душой, впитанной материей и сотканной из любви жесткой айвы, из упорства растущего ногтя, упрямства старческой лысины, печали солнца и пустыни, равнодушия грязной посуды, широты тропической реки, трусливой храбрости сабли и пороха, легкомыслия треплемых ветром простынь, молодости вороных коней, древности покинутых берегов, встречи конверта с иностранной маркой, гнусности ладана, коварства яда, страдания красной сухой земли, нежности вечернего патио… из духа всех материй и материи всех душ. Память раскалывает твое «я» на две половины, а Жизнь по-своему соединяет их и разъединяет, ищет и находит.
У плода две половины. Сегодня они соединятся. Ты вспомнишь то, что старался забыть. Судьба тебя все-таки схватит за шиворот. Ты зевнешь: зачем вспоминать? Зевнешь: представления и чувства сглаживаются, растрачиваются по пути. Да, там, позади, был сад. Но разве можно теперь вернуться к нему, разве увидишь его хоть в конце… Зевнешь: однако ты ведь живешь на той же самой земле. Зевнешь: ты же находишься в этом саду, только на голых ветвях нет плодов, в сухом русле не найти воды. Зевнешь: потянутся дни – разные, одинаковые, далекие, близкие, скоро забудутся волнения, тревоги, порывы. Ты зевнешь, откроешь глаза и увидишь их обеих возле себя с выражением притворного беспокойства. Прошепчешь их имена: Каталина, Тереса. Они чувствуют себя обманутыми и оскорбленными, но будут и впредь скрывать раздражение и неприязнь к тебе, ибо сейчас им надо прикинуться заботливыми, обеспокоенными, страдающими. Твоя болезнь, твой вид, правила приличия, чужое мнение и обычай заставляют их напялить маску участия. Ты зевнешь, закроешь глаза. Зевнешь: ты, Артемио Крус,– или он. Станешь думать, закрыв глаза, о некоторых своих днях:
( 6 июля 1941 года )
Он екал в автомашине к своей конторе. Машину вел шофер, а он читал газету. Случайно взглянув в сторону, увидел их обеих у входа в салон мод. Прищурился было, чтобы рассмотреть, но автомобиль рванул вперед, и он снова стал читать сообщения из Сиди-Баррани и Аламейна, посматривая на фотографии Роммеля и Монтгомери. Шофер, вспотевший от жары, терзался, не смея включить радио, а он думал, что правильно сделал, заключив контракт с колумбийскими кофейными плантаторами, когда началась война в Африке… Они же обе вошли в салон, и служащая попросила их – будьте любезны, пожалуйста! – сесть и подождать, пока она позовет хозяйку (потому что знала, кто они такие, мать и дочка,– хозяйка велела сразу же сообщать об их появлении). Служащая неслышно скользнула по коврам в заднюю комнату, где хозяйка, сидя за обтянутым зеленой кожей столом, подписывала рекламные карточки. Когда служащая вошла и сказала, что пришла сеньора с дочерью, хозяйка уронила пенсне, закачавшееся на серебряной цепочке, вздохнула и пробормотала: «Ах, да, ах, да… Скоро празднество». Поблагодарив помощницу, она нахмурила брови, взбила лиловатые волосы и погасила ментоловую сигарету.
Две женщины, сидевшие в зале, не обмолвились ни словом до появления хозяйки. Завидев ее, мать, весьма считавшаяся с условностями, продолжила не имевший начала разговор и громко сказала: «…эта модель гораздо красивее. Не знаю, как ты, но я выбрала бы именно эту модель. Она действительно очень изящна и очень мила». Девушка поддакивала, прекрасно зная, что слова матери адресованы не ей, а этой женщине, которая приблизилась к ним и протянула руку – только дочери: мать она приветствовала широчайшей улыбкой, низко склонив лиловатую голову. Дочь хотела было подвинуться, чтобы могла сесть и хозяйка, но мать остановила ее взглядом и чуть заметным движением пальца у самой груди. Дочь осталась сидеть на месте и дружелюбно глядела на женщину с крашеными волосами, которая стояла перед ними и спрашивала: на какой же модели они решили остановиться? Мать ответила, что нет-нет, они еще ничего не решили и хотят еще раз посмотреть все модели, ведь от этого зависит и все остальное, то есть такие детали, как цветы, платья подруг невесты и прочее.
– Мне, право, неудобно вас утруждать, но хотелось бы…
– Ради бога, сеньора. Нам приятно угодить вам.
– Да. Мы хотим быть уверены в выборе.
– Конечно.
– Не хотелось бы ошибиться, чтобы потом, в последнюю минуту…
– Вы правы. Лучше выбрать не спеша, чтобы потом…
– Да, мы хотим быть уверены…
– Я пойду, велю манекенщицам одеваться.
Они остались одни, и дочь вытянула ноги. Мать с испугом взглянула на нее и зашевелила всеми пальцами сразу – надо опустить юбку и намочить слюной спущенную петлю на левом чулке. Дочь оглядела ногу, нашла дырочку, послюнявила указательный палец и приложила к чулку. «Меня что-то в сон клонит»,– сказала она матери. Сеньора улыбнулась, похлопала ее легонько по руке, и обе снова замолчали, удобно расположившись в креслах, обитых розовой парчой. Наконец дочь сказала, что проголодалась, и мать ответила, что потом они зайдут в Санборн [12] , хотя сама она есть не станет: за последнее время слишком располнела.
– Тебе-то пока не о чем беспокоиться.
– Почему?
– У тебя фигура девочки. Но в дальнейшем будь осторожна. В нашем роду у всех женщин в молодости прекрасные фигуры, а после сорока мы расплываемся.
– Но ведь ты не расплылась.
– Ты меня не помнишь в молодости, потому так говоришь. Ты ничего не помнишь. А кроме того…
– Сегодня я страшно хотела есть, когда проснулась. Позавтракала с таким аппетитом…
– Сейчас тебе не о чем беспокоиться. Но потом остерегайся.
– А после родов очень полнеют?
– Ерунда! Это не так страшно. Десять дней диеты – и талия снова как у осы. Вот после сорока – другое дело.
Внутри, в мастерской, нервно суетилась вокруг двух манекенщиц хозяйка – на коленях, с булавками во рту,– попрекая девушек короткими ногами: разве может женщина быть элегантной, если у нее такие короткие ноги? «Надо делать гимнастику, играть в теннис, заниматься верховой ездой, все это придает фигуре стройность». Но девушки ей ответили, что она сегодня чем-то очень раздражена, и хозяйка согласилась: в самом деле, эти две женщины действуют ей на нервы. Сеньора не имеет привычки подавать руку; девочка более любезна, однако ужасно рассеянна, словно не от мира сего. В общем же, она их мало знает, и потому трудно еще что-нибудь сказать, но, как говорят американцы, the costumer is alwais right [13] , и потому в салон надо всегда входить, улыбаясь, говоря: «Cheese, cheese, cheese» [14] . Приходится трудиться, хотя и не все люди рождаются для труда; привыкаешь и к капризам этих современных богачек. Слава богу, по воскресеньям можно посидеть со старыми приятельницами, подругами детства, поиграть в бридж и хоть раз в неделю почувствовать себя человеком.
Так говорила хозяйка девушкам, а потом хлопнула в ладоши – значит, одевание закончилось. Жаль только, ноги коротки. Вынув изо рта булавки, бережно воткнула их в бархатную подушечку.
– А он явится на shower [15] ?
– Кто? Твой жених или твой отец?
– Папа.
– Откуда я знаю, скажи на милость!
Он видел, как мимо пронеслись толстые белые колонны и апельсиновый купол Дворца изящных искусств, но глаза его были устремлены вверх, туда, где, соединяясь и расходясь, летели провода – не провода, а он сам, запрокинув голову на мягкую серую спинку сиденья,– летели параллельно друг другу или вырывались лучами из одной точки. Промелькнули массивные полногрудые скульптуры и рога изобилия – Мексиканский банк. Охристый венецианский портал почтамта. Он нежно погладил шелковый кант своей коричневой фетровой шляпы и носком ботинка покачал ремень на откидном сиденье перед собой. Вот и голубые изразцы Санборна, и шлифованный дымчатый камень монастыря св. Франциска.
Лимузин остановился на углу улицы Изабеллы Католической; шофер открыл дверцу и снял фуражку, а он, напротив, надел шляпу, пригладил пальцами волосы на висках. Тут же его окружили продавцы лотерейных билетов и чистильщики ботинок, женщины в домотканых индейских шалях и сопливые, шмыгавшие носами дети и проводили до двери-турникета. Глядя на себя в стеклянную дверь, он поправил галстук, а сзади, в другой стеклянной двери, догонявшей его со стороны улицы Мадеро, его двойник, окруженный нищими и тоже одетый в такой же самый костюм из плотной ткани, как и он, поправил узел галстука такими же желтыми от никотина пальцами, а потом, опустив вместе с ним руку, повернулся спиной и зашагал назад, на улицу, сам же он шел вперед, ища глазами лифт.
Ее снова вывели из душевного равновесия протянутые руки нищих, и, сжав локоть дочери, она втолкнула девушку в нереальную духоту теплицы, в аромат мыла, лаванды и типографский запах пестрой оберточной бумаги. Она остановилась у зеркальной витрины с косметикой и посмотрела на себя; потом, прищурившись, стала изучать флаконы, тюбики и коробочки, лежавшие на красной тафте. Попросила кольд-крем «Тэа-трикэл» и два тюбика губной помады цвета этой тафты. Порывшись в сумке из крокодиловой кожи, обратилась к дочери; «Найди мне бумажку в двадцать песо». Получив сверток и сдачу, они вошли в кафе и заняли столик на двоих. Девушка заказала апельсиновый сок и ореховые вафли, а мать, не удержавшись, велела официантке, одетой теуаной [59] , принести булочку с изюмом в растопленном масле. Обе огляделись, ища знакомые лица. Девушка попросила разрешения снять свой желтый жакет: солнце нещадно палило даже сквозь жалюзи.
– Джоан Крауфорд,-промямлила дочь.-Джоан Крауфорд.
– Нет-нет, не так. Это произносится не так. Кро-фор, Кро-фор. Так они произносят.
– Крау-фор.
– Нет-нет. Кро, кро, кро. «А» и «у» вместе произносятся как «о». Да, да, они так говорят.
– Ерундовый фильм.
– Да, не совсем удачный. Но она прелестна.
– Я чуть не заснула.
– Но тебе так хотелось посмотреть…
– Мне сказали, что она красавица. Ничего особенного.
– Время идет.
– Кро-фор.
– Да, я думаю, они именно так произносят. Кро-фор. «Д» не произносится.
– Кро-фор.
– Думаю, что так. Едва ли я ошибаюсь.
Дочь полила вафли медом и, убедившись, что мед заполнил каждую ячейку, разломила вафли. Отправляя в рот сладкий хрустящий кусочек, она улыбалась матери. Но мать не смотрела на нее. Две руки ласкали одна другую: большой палец мужской руки гладил кончики пальцев женской, казалось, хотел приподнять ногти. Она не сводила глаз с этих рук неподалеку от себя, не имея никакого желания взглянуть на лица; рука вновь и вновь возвращалась к другой и медленно скользила по ней, не пропуская ни одной впадинки. Нет, на пальцах не было колец; наверно, жених с невестой или просто… Она пыталась отвести глаза и сосредоточить внимание на медовой лужице в тарелке дочери, но невольно снова переводила взор на руки парочки за соседним столом, на ласкающие друг друга пальцы, стараясь не смотреть на лица.
Дочь очистила языком зубы от застрявших кусочков вафель и орехов, потом вытерла рот, оставив на салфетке красную полосу. Прежде чем вынуть губную помаду, она снова провела языком по деснам и попросила у матери ломтик хлебца с изюмом. Сказала, что не хочет пить кофе – он взвинчивает нервы, хотя вообще-то очень ей нравится, но сейчас нет, не надо, и так нервы разошлись. Сеньора погладила ее по руке и сказала, что пора идти, еще много всяких дел. Заплатив по счету и оставив чаевые, обе поднялись из-за стола.
Североамериканец пояснил, что в месторождение следует подавать кипящую воду, вода размоет серу, сжатый воздух выбросит ее на поверхность. Он еще раз повторил свой проект, а другой американец сказал, что они очень довольны геологической разведкой, и несколько раз полоснул рукой по воздуху у самого своего лица, худощавого и красноватого, пробубнив: «Залежи – хорошо, колчедан – плохо. Залежи – хорошо, колчедан – плохо, залежи – хорошо…» Он, постукивая в такт словам американца по настольному стеклу, повторил: «…колчедан – плохо», повторил по привычке, ибо они, говоря по-испански, думают, будто он их не понимает, и не потому, что они плохо говорят по-испански, а потому, что мексиканец вообще может ничего не понять. Инженер расстелил на столе карту зоны разработок; и ему пришлось убрать локти со стола. Второй американец заявил, что месторождение так богато, что его можно с полной нагрузкой эксплуатировать до середины двадцать первого века; с полной нагрузкой, до исчерпания всех запасов, с полной… Повторив это семь раз подряд, снял с карты кулак, которым в начале речи припечатал зеленое пятно, усеянное треугольничками геологических отметок. Затем американец прищурил глаз и сказал, что кедровые и каобовые леса там тоже очень велики и что он, их мексиканский компаньон, получит на лесе сто процентов прибыли. В это дело они, североамериканские партнеры, не будут вмешиваться, хотя советуют ему вырубать леса с толком: они видели, сколько деревьев зря гибнет повсюду. А разве не ясно, что древесина стоит денег? Впрочем, это их не касается; важно, что – под лесом или не под лесом – имеются залежи серы.
Он улыбнулся и встал из-за стола. Засунув большие пальцы рук за пояс, стоял и перекатывал во рту потухшую сигару, пока один из американцев не поднялся с зажженной спичкой. Огонек приблизился, он затянулся раз-другой, пока зажатая в зубах сигара не загорелась. Он попросил у них два миллиона долларов наличными. Они спросили – в счет чего? – и пояснили, что охотно сделают его своим компаньоном с долей в триста тысяч долларов, но никто не получит и сентаво, пока капиталовложения не начнут приносить прибыли. Инженер-геолог протер очки куском замши, которую носил в кармане рубашки, а другой американец зашагал от стола к окну, от окна к столу. Тогда он повторил свои условия: речь идет не об авансе, не о кредите и не о чем-либо подобном. Это – цена, которую они должны уплатить за концессию. Без такого предварительного взноса они могут и не получить концессии. Со временем они возместят сделанный ему подарок, но без него, без подставного лица, без «прикрывали», без «frontman» – он просит простить ему эти выражения,– они не смогут добиться концессии и разрабатывать залежи. Нажав на кнопку звонка, он вызвал секретаря. Секретарь быстро огласил несколько цифр, и североамериканцы промолвили «О.К.» и повторили несколько раз: «О.К., О.К., О.К.» [16] . Он улыбнулся и предложил им два стаканчика виски, сказав, что разработки серы они могут эксплуатировать вплоть до середины двадцать первого века, но его самого им не удастся эксплуатировать ни одной минуты в двадцатом веке, и все чокнулись, и иностранцы растянули губы в улыбке, тихо прошептав: «S.O.B.» [17] – один-единственный раз.
Мать и дочь шли медленно, держась за руки. Шли, ни на что не глядя, кроме витрин, останавливаясь у каждой и приговаривая: «Как красиво, но дорого; там дальше еще лучше; погляди, ах, как красиво…» – пока наконец не устали и не зашли в кафе. Отыскали удобное местечко – подальше от туалета и от входа, где галдели продавцы лотерейных билетов и вздымались клубы сухой колючей пыли,– и попросили два бокала «Канада дрей». Мать пудрилась и рассматривала свои янтарные зрачки в зеркале пудреницы, но, взглянув на мешки, которые стали явственнее вырисовываться под глазами, захлопнула крышку. Обе смотрели на пузырьки, поднимавшиеся со дна бокалов, и ждали, пока выйдет газ – тогда можно будет медленно смаковать прохладительное. Девушка украдкой сняла с ноги туфлю и с наслаждением разминала затекшие пальцы, а сеньора вспоминала, сидя перед апельсиновым напитком, раздельные спальни в своем доме, раздельные, но смежные, вспоминала звуки, доносившиеся каждое утро и каждый вечер через запертую дверь: покашливание, стук падающих на пол башмаков, звон брошенных на подоконник ключей, скрип несмазанных петель платяного шкафа, иногда даже ритмичное дыхание спящего. Она чувствовала, как по спине пробегает холодок. Сегодня утром она подкралась на цыпочках к запертой двери и ощутила, как по спине пробежал холодок. Ее поразила мысль, что все эти обычные звуки были для нее запретными, тайными. Она вернулась в постель, закуталась в одеяло и стала смотреть в окно, где метались солнечные пятна, процеженные сквозь листву каштанов. Глотнула холодного чаю и опять уснула. Ее разбудила дочь, напомнив, что сегодня их ждет масса дел. И вот теперь, сжимая пальцами холодный бокал, она вспоминала эти утренние часы сегодняшнего дня.
Он так резко повернулся в своем вращающемся кресле, что скрипнули пружины; спросил секретаря: «Разве захочет рисковать какой-нибудь мексиканский банк? Разве найдется мексиканец, который полностью доверится мне?» Схватив желтый карандаш, нацелил его в лицо секретаря: пусть это будет подтверждено, пусть Падилья будет свидетелем – никто не хотел рисковать, а он не желает гноить такое богатство в лесах юга. Если гринго единственные, кто готов дать деньги для разработок, что остается делать? Секретарь указал на часы. Он вздохнул и сказал: «Ну ладно». И пригласил секретаря обедать. Они могли бы пообедать вместе. Не знает ли Падилья какое-нибудь новое местечко? Секретарь сказал, что, кажется, знает одно, немноголюдное и очень уютное, совсем рядом, за углом: там чудесные пирожки с сыром, тыквой, грибами. Что ж, стоит дойти. Он чувствовал себя усталым; возвращаться в контору этим вечером не хотелось. Да и сделку надо отпраздновать, Кроме того, им никогда не приходилось обедать вместе. Они молча спустились по лестнице и пошли к авениде Пятого мая.
– Вы еще очень молоды. Сколько вам лет?
– Двадцать семь.
– Давно окончили?
– Три года назад. Только…
– Что – только?
– Теория – это одно, а жизнь – совсем другое.
– И вы удивляетесь? Чему вас там учили?
– Марксизму, например. Я даже работу о прибавочной стоимости писал.
– Должно быть, неплохой предмет. А, Падилья?
– Да, но жить приходится иначе.
– Вы что, марксист?
– Как сказать, все мои друзья прошли через это. Наверно, увлечение молодости.
– Где же ресторан?
– Тут, за углом.
– Не люблю ходить пешком.
– Вот тут, близехонько.
Они разделили между собой покупки и направились к Дворцу изящных искусств, где их ожидал шофер. Обе шли все так же медленно, лишь поворачивая головы, словно локационные антенны, от одной витрины к другой. Вдруг мать судорожно вцепилась в руку дочери и уронила пакет. Напротив них, совсем рядом, две собаки, яростно и глухо рыча, бросались друг на друга, кусаясь до крови; потом отскакивали и снова прыгали на асфальт, сплетались в одно целое – мохнатое и рычащее: две уличные собаки, грязные и паршивые, кобель и сука.
Девушка подняла пакет и повела мать к автомобильной стоянке. Они сели в машину, и шофер спросил, возвращаться ли в Лас-Ломас [18] . Дочь ответила – да, возвращаться, маму испугали собаки. Сеньора сказала, что ничего, все уже прошло; это было так неожиданно и так близко; но сегодня вечером можно опять заехать в центр – надо сделать еще много покупок, зайти во многие магазины. Девушка заметила, что спешить нечего, времени остается более месяца. Да, но время летит, возразила мать, а твой отец не беспокоится о свадьбе, все заботы взвалил на наши плечи. Кроме того, ты должна научиться вести себя с достоинством, нечего подавать руку первому встречному. Кроме того, мне хотелось бы скорее отпраздновать твою свадьбу. Надеюсь, это событие напомнит твоему отцу, что он уже солидный человек. Хоть бы напомнило. Он не сознает, что ему уже пятьдесят два. Хоть бы у тебя скорее были дети. Во всяком случае, свадьба напомнит твоему отцу о том, что он должен быть рядом со мной во время гражданской и церковной церемоний бракосочетания, что должен принимать поздравления и видеть, как все уважают его, считают добропорядочным, зрелым человеком. Может быть, это образумит его. Может быть.








