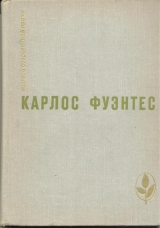
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Карлос Фуэнтес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
Я чувствую робкое прикосновение ее руки, хочу отстраниться, но сил нет. Напрасная ласка, Каталина. Напрасная. Что ты можешь сказать мне? Думаешь, нашла наконец слова, которых всегда избегала? Именно сегодня? Ни к чему. Пожалей свой язык. Не вынуждай его напрасно трудиться. Будь верна себе, не старайся казаться иной, будь верна себе до конца. Вон, поучись у своей дочери. У Тересы. Нашей. Какое трудное, ненужное слово. Наша. Она-то не лицемерит. Не ищет, что сказать. Посмотри на нее. Сидит в черном платье, сложив руки, и ждет. Она не лицемерит. Наверное, когда я не слышу, говорит тебе: «Хоть бы скорей все кончилось. Он ведь способен притворяться больным, чтобы уморить всех нас». Что-то подобное сказала она тебе. Что-то в этом роде слышал я сегодня утром, когда очнулся от сна, долгого и безмятежного. Кажется, ночью мне дали снотворное. А ты ей вроде бы ответила: «Боже мой, хоть бы он не страдал очень долго». Тебе хотелось придать другой смысл словам твоей дочери. Но ты не знаешь, как истолковать слова, которые я шепчу:
– Тем утром я ждал его с радостью. Мы переправились через реку на лошадях.
А, Падилья, подойди. Ты принес магнитофон? Если ты знаешь свое дело, ты принесешь сюда магнитофон, как всегда приносил его по вечерам в мой дом в Койоакане. Сегодня, как никогда, ты должен показать мне, что все идет по-старому. Не нарушай обычая, Падилья. А вот и ты. Они обе не хотят впускать тебя сюда.
– Нет, лиценциат, мы не можем позволить вам.
– Это многолетний обычай, сеньора.
– Вы разве не видите, как он выглядит?
– Дайте мне попробовать. Все ведь готово. Надо только включить аппарат.
– Вы берете на себя ответственность?
– Дон Артемио… Дон Артемио… Я принес утреннюю запись… Я приподнимаюсь. Стараюсь улыбнуться. Все как обычно. Славный малый этот Падилья. Да, на него можно положиться. Да, он заслуживает доброй доли моего наследства и должность бессменного управляющего всеми моими владениями. Кто же, кроме него? Он знает все. Эх, Падилья. Ты все еще коллекционируешь магнитофонные ленты с записями моих переговоров в конторе? Да, Падилья. Ты все знаешь. Я должен хорошо тебе заплатить. Я завещаю тебе свою репутацию.
Тереса сидит с развернутой газетой в руках. Лица ее не видно. Я знаю, святой отец явился сюда со своим запахом ладана, в своих черных юбках, с кропилом в руках, чтобы отправить меня на тот свет по всем правилам. Х-хе, а я их надул. Вон и Тереса там хнычет… Вытаскивает из сумки пудреницу и пудрит нос, чтобы потом снова распускать сопли. Представляю себе, как хныкали бы и тут же пудрили свои носы женщины, когда бы мой гроб опускался в могилу. Ладно, а я чувствую себя лучше… Было бы совсем хорошо, если бы этот вот запах, мой запах, не исходил от складок простынь, если бы я не видел этих смехотворных пятен, которыми я их испачкал… Дышу я хрипло и неровно. Значит, говорите, надо смириться перед этим черным вороном и допустить его к себе? Ох-охо. Ох-охо. Стараюсь выровнять дыхание… Сжимаю кулаки… О-о-х… стискиваю зубы, а возле себя вижу бледное, как мукой припорошенное, лицо, из-за которого завтра или послезавтра – а может, и нет? Конечно, нет…– во всех газетах появится: «С отпущением грехов святой церковью нашей скончался…» Гладко-выбритое лицо приближается к моим заросшим серой щетиной Щекам. Осеняет себя крестным знамением и шепчет: «Грешен…», я могу только отворачиваться и ухмыляться и представлять себе сценку, которую я хотел бы дать и ему поглядеть,– как однажды ночью некий бедный и грязный плотник доставил тебе удовольствие, подмяв под себя робкую девицу, которая, доверив россказням родителей, прижимала к своим чреслам белых голубков, думая, что так заполучит ребенка; прятала белых голубков между ног под юбками, в саду. Плотник подмял ее под себя, горя вполне естественным желанием, потому что она, кажется, была очень красива, очень красива, а эта отвратительная Тереса возмущенно всхлипывает, бледная, со злорадством ждущая моего последнего бунта – повода для ее собственного последнего взрыва возмущения. Странно видеть, как они сидят спокойно, не суетятся, не упрекают. Сколько я еще протяну? Мне сейчас уже не так плохо. Может, и поправлюсь – ах, какой» удар! Правда? Я постараюсь выглядеть бодрее, лишь бы увидеть, как вас обеих тогда прорвет, как вы отбросите наигранную ласковость, забудете всякую душевность и напоследок выльете на меня всю брань, скопившуюся в ваших глотках, всю ярость, светящуюся в глазах. А у меня просто плохое кровообращение, вот и все. Ничего страшного. Ох, до чего мне осточертело смотреть на них. Ведь есть же нечто более приятное для еле дышащего человека, глядящего на мир в последний раз. Да, меня привезли в этот дом, а не в тот, другой. Ишь ты, какая осмотрительность. Надо будет в последний раз отругать Падилью. Ведь Падилья знает, где мой настоящий дом. Там я смог бы насладиться созерцанием своих любимых вещей. Я постарался бы вовсю раскрыть глаза, чтобы еще раз посмотреть на старинные теплые балки потолка, золотую парчу, украшающую изголовье кровати, канделябры на ночном столике, бархатные спинки кресел, стаканы из богемского хрусталя. Неподалеку курил бы верный Серафин, а я вдыхал бы этот дым. И она бы оделась так, как я ей приказал. Красиво бы оделась, не напяливала бы черных тряпок, не лила бы слез. Там я не чувствовал бы себя старым и уставшим. Все было бы сделано так, чтобы напоминать мне, что я еще живой человек, любящий человек, такой же человек, совсем, совсем такой же, как раньше. Зачем они сидят здесь, отвратительные, старые, бесцеремонные лицемерки, напоминая мне, что я уже не тот? Все приготовлено. Там, в моем доме, все приготовлено. Там знают, как поступать в таких случаях. Не дали бы мне вспоминать. Говорили бы о том, кем я стал, а не кем я был. Никто не старался бы ничего объяснять до тех пор, пока объяснения вообще уже не будут нужны. Да. Чем же мне тут развлечься? Хм, вижу, они сделали все, чтобы заставить других поверить, будто каждую ночь я прихожу в эту спальню и сплю здесь. Вижу полуоткрытый клозет, выглядывающие из шкафа пиджаки, которых я не носил, несмятые галстуки, новые туфли. Вижу письменный стол, где нагромождены книги, которых я никогда не читал, бумаги, которых никто не подписывал. И эта мебель, элегантная и массивная, когда они успели стащить с нее запыленные чехлы? О-ох… Вон окно. За окном – целый мир. Ветер с плоскогорья, треплющий тонкие черные деревца. Можно дышать…
– Откройте окно…
– Нет, нет. Простудишься, и будет хуже.
– Тереса, отец тебя не слышит…
– Притворяется. Закрывает глаза и притворяется.
– Молчи.
– Сама помолчи.
Они умолкли. Отошли от моего изголовья. Я не поднимаю рек. Вспоминаю, как тем вечером ходил обедать с Падильей. Да, я уже вспоминал тот вечер. Я обставил американцев в игре, которую они затеяли. Все это плохо пахнет, но греет. Мое тело еще греет. Простыни теплые. Я обставил многих. Я обыграл всех. Да, кровь струится по моим венам, я скоро выздоровею. Да. Струится и греет. Еще дает тепло. Я их прощаю. Наплевать на них. Пусть говорят, болтают что хотят. Черт с ними. Я их прощаю. Как тепло. Скоро понравлюсь. Ох…
Ты будешь доволен тем, что заставишь американцев уважать себя. Признайся, ты ведь вон из кожи лез, чтобы они считали тебя своим. Это было едва ли не самой заветной твоей мечтой с тех пор, как ты стал тем, кто ты есть; с тех пор, как ты научился ценить прикосновение дорогих материй, вкус дорогих ликеров, запах дорогих лосьонов – всего того, что в последние годы было твоей единственной утехой в одиночестве. Именно с тех самых пор ты обратил свой взор туда, на север. С этих-то пор тебя терзает географический ляпсус, не позволяющий во всем сравняться с ними. Ты восхищаешься их энергией, их комфортом, их гигиеной, их мощью, их волей. Оглядываешься вокруг, и тебе кажутся несносными лень, нищета, грязь, инертность, нагота твоей жалкой, неимущей страны. И тем обиднее сознавать тщетность собственных усилий – все равно не стать таким, как они. Можно стать лишь их копией, и то приблизительной. Не станешь таким, как они, потому что, кроме всего прочего, знаешь: твое восприятие разных сторон жизни – в самые тяжелые или самые счастливые дни – не так примитивно, как их. Нет, никогда, никогда ты не допускал мысли, что существует только белое или только черное, только хорошее или плохое, бог или дьявол. Всегда, даже если это казалось невероятным, ты находил в черном зерно, отблеск белого. Разве твоя собственная жестокость, когда ты бывал жестоким, совсем лишала тебя нежности? Ты знаешь, что ни одна крайность не существует без своей противоположности: жестокость – нежность, трусость – храбрость, жизнь – смерть. Каким-то образом, почти инстинктивно – из-за того, что ты таков и тут родился и жизнь прожил,– ты это знаешь и потому никогда не сможешь походить на них, на тех, кто этого не знает. Тебе не нравится? Разумеется, это не слишком удобно, даже стеснительно. Гораздо проще было бы сказать: вот добро, а вот зло. Зло. Тебе трудно его определить. Может быть, потому, что мы, мексиканцы, не так уверены в себе и не хотим, чтобы стерлась сумеречная, переходная полоса между светом и тенью; та полоса, где всегда можно найти себе оправдание. Где ты мог находить себе оправдание: мол, каждому приходится в какие-то минуты своей жизни – как и тебе – соединять в себе одновременно добро и зло, идти одновременно за двумя таинственными нитями разного цвета, которые тянутся из одного клубка и в конце концов расходятся – белая нить вверх, а черная вниз,– чтобы все же опять сплестись воедино в твоих руках.
Сейчас тебе не захочется размышлять о подобных вещах. Ты возненавидишь свое «я» за это напоминание. Тебе всегда хотелось стать таким, как они, и теперь, в старости, ты почти преуспел в этом. Но «почти». Только «почти». Ты сам не дашь себе забыть об этом, твоя отвага – всегда рядом с твоей трусостью, твоя ненависть родится из твоей любви, вся твоя жизнь предопределит твой конец. Ты не будешь ни хорошим, ни плохим; ни добряком, ни эгоистом; ни благородным, ни предателем. Пусть люди определяют меру твоих добродетелей и пороков, но ты сам разве не знаешь, что каждое твое утверждение оборачивается отрицанием, а отрицание – утверждением.
Никто, кроме тебя, наверное, не узнает, что вся жизнь твоя будет соткана из разноцветных нитей, как, впрочем, и жизнь других людей; что у тебя будет как раз столько возможностей – ни меньше, ни больше,– сколько нужно, чтобы вылепить жизнь по желаемому образцу. И если ты станешь именно таким, а не другим, то – как это ни парадоксально – лишь потому, что тебе придется выбирать. И каждый твой выбор не исключит других путей в предстоящей тебе жизни, не похоронит того, что придется отбросить, но жизненное русло будет сужаться, сужаться, пока наконец твой выбор и твоя доля не станут одним и тем же. У медали не будет оборотной стороны: твое желание совпадет с твоей судьбой. А как же смерть? Что ж, это случится не впервые. Ты проживешь много мертвых дней, много пустопорожних часов. Когда Каталина, прижав ухо к разделяющей вас двери, станет ловить каждый шорох; когда ты будешь двигаться за этой дверью, не зная, что тебя подслушивают, не зная, что кто-то живет звуками и отзвуками твоей жизни,– кто сможет жить в этом разъединении? Когда оба знают, что достаточно одного слова, и тем не менее молчат,– кто сможет жить в этом молчании? Нет, об этом не захочется вспоминать. Ты захочешь припомнить другое: имя, лицо, которое годы вытравят из памяти. Но ты знаешь – если будешь вспоминать о приятном, то спасешься слишком легко, слишком легко. Сначала ты вспомнишь о своих тяжелых цепях, а сбросив их, поймешь: то, что ты считал спасением – вспомнишь о счастливых моментах,– обернется для тебя настоящей пыткой. Вспомнив молодую Каталину, такую, какой она тебе явилась в первый раз, невольно сравнишь ее с теперешней – пустой и холодной женщиной. Будешь ломать голову: почему все так случилось? Попытаешься представить себе, о чем думала тогда она и все остальные. Ты этого не узнаешь. Придется представить себе. Ты никогда не прислушивался к словам других. Теперь придется пережить все услышанное в ту пору.
Закрой глаза, закрой. Не вдыхай ладанный дым, не слушай всхлипываний. Ты припомнишь другие дни, другие вещи. Дни, которые ночами войдут в твою ночь под закрытыми веками, и ты сможешь различить их по голосу, но не по виду. Ты должен довериться ночи и признать ее, не видя; верить в нее, не зная; будто ночь – это бог всех твоих дней. Ты подумаешь: стоит закрыть глаза – и она опустится. Невольно растянешь губы в улыбку, хотя боль снова возвращается; попробуешь вытянуть ноги. Кто-то снова коснется твоей руки, но ты не ответишь на эту ласку,– забота, грусть или расчет? – потому что создашь ночь, закрыв глаза, и из глубин черного океана на тебя будет надвигаться каменный корабль. Жаркое и ленивое полуденное солнце тщетно станет лить на него свет: массивны и темны стены, защищающие церковь от атак индейцев, объединяющие под своей сенью конкистадоров-церковников с конкистадорами-солдатами. Двинется на твои закрытые глаза с оглушительным визгом флейт и барабанным боем беспощадное испанское войско Изабеллы, и ты пересечешь под солнцем широкую эспланаду с каменным крестом посередине и открытыми часовнями по углам – индейское воспроизведение христианского культа под открытым небом. Розовые каменные своды высокой церкви в глубине эспланады будут громоздиться над позабытыми уже мавританскими мечами – как символ новой крови, залившей кровь конкистадоров. Ты направишься к порталу в стиле раннего испанского барокко с колоннами в роскошных виноградных лозах и с орлами на ключах, к порталу Конкисты, суровому и пышно украшенному, который одной ногой стоит в мире древнем, мертвом, а другой – в мире новом, нездешнем, рожденном на том берегу океана. Новый мир пришел вместе с ними, с суровыми стенами, чтобы защитить чувствительное, веселое, алчное сердце. Ты пойдешь дальше и вступишь в неф этого храма-корабля, где кастильский экстерьер будет подавлен обилием святых и ангелов с индейского неба, мрачных и улыбчивых, массой индейских богов. Просторный неф поведет к алтарю, украшенному золоченой листвой, множеством страшных лиц-масок. Здесь – место заунывных и торжественных молений, вечно призывающих украшать – по свободному побуждению, единственно свободному,– украшать храм, наполнять его застывшим страхом, изваянной из гипса покорностью, боязнью пустоты и ушедших времен, которые продолжаются в воплощениях обдуманного и неторопливого свободного труда, в независимом выборе цвета и формы, далеких от мира хлыста, кандалов и черной оспы. Ты пойдешь завоевывать свой Новый Свет, пойдешь по нефу, где нет ни пяди пустующей. Головы ангелов, роскошные лозы, многоцветные венки, круглые и красные плоды в сплетениях золотых лиан, бледнолицые святые, глядящие со стен; святые с печальными глазами; святые, созданные индейцами по своему образу и подобию: ангелы и святые с ликами, похожими на солнце и луну, с руками, защищающими урожай, с пальцами, держащими на бечевке псов-поводырей; святые с неуместно жестокими чужими глазами идолов и свирепыми физиономиями циклопов. Каменные. лица, прячущиеся за масками – розовыми, благодушными, невинными, но бесстрастными мертвыми масками. Зови ночь, поднимай черные паруса, закрывай глаза, Артемио Крус…
( 20 мая 1919 года )
Он рассказал о последних часах жизни Гонсало Берналя в тюрьме Пералес, и двери старого дома перед ним раскрылись.
– Мой сын всегда был так чист,– говорил дон Гамалиэль Берналь,– он всегда полагал, что насилие заражает, увлекает людей, заставляет нас изменять самим себе, если действия не продиктованы трезвой идеей. Я думаю, что поэтому он и ушел из дому. Правда, он был лишь отчасти прав, ибо потрясший страну ураган задел всех нас, даже тех, кто не двинулся с насиженного места. Нет, я хочу лишь пояснить, что мой сын, видел свой долг в том, чтобы примкнуть к восставшим и объяснить им, внушить последовательные идеи. Гонсало, видимо, хотел, чтобы эти его рассуждения, не в пример другим, выдержали проверку действием. Право, не знаю – его мысли были очень сложными. Он проповедовал терпимость. Я рад услышать, что он умер храбрецом. Я рад видеть вас здесь.
Гость, посетивший дом старого Берналя, отнюдь не свалился с неба. Накануне он навестил некоторые дома в Пуэбле, поговорил с некоторыми людьми, разузнал то, что надо было разузнать. Поэтому теперь он с каменным лицом выслушивал пространные речи старика, запрокинувшего белую голову на потертую кожаную спинку кресла. Желтоватый луч света обрисовывал строгий профиль, высвечивал пыль, толстым слоем покрывавшую мебель этой заставленной книгами библиотеки. Книжные шкафы были так высоки, что добраться до массивных фолиантов – французских и английских сочинений по географии, искусству и естественным наукам – можно было лишь с помощью лесенки на колесах, оставлявшей следы на коричневом крашеном полу. Дон Гамалиэль читал обычно с лупой, которая теперь замерла в его старческих мягких руках; старик не заметил, как косой луч солнца, пройдя через линзу, вспыхнул ярким пятнышком на складке его тщательно отглаженных полосатых брюк. Но он заметил. Неловкое молчание начинало тяготить обоих.
– Простите, могу я вам что-нибудь предложить? А лучше останьтесь-ка отужинать с нами.
Дон Гамалиэль поднял руки, радушно приглашая гостя; лупа скользнула на колени худого человека – кожа да кости; качнулись блестящие желтоватые прядки волос на голове, скулах, подбородке.
– Меня не пугают нынешние времена,– говорил несколько ранее хозяин гостю. Спокойно лился ровный голос, но в вежливо-мягких интонациях порой звучали твердые нотки.– На что годилось бы мое образование,– он лупой указал на полные книг шкафы,– если бы оно не помогло мне понять неизбежность перемен? Вещи приобретают иной вид, хотим мы этого или нет. Зачем стараться ничего не замечать, вздыхать о прошлом? Гораздо менее утомительно' примириться с непредвиденным! Если хотите, назовем это как-то иначе. Вот вы, сеньор… Простите, забыл ваш чин… Да, подполковник, подполковник… Я говорю, я не знаю вашего происхождения, вашего призвания… Но уважаю вас, потому что вы были с моим сыном в последний час его жизни… Так вот вы, участник событий, смогли вы предвидеть заранее их ход? Я ни в чем не участвовал и тоже не смог. Наверное, наша активность и наша пассивность в том и схожи, что обе они довольно близоруки и бессильны. Хотя некоторая разница, должно быть, и существует… Как вы полагаете? В конце концов…
Гость не сводил взора с янтарных глаз старца – слишком твердых, чтобы создать атмосферу сердечности; слишком строгих для маски отцовской любви. Возможно, эти царственные жесты, это благородство четкого профиля и белой бороды, эти вежливо-внимательные наклоны головы были естественными. Однако, подумал он, и естественность можно прекрасно разыграть; бывает, маска отлично воспроизводит лицо, которого не существует ни отдельно, ни под нею, маской. А маска дона Гамалиэля так походила на настоящее лицо, что в душе нарастало беспокойство: где же разграничительная линия, та неосязаемая тень, которая могла бы отделить их друг от друга. Он думал также и о том, что когда-нибудь сможет без обиняков сказать про это старику.
В одно и то же время послышался бой всех часов в доме, и хозяин пошел зажечь ацетиленовую лампу, стоявшую на бюро. Медленно открыв бюро, старик начал перебирать какие-то бумаги. Взяв одну из них в руки, стал вполуоборот к гостю. Улыбнулся, нахмурил брови, снова улыбнулся и положил бумагу поверх остальных. Изящно дотронулся указательным пальцем до уха: за дверью царапалась и повизгивала собака.
Когда старик повернулся к нему спиной, он снова попытался разобраться в своих ощущениях. Каждое движение сеньора Берналя гармонировало с его благородным обликом: вон как горделиво, какой размеренной походкой идет седовласый старец к двери. В душе снова шевельнулось беспокойство; хозяин слишком безупречен. Возможно, его вежливость – естественная спутница его чистосердечия. Это тоже ему не нравилось – старик не спеша шествовал к двери, собака лаяла,– борьба окажется слишком легкой, лишенной остроты. А что, если, напротив, за любезностью скрывается стариковское коварство?
Когда полы сюртука перестали покачиваться в такт шагам и белые пальцы нежно ощупали медную ручку двери, дон Гамалиэль оглянулся через плечо, устремив на гостя свои янтарные глаза, и ласково погладил левой рукой бороду. Он, казалось, прочитал мысли незнакомца, и по его губам скользнула чуть кривая усмешка – усмешка кудесника., собирающегося открыть свои тайны. Гостю вдруг почудилось, что это – немой призыв к соучастию, но жест и улыбка дона Гамалиэля были столь легки, исполнены столь тонкого лукавства, что не позволили ему ответить понимающим взглядом, который скрепил бы молчаливый договор.
Опустился вечер. В слабом свете лампы поблескивали золоченые корешки книг и серебряные орнаменты обоев на стенах библиотеки. Когда дверь распахнулась, он вспомнил о длинной анфиладе комнат – от главного вестибюля старого дома до библиотеки: комната за комнатой над патио, выложенным изразцами.
Пес с радостным визгом бросился к хозяину и лизнул ему руку. Вслед за собакой показалась девушка в белом – белизна платья резко выделялась в ночной темноте.
Она застыла у порога; пес метался около незнакомца, обнюхивая ему руки и ноги. Сеньор Берналь, стараясь схватить пса за ошейник из красной кожи, улыбался и бормотал извинения. Он ничего не слышал. Быстро застегнув куртку точными движениями военного и одернув ее, словно походный мундир, молча встал навытяжку перед красотой.
– Моя дочь Каталина.
Она не двинулась с места, не переступила порога. Гладкие каштановые волосы оттеняли шею, высокую и теплую, поблескивали на темени – он видел это издалека. Робкие глаза, одновременно твердые и мягкие – словно две большие капли стекла, желтые, как у отца, но более наивные, еще не умеющие лгать правдиво. Не лгут, кажется, и приоткрытые влажные губы, и высокая, обтянутая платьем грудь. Глаза, губы, грудь, упругая и нежная,– все будто сотворено из беззащитности и вызова. Руки со сцепленными ниже живота пальцами висели вдоль тонкого стана. Когда она пошла по комнате, легким белым облаком взметнулось у крутых бедер застегнутое на спине платье, показав стройную лодыжку.
Гость увидел перед собой светлое золото лица, чуть темнее на щеках и на лбу и светлевшее на шее. Дотронувшись до протянутой руки, он попытался ощутить влажность ладони, скрытое волнение, но тщетно.
– Сеньор был рядом с твоим братом накануне казни; я уже говорил тебе.
– Бог миловал сеньора.
– Гонсало рассказывал мне о вас, просил навестить. Ваш брат вел себя как храбрец, до конца.
– Брат не был храбрецом. Слишком любил все… это. Она дотронулась рукой до груди и описала в воздухе параболу.
– Идеалист. Да, большой идеалист,– прошептал старик и вздохнул.– Сеньор отужинает с нами.
Девушка взяла отца под руку, а он, сопровождаемый псом, последовал за ними через узкие сырые комнаты, полные фарфоровых ваз и стульев, часов и стеклянных шкафов, кресел на колесиках и картин на сюжеты Священного писания – небольшой стоимости, но внушительных размеров. Золоченые ножки столиков и кресел попирали деревянный пол, все лампы были потушены. Только в столовой огромная люстра в стеклянных подвесках освещала тяжелую мебель красного дерева и натюрморт с глиняными кувшинами, пламенеющими тропическими плодами. Дон Гамалиэль вспугнул салфеткой москитов, круживших над вазой с настоящими фруктами, не столь великолепными, как нарисованные, и жестом пригласил гостя занять место.
Он сел напротив нее и смог наконец прямо посмотреть в спокойные глаза девушки. Известна ли ей причина его визита? Разглядела ли она в глазах мужчины победную уверенность, которую присутствие женщины сделало еще более непоколебимой? Видела ли чуть заметную улыбку, решающую ее судьбу? Заметила ли его почти нескрываемое утверждение в правах собственника? Ее глаза ответили ему странным посланием: в них читалась спокойная покорность судьбе – будто она была согласна на все, но в то же время могла обратить свою податливость в оружие, способное победить мужчину, который вот так, молча улыбаясь, завоевывал ее.
Она сама удивлялась силе своей слабости, мужеству, с каким переносила свое поражение. Подняв глаза, стала дерзко рассматривать волевое лицо гостя. Трудно было избежать взгляда его зеленых глаз. Нет, отнюдь не красавец. Но мысль о прикосновении к смуглому лицу с нервно пульсирующими жилками на висках, к стройному мускулистому телу и толстым губам незнакомца вдруг взволновала ее. Он протянул под столом ногу и дотронулся до кончика ее туфельки. Она опустила глаза и, взглянув искоса на отца, убрала ногу. Гостеприимный хозяин по-прежнему благожелательно улыбался, вертя в пальцах рюмку.
Появление старой прислуги-индеанки с кастрюлей риса положило конец молчанию, и дон Гамалиэль заметил, что период засухи кончился в этом году раньше, чем в прошлом; к счастью, тучи уже собрались у гор, и урожай, видимо, будет хороший. Не такой, как в прошлом году, но хороший
– Забавно,– сказал дон Гамалиэль,– наш старый дом всегда хранит влажную прохладу. От этого сыреют затененные углы, а в патио растут папоротники и колорин [60] . Это, по-видимому, весьма символично для семьи, которая приумножалась и процветала благодаря плодам земным. Семьи, пустившей корни в долине Пуэблы…– старик ел рис, изящно подбирая вилкой зернышки, -…в начале девятнадцатого века и пережившей все абсурдные перипетии в стране, которая не выносит покоя и предпочитает корчиться в конвульсиях.
– Порой мне кажется, что мы впадаем в отчаяние, если долго не видим крови и смерти. Словно можем жить только в хаосе разрухи, под угрозой расстрелов,– продолжал дон Гамалиэль своим задушевным голосом.-Но наш род никогда не прекратится, ибо мы научились выживать, научились…
Хозяин взял рюмку гостя и наполнил ее густым вином.
– Но чтобы выживать, надо платить,– сухо заметил тот.
– Всегда можно договориться о приемлемой цене… Наполняя рюмку дочери, дон Гамалиэль нежно погладил
ее руку.
– Все зависит от деликатности. Не следует никого тревожить, оскорблять благородные чувства… Честь не должна быть задета.
Он снова коснулся ноги девушки. На этот раз Каталина не убрала ее. Подняла рюмку и не краснея смотрела на гостя.
– Не надо смешивать разные вещи,– тихо продолжал старик, вытирая губы салфеткой.– Дела, скажем,– это одно, а религия – другое.
(– Вы подумаете, какой, мол, набожный человек, как часто причащается вместе с дочкой… Но все, что он имеет, он накрал у священников, когда Хуарес [61] пустил с молотка церковные владения и любой купчишка с небольшим капитальцем мог приобрести огромные угодья…)
Шесть дней провел он в Пуэбле до своего появления в доме дона Гамалиэля Берналя. Армия была распущена президентом Каррансой [62] , и он, вспомнив о своем разговоре с Гонсало Берналем в Пералесе, направился в Пуэблу. Руководил им чистый инстинкт, но одновременно и уверенность, что в этом разрушенном революцией, перевернутом вверх дном мире знать чью-то фамилию, адрес, город – это уже много. Ему казалось забавной ирония судьбы, по которой в Пуэблу явился не расстрелянный Гонсало Берналь, а он. Это выглядело каким-то маскарадом, подменой, комедией, которую можно было разыграть с большой серьезностью. И в то же время это пропуск в жизнь, шанс выжить и укрепить свои позиции за счет других. Когда, подходя к Пуэбле по дороге из Чолулы, он заприметил красные и желтые грибки крыш, маячивших в долине, ему почудилось, будто идет он сюда не один, а вдвоем – вместе с духом убитого, вместе с судьбой Гонсало Берналя, чужой судьбой, которая тесно сплелась с его собственной; будто Берналь, умирая, передал ему все возможности своей недожитой жизни. Как знать, может быть, именно чужие смерти продлевают нашу жизнь, подумал он. Но в Пуэблу он пришел не затем, чтобы думать.
– В этом году старик ни зернышка не снял. И долгов не получил, потому что в прошлом году крестьяне взбунтовались и стали распахивать пустыри. Они его предупредили, что, если он не отдаст им пустующие земли, они не станут засевать его поля. А старика одолела гордыня, он отказал им и остался без хлеба. Раньше-то помещик прижал бы к ногтю бунтовщиков, а теперь не то… Не те времена…
– Тут и другое примешалось. Должники-то упорствуют, не хотят признавать свои новые долги. Говорят, проценты, которые он взял, покрыли все с лихвой. Видите, полковник? Все очень верят, что теперь наступят большие перемены.
– Да, а старик уперся как осел, знай гнет свое. Скорей сдохнет, чем кому-нибудь уступит.
Последнюю партию в кости он проиграл. Он пожал плечами и кивнул трактирщику, чтобы тот снова наполнил рюмки. Все поблагодарили за угощение.
– Кто же задолжал этому дону Гамалиэлю?
– Эх… Кто не задолжал – вот как надо спрашивать.
– А есть у него какой-нибудь близкий друг, свой человек?
– Ясное дело есть – отец Паэс, тут неподалеку.
– Но ведь старик нагрел руки на церкви?
– Эхма… Святой отец вымолил вечное спасение дону Гамалиэлю, а за это дон Гамалиэль спас попа на нашей грешной земле.
Солнце ослепило их, когда они вышли на улицу.
– Родится же такая красота! Растет, цветет – ни забот, ни хлопот!
– Кто эта девушка?
– Да как кто, полковник… Дочка этого самого дона Гамалиэля.
Уставившись на носки своих ботинок, он шел по старым улицам городка, похожего на шахматную доску. Когда каблуки перестали цокать о каменные плиты и ноги зарылись в сухую серую пыль, его глазам открылся древний монастырь, обнесенный стеной с бойницами. Обогнув широкую эспланаду, он вступил в тихий длинный золоченый неф. Снова гулким эхом раздались шаги. Он направился прямо к алтарю.
Жизнь, казалось, едва теплилась в щуплом мертвенно-сером теле священника, в его угольно-черных глазках над широкими скулами. Как только отец Паэс заметил незнакомца, шагавшего по церковному нефу, и оглядел его с высоты старинных хоров, воздвигнутых монахами, сбежавшими из Мексики во времена либеральной республики [63] , он сразу же распознал в нем военного, привыкшего быть начеку, командовать и атаковать. Об этом говорила не только легкая кривизна ног. Была какая-то импульсивная сила в сжатой в кулак руке, которая привыкла держать поводья и револьвер, и отцу Паэсу достаточно было одного взгляда на этот крепкий кулак, чтобы, еще не видя как следует человека, ощутить его наводящую страх силу. В своем укромном углу священник подумал, что такой человек не молиться сюда пришел. Затем, придерживая сутану, стал медленно спускаться вниз по узкой винтовой лестнице старого пустующего монастыря. Осторожно, ступенька за ступенькой спускался отец Паэс, приподняв полы черной одежды, глубоко втянув голову в плечи, сверля тьму глазами, горящими на бледном, бескровном лице. Ступени требовали срочного ремонта. Его предшественник оступился здесь в 1910 году и сломал себе шею. Но Ремихио Паэс, словно парящая летучая мышь, казалось, проникал взором в самые темные уголки этого черного, сырого, страшного колодца. Темнота и опасность спуска обостряли его внимание и мысли: военный в церкви, одетый в штатское, без солдат? Да, слишком значительно все это, чтобы пройти бесследно. Священник знал, что так и будет. Минуют битвы, насилия, святотатства – тут он вспомнил банду, которая года два назад утащила все церковные облачения и утварь, – и церковь, незыблемая на века, снова найдет общий язык с властями мирскими. Военный в гражданской одежде… Один…








