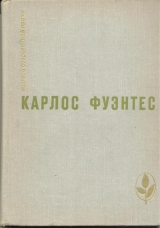
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Карлос Фуэнтес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
Отец Паэс спускался вниз, слегка прикасаясь рукой к разбухшей от сырости стене, по которой темной нитью сочилась вода. Ему подумалось: скоро начнется период дождей. Надо, используя всю свою власть, внушить прихожанам с амвона и в исповедальнях, что это грех, тягчайший грех и богохульство – отвергать дары неба; никто не может противиться предначертаниям провидения, ибо провидение создало такой порядок вещей, и с ним должны мириться все. Все должны пахать землю, собирать урожай, отдавать плоды земные законному хозяину, доброму христианину, который платит за свои привилегии тем, что регулярно отдает десятую часть доходов святой матери-церкви. Бог карает бунтовщиков, а дьявола всегда побеждают архангелы: Рафаил, Гавриил, Михаил, Гамалиил… Гама лиил…
(– Где же справедливость, отец?
– Высшую справедливость найдешь там, на небе, сын мой. Не ищи ее в этой юдоли слез.)
– Слова,– бормотал священник, с облегчением ступив наконец на твердый пол и стряхивая пыль с сутаны; слова, проклятые четки слогов, воспламеняющие кровь и разум людей, которые должны довольствоваться тем, что быстро пройдут свой жизненный путь и в награду за испытание смертью будут вечно наслаждаться в раю. Священник пересек крытую галерею и пошел вдоль длинной аркады. Справедливость! Для кого? И надолго ли? Жизнь только тогда может быть всем по вкусу, когда все поймут неизбежность своего преодоления и не будут искать лучшего, бунтовать, лезть куда не следует…
– Вот именно, вот именно…-тихо повторил отец Паэс и открыл инкрустированную дверь ризницы.
– Великолепная работа, не правда ли? – сказал священник, подходя к высокому человеку, стоявшему у алтаря.– Монахи показывали эстампы и гравюры индейским ремесленникам, и те создавали христианских святых в своем вкусе… Говорят, в каждом алтаре таится идол. Если это и так, то речь идет о добром идоле, который уже не жаждет крови, как языческие боги…
– Вы Паэс?
– Ремихио Паэс,– ответил священник, натянуто улыбнувшись.– А вы? Генерал, полковник, майор?…
– Просто Артемио Крус.
– А-а.
Когда подполковник и священник распрощались у церковного портала, Паэс сложил руки на животе и долго смотрел вслед посетителю. В прозрачной утренней голубизне еще четче вырисовывались, еще теснее прижимались друг к другу два вулкана: спящая женщина и ее одинокий страж [64] . Он сощурил глаза – какой невыносимо прозрачный свет! – и с облегчением вздохнул, поглядев на далекие черные тучи, которые скоро оросят долину и погасят солнце ежевечерними, серыми ливнями.
Священник повернулся спиной к долине и снова вошел в тень храма. Потер руки. Не стоит обращать внимания на чванство и оскорбительные выражения этого мужлана. Если кто-то может спасти положение и дать дону Гамалиэлю возможность дожить остаток лет под надежной защитой, то он, Ремихио Паэс, слуга божий, не станет мешать этому наигранным негодованием и ханжеским фанатизмом. Напротив. Священник даже облизнулся от удовольствия, подумав о мудрости своего смирения. Если этот человек не хотел поступиться своей гордостью, он готов, тихо потупившись, выслушивать его каждый день, порой даже поддакивая, словно соглашаясь с обвинениями, которые этот плебей выдвигает против церкви.
Священник сорвал с крюка черную шляпу, нахлобучил ее на голову, примяв темные пряди, и поспешил к дому дона Гамалиэля Берналя.
– Он сделает это, не сомневаюсь! – убежденно промолвил старик вечером, после разговора со священником. – Но я спрашиваю вот о чем: на какую хитрость он пустится, чтобы проникнуть к нам в дом? Он сказал падре, что придет навестить меня сегодня же. Да… Не все еще мне понятно, Каталина.
Она подняла голову. Правая рука замерла на холсте, где пестрели цветы, старательно вышитые шерстью. Три года назад пришло известие: Гонсало убит. С тех пор отец и дочь очень сблизились. Неторопливые разговоры, которые они вели по вечерам в патио, сидя в плетеных креслах, приносили не только душевное успокоение – они стали привычкой, которую, как говорил старик, ничто не заменит ему до самой смерти. Не так важно, что уже нет прежней власти и богатства: быть может, это неминуемая дань времени и старости. Дон Гамалиэль перешел к пассивной борьбе. Да, не надо прижимать крестьян, но нельзя терпеть и противозаконного захвата земель. Никто не будет требовать от должников уплаты долгов и процентов, но пусть они больше не рассчитывают получить от него хотя бы сентаво. Старик ожидал, что когда-нибудь они все равно приползут к нему на коленях, нужда заставит смириться. И твердо стоял на своем. А теперь… является вдруг этот незнакомец и обещает всем крестьянам заем под процент куда менее высокий, чем давал дон Гамалиэль, и, кроме того, еще осмеливается предлагать, чтобы права старого помещика безвозмездно перешли к нему, обещая за это четвертую часть суммы, которую получит от должников. На другие условия не согласен.
– Но на этом его домогательства не кончатся.
– Думаешь, земля?…
– Да. Он что-то замышляет, чтобы отнять у меня землю, не сомневайся.
Она, как всегда по вечерам, обошла патио, накрыла разноцветные птичьи клетки парусиновыми колпаками и в последний раз до захода солнца полюбовалась юркими сенсонтлями [65] и малиновками, звонко певшими и клевавшими конопляное семя.
Такого сюрприза старик не ожидал: последний человек, видевший Гонсало; его товарищ по камере, передавший предсмертные слова любви отцу, сестре, жене и сыну.
– Он сказал, что перед смертью Гонсало думал о Луисе и о сыне.
– Папа, мы же условились…
– Нет, я ничего ему не сказал. Он не знает, что Луиса снова вышла замуж, а мой внук носит другое имя.
– Мы три года не вспоминали обо всем этом. Зачем же теперь?
– Ты права. Но мы ведь простили Гонсало, верно? Я подумал, что мы должны простить ему переход на сторону врага. Я подумал, что мы должны постараться понять его…
– Мне давно казалось, что мы тут каждый вечер молча прощаем его.
– Да, да, именно так. Ты меня понимаешь без слов. Как хорошо! Ты меня понимаешь…
Поэтому, когда пришел гость, страшный и долгожданный – ведь должен был кто-либо когда-нибудь прийти и сказать: «Я его видел. Знал. Слышал от него о вас»,– пришел и бросил на стол свой козырь, даже не упомянув о крестьянском бунте и неуплаченных долгах, дон Гамалиэль проводил его в библиотеку, извинился и направился почти бегом – хотя всегда приравнивал неторопливость к изяществу – в комнату Каталины.
– Приоденься. Сними черное платье и надень что-нибудь понаряднее. Приходи в библиотеку, как только часы пробьют семь.
Больше старик ничего не сказал. Она послушается; залог тому – их задушевные вечерние беседы. Она поймет. Б игре оставалась лишь одна беспроигрышная карта. Дону Гамалиэлю достаточно было увидеть этого человека, чтобы почувствовать его внутреннюю силу и понять – или сказать себе, – что любое промедление будет самоубийством, что противостоять ему трудно и что приносимая жертва невелика и, в общем, даже не слишком страшна. Отец Паэс уже обрисовал его: высокий, энергичный, скупой на слова мужчина с проницательными зелеными глазами. Артемио Крус.
Артемио Крус. Вот как, значит, называется новый мир, порожденный гражданской войной; вот как зовутся те, что пришли на смену старому. Несчастная страна, думал старик, возвращаясь медленными, как всегда, шагами в библиотеку, к этому визитеру, нежеланному, но интересному. Несчастная страна, которая с каждым новым поколением должна низвергать прежних властителей и заменять их новыми хозяевами, такими же хищными и властолюбивыми, как прежние.
Старый помещик считал себя последним и характерным представителем креольской цивилизации – цивилизации просвещенных деспотов. Ему нравилось выступать в роли порой сурового, но неизменно заботливого отца и строгого блюстителя хорошего вкуса, хороших манер и образованности. Поэтому старик провел гостя в библиотеку. Тут особенно ощущался достойный уважения – даже преклонения – дух того времени, порождением и олицетворением которого был дон Гамалиэль. Но на гостя это не произвело никакого впечатления.
От наблюдательного старика, запрокинувшего голову на кожаную спинку кресла и прищурившего глаза, чтобы лучше видеть своего противника, не ускользнуло, что перед ним – человек новых жизненных принципов, выкованных в горниле войны, человек, привыкший играть ва-банк, ибо терять ему нечего. Он даже не упомянул об истинной цели своего визита. Дон Гамалиэль молчаливо одобрил такой ход; может быть, гость тоже обладает необходимой деликатностью, хотя руководствуется побуждениями гораздо более сильными: честолюбием – старик улыбнулся этому слову, уже потерявшему для него смысл,– и желанием немедленно овладеть правами, завоеванными ценой жертв, сражений, ран (у него на лбу – шрам от сабельного удара). Красноречивый взгляд собеседника и плотно сжатые губы говорили о том, что не ошибался старец, вертевший в пальцах лупу.
Визитер и бровью не повел, когда дон Гамалиэль подошел к бюро и взял лист бумаги – список должников. Тем лучше. Значит, они скорее смогут найти общий язык, избежать разговора о неприятных вещах. Даст бог, все уладится тихо и пристойно. Молодой военный, видимо, уже узнал вкус власти, повторял про себя дон Гамалиэль. И от мысли, что перед ним – его наследник, уже не столь горькими казались компромиссы, на которые толкала его жизнь.
– Вы видели, как он смотрел на меня? – взорвалась девушка, когда гость ушел, пожелав доброй ночи.– Вы поняли, чего он хочет и какие у него… сальные глаза?
– Да, да,– отец нежно гладил руку дочери.– Ничего удивительного. Ты очень красива, но, видишь ли, ты очень редко выходишь из дому. Ничего удивительного.
– И никогда не выйду!
Дон Гамалиэль медленно зажег сигару, табак давно окрасил его густые усы и бороду в желтоватый цвет.
– Я думал, ты поймешь.
Дон Гамалиэль мягко качнулся в плетеной качалке и посмотрел на небо. Одна из последних ночей летней поры. Небосвод так чист, что, если прищурить глаза, можно разглядеть цвет каждой звезды. Девушка прижала ладони к вспыхнувшим Щекам.
– А падре что сказал вам? Ведь он еретик! Не почитает ни бога, никого… И вы верите его сказке?
– Успокойся. Счастье не всегда нуждается в благословении божьем.
– Вы верите его сказке? Почему же Гонсало погиб, а этот сеньор – нет? Если оба были приговорены к смерти и находились в одной камере, почему не погибли оба? Я знаю, знаю. Он нам сказал неправду, выдумал сказку, чтобы вас разжалобить, а меня…
Дон Гамалиэль перестал качаться. Все так хорошо складывалось, тихо, спокойно! И вот теперь женское чутье вновь возвращает его к тому, что уже было обдумано, взвешено и отброшено как ненужное.
– У двадцатилетних развито воображение.– Дон Гамалиэль приподнялся и потушил сигару.– Но если хочешь знать правду, я скажу тебе. Этот человек может спасти нас. Больше я ничего не могу прибавить…
Старик вздохнул и обеими руками коснулся рук дочери.
– Подумай о последних годах твоего отца. Или я не заслужил немного…
– Но, папа, я ничего не говорю…
– Подумай и о себе. Она опустила голову:
– Да, я понимаю. Я знала… Я ждала чего-то в этом роде после того, как Гонсало ушел из дому. Если бы он был с нами…
– Но его нет.
– Брат не думал обо мне. Кто знает, о чем ему думалось. Идя по холодным коридорам старого дома, вслед за пятном
света – дон Гамалиэль держал лампу над головой,– девушка старалась вызвать в памяти образы давно забытые, потускневшие. Ей вспомнились напряженные, потные лица школьных товарищей Гонсало, долгие дискуссии в задней комнате; вспомнились ярко горящие, одержимые глаза брата – этого маньяка, который, порой казалось, витал где-то в облаках, но любил комфорт, вкусную еду, вино, книги и время от времени яростно бичевал себя за склонность к наслаждениям и конформизм. Вспомнилась замкнутость Луисы, невестки; их шумные ссоры, затихавшие с ее появлением в зале; странный плач жены Гонсало, звучавший как хохот, когда пришло сообщение о его смерти; тайный отъезд Луисы однажды утром, когда все спали. Но Каталина не спала и сквозь оконную занавеску видела, как мужчина в котелке и с тростью подхватил цепкой рукой Луису под локоть и помог ей – вместе с ребенком – подняться в черную коляску, где уже стояли вдовьи сундуки.
Оставалось одно: отомстить за смерть брата – дон Гамалиэль поцеловал ее в лоб и открыл дверь спальни,– отомстить в объятиях этого человека, но отказав ему в нежности, которую он мог ждать от нее. Убивать его, живого, вливать ему в душу горечь, пока он не отравится. Каталина взглянула на себя в зеркало, но не увидела на лице следа своих тайных дум. Вот так отомстят они с отцом за уход Гонсало, за его глупый идеализм: она, двадцатилетняя девушка, будет отдана -… почему текут эти слезы, почему ей жаль себя, обидно за свою молодость? – человеку, который был с Гонсало до самой его смерти и о котором она не может думать без чувства жалости к самой себе и к погибшему брату, без яростных всхлипываний, без судорожных гримас. Если никогда не узнать правды, все равно она будет верить только в то, что считает правдой.
Каталина сняла черные чулки. Поглаживая ладонями ноги, закрыла глаза: нет, не надо, нельзя вспоминать об этой грубой, сильной ноге, искавшей под столом ее ногу,– и сердце вдруг замерло перед чем-то неизведанным, неодолимым. Но если тело сотворено не господом богом…– она прижала сплетенные пальцы рук ко лбу,– а просто плоть от плоти людской, то дух – совсем другое. И нельзя позволить телу предаться ласкам, выйти из повиновения, жаждать нежности, если душа это запрещает. Она откинула простыню и скользнула в постель, не открывая глаз. Протянула руку и погасила лампу. Зарылась лицом в подушку. Об этом нельзя думать. Нет, нет, нельзя Надо сказать правду. Надо назвать другое имя, поведать обо всем отцу. Ох, нет. К чему терзать отца? Пусть все будет так Да. И скорее – в следующем месяце. Пусть этот человек возьмет бумаги, землю, тело Каталины Берналь… Пропади все пропадом… Рамон… Нет, этого имени нельзя произносить, уже нельзя.
Она заснула.
– Вы же сами говорили, дон Гамалиэль, – сказал гость, вернувшись на следующее утро.– Нельзя остановить ход событий. Давайте отдадим те участки крестьянам – земля там неважная и доход им принесет небольшой. Давайте раздробим землю на участки, чтобы они могли собирать небольшие урожаи. Вы увидите: хотя им и придется благодарить нас за это, они в конце концов на своих никудышных полях заставят работать жен, а Сами снова будут обрабатывать нашу плодородную землю. Учтите другое: вы даже сможете прослыть героем аграрной реформы без всякого для себя ущерба.
Старик внимательно посмотрел на него, спрятав улыбку в волнистых белых усах:
– Вы уже говорили с ней?
– Уже говорил…
Она не смогла пересилить себя. Подбородок дрожал, когда он протянул руку и попытался приподнять ее опущенное лицо. Впервые прикоснулся он к этой коже, нежной, как крем, Как абрикос. А вокруг разливался терпкий аромат цветов в патио, трав после дождя, прелой земли. Он любил ее. Знал, прикасаясь к ней, что любил. Надо было заставить и ее понять, что он любит по-настоящему, вопреки странно сложившимся обстоятельствам. Он мог любить ее так, как любил тогда, первый раз в жизни, и знал, чем доказать свою любовь. Он снова дотронулся до пылавших щек девушки. Она не выдержала: слезы сверкнули на ресницах, подбородок рванулся из чужих рук.
– Не бойся, тебе нечего бояться, – шептал мужчина, ища ее губы.– Я сумею любить тебя…
– Мы должны благодарить вас… За вашу заботу…– ответила она едва слышно.
Он поднял руку и погладил волосы Каталины.
– Ты поняла, да? Будешь жить со мной. Кое-что выбросишь из головы… Я обещаю уважать твои тайны… Но ты должна обещать мне никогда больше…
Она взглянула на него, и глаза ее сузились от ненависти, какой она никогда еще не испытывала. В горле пересохло. Что за чудовище? Что за человек, который все знает, все берет и все ломает?
– Молчи…– Она резко отстранилась от него.
– Я разговаривал с ним. Слабый парень. Он не любил тебя как надо. Ничего не стоило спровадить его.
Каталина провела пальцами по щекам, словно стирая следы его прикосновений.
– Да, не такой сильный, как ты… Не такое животное, как ты…
Она чуть не закричала, когда он схватил ее за руку и, сжав, улыбнулся.
– Этот самый Рамонсито ушел из Пуэблы. Ты его никогда больше не увидишь… – Он отпустил ее.
Она пошла вдоль патио к разноцветным клеткам со звонко гомонившими птицами. Одну за другой поднимала раскрашенные решетчатые дверки. Он, не шевелясь, наблюдал за нею. Малиновка выглянула из клетки и взвилась в небо. Сенсонтль заупрямился – привык к своей воде и корму. Каталина посадила его на мизинец, поцеловала в крыло и подбросила в воздух. Когда улетела последняя птица, она закрыла глаза, позволила этому человеку обнять себя за плечи и увести в дом, где в библиотеке сидел, ожидая их, дон Гамалиэль, снова спокойный и безмятежный.
Я чувствую, как чьи-то руки берут меня под мышки и удобнее устраивают на мягких подушках. Прохладное полотно – бальзам для моего тела, горящего и зябнущего. Открываю глаза и вижу перед собой развернутую газету, заслоняющую чье-то лицо. Думаю, это моя «Вида мехикана» [19] , которая выходит и всегда будет выходить, день за днем, и никакая сила на свете не помешает этому. Тереса – ах, вот кто читает газету – в тревоге ее сложила.
– Что с вами? Вам плохо?
Жестом успокаиваю дочь, и она снова берется за газету. Да, я доволен – кажется, придумал забавную штуку. В самом деле. Это было бы здорово – оставить для опубликования в газете посмертную статью, рассказать всю правду о моем честном соблюдении свободы печати… Ох, от волнения снова резь в животе. Невольно тяну к Тересе руку, чтобы помогла, но дочь с головой погрузилась в чтение. Прежде я видел угасание дня за окнами, слышал жалобный визг жалюзи. А сейчас, в полутьме спальни с тяжелым потолком и дубовыми шкафами, не могу рассмотреть людей, стоящих поодаль. Спальня очень велика. Но жена, конечно, здесь. Где-нибудь сидит, выпрямившись и забыв намазать губы, мнет в руках носовой платок и, конечно, не слышит, как я шепчу:
– Тем утром я ждал его с радостью. Мы переправились через реку на лошадях,
Меня слышит только этот чужой человек, которого я раньше никогда не видел, с бритыми щеками и черными бровями. Он просит меня покаяться – а я в это время думаю о плотнике и о девице – и обещает мне место в раю.
– Что хотели бы вы сказать… в этот трудный час?
И я ему сказал. Тереса, не сдержавшись, прервала меня криком: – Оставьте его, падре, оставьте! Разве вы не видите, что мы бессильны! Если он желает погубить свою душу и умереть, как жил, черствым, циничным…
Священник отстраняет ее рукой и приближает губы к моему уху, почти целует меня: – Им незачем нас слышать.
Мне удается усмехнуться: – Тогда имейте смелость послать их обеих ко всем чертям.
Он встает с колен под негодующие возгласы женщин и берет их за руки, а Падилья подходит ко мне, хотя они не хотят его подпускать.
– Нет, лиценциат, мы не можем вам позволить.
– Многолетний обычай, сеньора.
– Вы берете на себя ответственность?…
– Дон Артемио… Я принес утреннюю запись.
Я приподнимаюсь. Стараюсь улыбнуться. Все как обычно. Славный малый этот Падилья.
– Переключатель рядом с бюро.
– Спасибо.
Да, конечно, это мой голос, вчерашний голос – вчерашний или утренний? Не пойму. Я беседую с Пенсом, со своим главным редактором… Ах, заскрежетала лента, поправь ее, Падилья, она крутится назад, мой голос стрекочет попугаем… Ara, вот и я:
« – Как тебе нравится, Понс?
– Не очень, но справиться пока можно.
– Так вот, обрушь на них весь номер, без церемоний. Поддай им жару, крой почем зря.
– Твоя воля, Артемио.
– Ничего, для публики это не новость.
– Да, уж год за годом мозги вправляем…
– Я хочу просмотреть все основные статьи и первую полосу… Зайди вечером ко мне домой.
– В общем-то, все в том же духе, Артемио. Разоблачение красного заговора. Иностранное проникновение, подрывающее устои Мексиканской революции…
– Славной Мексиканской революции!
– …лидеры -прислужники иностранных агентов. Тамброни дал отличный материал, а Бланко разразился на целую колонку, сравнил их вожака с антихристом. Карикатуры – убийственные!… А ты как себя чувствуешь?
– Не очень хорошо. Схватывает. Ничего, пройдет. Быть бы нам помоложе, а?
– Да, не говори…
– Скажи мистеру Коркери, пусть придет».
Раздается мой кашель, потом скрип двери – открылась и захлопнулась. В животе спокойно, не бурлит, хотя и пучит… Я тужусь… напрасно… Вижу их. Вошли. Открылась и захлопнулась дверь красного дерева, шаги глохнут в толстом ковре. Закрыли окна.
– Откройте…
– Нет, нет. Простудишься, и будет хуже…
– Откройте…
«– Are you worried, Mr. Cruz? [20]
– Изрядно. Садитесь, я вам все объясню. Хотите выпить? Придвиньте к себе столик. Мне что-то нездоровится».
Я слышу шорох колесиков, позвякивание бутылок.
– You look О. К. [21] ».
Слышу, как падает лед в бокал, как шипит содовая, вырываясь из сифона.
«– Видите ли, я хочу объяснить вам, что поставлено на карту; сами-то вы не додумались. Сообщите в Центральное управление, что, если это так называемое движение за профсоюзную чистку одержит верх, нам придется закрыть лавочку…
– Лавочку?
– Ну, как у нас в Мексике говорят, штаны снять да на все…».
– Выключите! – крикнула Тереса, подскочив к магнитофону.– Что за ужасные выражения?…
Я успел предостерегающе шевельнуть рукой, сдвинуть брови. И пропустил несколько слов из записи.
«– …о том, что намерены предпринять лидеры профсоюза железнодорожников?»
Кто– то нервно высморкался. Где это?
«– …объясните компаниям: им не следует наивно думать, будто речь идет о демократическом движении, когда выкидывают -вы понимаете? – выкидывают разложившихся вожаков. Вовсе нет.
– I'm all ears, Mr. Cruz [22] ».
А, это, должно быть, чихает гринго. Ха-ха.
– Нет, нет. Ты простудишься, и будет хуже.
– Откройте!
Я, да и не один только я, другие тоже пытаются уловить в ветерке запах иной земли, полуденный аромат иных мест. Вдыхаю, вдыхаю то, что далеко от меня, далеко от холодной испарины, далеко от горячих миазмов. Я заставил их открыть окно, я могу дышать тем, чем хочу, развлекаться, отделяя один запах от другого: вот осенние леса, вот сухие листья, а вот спелые сливы; да, да, вот гнилые тропики, острая пыль соляных копей; ананасы, рассеченные ударом мачете; табак, подсыхающий в тени; дым локомотива, волны моря; сосны под снегом; металл и гуано – сколько запахов приносит это вечное движение…
Нет, нет, они уморят меня. Садятся, снова встают, ходят и опять садятся вместе, как одна большая тень, будто не могут думать и действовать отдельно. Опять сели, спиной к окну, чтобы преградить доступ воздуху, задушить меня, заставить закрыть глаза и вспоминать о том, чего я не могу видеть, трогать, нюхать. Проклятая пара – когда они перестанут подсовывать мне священника, торопить со смертью, с исповедью? Вон стоит на коленях, чистоплюй. Сейчас покажу ему спину. Но боль под ребром мешает. О-ох. Пройдет. Отпустит. Хочу спать. Опять острая боль. Вот… О-хо-хо… И женщины. Нет, не эти. Женщины. Любящие. Что? Да. Нет. Не знаю. Забыл лицо. Я забыл ее лицо. Нет. Нельзя его забывать. Где оно? Ох, оно было так прекрасно, ее лицо,– разве можно его забыть. Оно было моим, как можно его забыть. Я любил тебя, как же забыть. Ты была моей, как же тебя забыть. Какой ты была, ну, какой же ты была? Я могу думать о тебе, успокоиться тобой. Какая же ты? Как призвать тебя? Что? Почему? Опять укол? А? Почему? Нет, нет, о другом, скорей думать о другом; больно, о-ох, больно… О другом… Это успокоит… Это…
Ты закроешь глаза, но будешь сознавать, что веки твои – не плотные крышки, что сквозь них пробивается свет к зрачку, солнечный свет, который войдет в открытое окно и доберется до твоих закрытых глаз. Опущенные веки не дадут тебе видеть очертания, блеск, цвет предметов, но не лишат тебя зрения, не заслонят навсегда сверкания медной монеты, которая каждый вечер плавится на горизонте. Ты закроешь глаза и поверишь, что увидишь нечто большее: то, что захочет видеть твой мозг; больше того, что сможет показать тебе целый мир. Закроешь глаза, и реальный мир не сможет соперничать с твоим воображением. Опустишь веки, и неподвижный, неизменный свет, подобный солнечному, создаст под веками другой мир в движении, свет в движении, свет, который может утомлять, пугать, смущать, веселить, печалить. Закрыв глаза, ты будешь знать, что сила света, проникающего сквозь эту малую и рыхлую плошку – веко, сможет вызвать у тебя ощущения, не зависящие ни от твоей воли, ни от состояния. И все же, закрыв глаза, ты сможешь на время вообразить себя слепым. Но ты не сможешь наглухо заткнуть, даже на время, свои уши и вообразить себя глухим, не сможешь не ощущать чего-то – хотя бы воздух своими пальцами,– вообразить себя лишенным осязания, остановить слюну, наполняющую рот, избавиться от ее противного вкуса; задержать тяжелое дыхание, дающее жизнь твоим легким и твоей крови; погрузиться в полусмерть. Ты не перестанешь видеть, слышать, ощущать прикосновение, вкус, запах; будешь вскрикивать, когда в твое тело вопьется игла шприца, вводящего наркотик; закричишь, прежде чем почувствуешь боль. Предчувствие боли дойдет до твоего мозга раньше, чем кожа ощутит боль; дойдет, чтобы предупредить тебя о боли, чтобы ты был готов, чтобы с большей остротой воспринял боль, потому что, когда осознаешь, всегда расслабляешься, всегда превращаешься в жертву, когда понимаешь, что только мы сами можем осознать существование сил, не подчиняющихся нам, не считающихся с нами.
Но вот наконец твои ощущения окажутся сильнее воображаемой боли.
И ты почувствуешь себя раздвоенным – человеком, который воспринимает, и человеком, который действует; человеком чувствующим и человеком действующим, человеком, состоящим из органов, которые передают ощущение миллионам нервных клеток, раздражение к твоей центральной нервной системе, к передней части головного мозга, а он в течение семидесяти одного года будет собирать, накапливать и отдавать краски мира, прикосновения плоти, вкус жизни, запахи земли, шумы ветра – отдавать разуму, всем твоим нервам, мускулам и железам, которые будут направлять твое тело в том мире, где тебе предназначено жить.
Но в твоем полузабытьи нарушится контакт нервных волокон, гармония чувств: ты будешь слышать цвета, чувствовать вкус прикосновений, осязать звуки, видеть запахи, обонять то, что пробуют на язык. Ты раскинешь руки, чтобы не кануть в хаос бездумия, вновь вернуться к прежнему порядку, чтобы приказ, полученный извне, шел до соответствующего участка головного мозга, возвратился обратно и воплотился в поступок, в действие; раскинешь руки и под закрытыми веками увидишь цвета своих мыслей и наконец распознаешь, не видя, источник прикосновений, которые ты слышишь: простыни, шелест простынь под твоими скрюченными пальцами. Распрямишь пальцы, ощутишь пот на ладонях и, может быть, вспомнишь, что при твоем рождении не было на них линий жизни или богатства, жизни или любви. Ты родился, родишься с совсем чистыми ладонями, но достаточно тебе было появиться на свет, чтобы их гладкая поверхность заполнилась вещими знаками и линиями. Ты будешь умирать с глубокими, резкими бороздами на ладонях, но едва умрешь, и через несколько часов всякие следы твоей судьбы сотрутся с твоих рук.
Хаос – у него нет множественного числа.
Приказ, приказ: ты вцепишься пальцами в простыню и молча, про себя воспроизведешь ощущения, которые тебе диктует мозг. Попытаешься мысленно разместить – с большим трудом – точки в своем мозгу, приказывающие тебе испытывать жажду и голод, заставляющие потеть от жары и трястись от холода, стоять или падать. Ты отведешь им второстепенное место в мозгу – этим слугам, этим лакеям, немедленно откликающимся на зов,– освободив главное место мысли, воображению, желанию, порожденным способностями, необходимостью или случаем. Реальный мир не откроется тебе легко и просто. Ты не сможешь познать его, пребывая в бездействии, полагаясь на судьбу. Ты должен будешь мыслить, чтобы сплетение опасностей не сгубило тебя; трезво оценивать реальность, чтобы не действовать наугад, желать, чтобы сомнения не глодали тебя. И ты выживешь, переживешь многих.
Ты признаешь самого себя.
Ты признаешь других и сделаешь так, чтобы они – она – признали тебя; постигнешь, что каждый человек – твой потенциальный недруг, ибо каждый – это еще одно препятствие на пути твоих желаний.
Ты будешь хотеть, чтобы слилось воедино желание и объект желания, будешь мечтать о немедленном достижении цели, о сочетании желательного и желаемого.
Ты будешь лежать с закрытыми глазами, но не перестанешь видеть, не перестанешь желать, вспоминать, потому что только так желанное станет твоим. Назад, назад – только тоскуя о прошлом, ты в силах сделать своим все, что пожелаешь. Нет, не вперед. Только назад.
Воспоминание – это исполненное желание.
Переживи все снова в своей памяти, пока не поздно.
Пока не канешь в хаос бездумия.
( 4 декабря 1913 года )
Он чувствовал на своем бедре влажное колено женщины. Она всегда покрывалась во сне легкой прохладной испариной. Он снял руку с талии Рехины и на пальцах тоже ощутил влажность хрустальных капелек. Протянул руку, ласково, чуть-чуть касаясь, провел но спине и подумал, что спит: часами можно так лежать и тихо гладить спину Рехины. Закрыв глаза, он особенно остро ощутил непостижимую привлекательность юного тела, прижавшегося к нему; подумал, что всей жизни не хватило бы, чтобы обозреть и познать, изучить этот мягкий, извилистый ландшафт с его резкими переходами от розового к черному. Тело Рехины ждало, и он молча, с закрытыми глазами вытянулся на матраце, достав до железных прутьев кровати пальцами рук и ног. Вокруг – темная стеклянная пустота: до утра еще далеко. Легкая москитная сетка отгораживала от целого мира, от всего, не нужного их телам. Он раскрыл глаза. Щека девушки прикоснулась к его щеке, потерлась о колкий подбородок. Тьма уже не была такой густой. В ней, как две черные прорези, блестели продолговатые полуоткрытые глаза Рехины. Он глубоко вздохнул. Руки Рехины соединились на затылке мужчины, лица снова сблизились. Единым огнем полыхнули чресла. Он перевел дух. Спальня, накрахмаленная юбка, блузка, айва на ореховом столике, погашенная лампа. И совсем близко – женщина из морского туфа, влажная и нежная. Ногти по-кошачьи скребли простыню, легкие ноги снова стиснули поясницу мужчины. Губы искали его шею. Грудь радостно колыхнулась, когда он, смеясь, потянулся к ней ртом, раздвинув длинные спутанные волосы. Молчи, Рехина; он прикрыл ей рот рукой, почувствовал рядом ее дыхание. Долой язык и глаза – только немая плоть, отданная наслаждению. Она поняла. Еще теснее прижалась к телу мужчины. Ее руки ласкали его, и он возвращал ласки ей, почти еще девочке, такой юной – он вспомнил,– такой неловкой в своей наготе, когда она стояла неподвижно, и такой гибкой и мягкой, когда двигалась: опускала занавески, мылась, раздувала огонь в жаровне.








