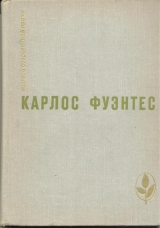
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Карлос Фуэнтес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 34 страниц)
– …если бы нас не убили? Нам нет и тридцати… Что стало бы с нами? Мне еще столько хочется сделать…
Пока наконец он, обливаясь потом, тоже не зашептал прямо в лицо Берналю:
– …все пойдет по-старому, понял? Будет всходить солнце, будут рождаться мальчишки, хотя и ты и я будем трупами, понял?
Мужчины выпустили друг друга из жестких объятий. Берналь рухнул на пол, а он шагнул к двери, приняв решение: дать Сагалю фальшивые сведения, попытаться спасти жизнь яки, предоставить Берналя его собственной судьбе.
Когда капрал, мурлыча себе что-то под нос, вел его к полковнику, он чувствовал, как поднимается в нем утихшая было тоска по Рехине, сладкое и горестное воспоминание, которое таилось где-то на самом дне души, а теперь подступало к сердцу, требуя, чтобы он остался жив,– будто умершая женщина взывала к памяти живого мужчины, чтобы не быть ей только источенным червями телом в безвестной могиле, в безымянной деревне.
– Вам будет трудновато одурачить нас,– оскалился в своей вечной улыбке полковник Сагаль.– Мы тут же вышлем два отряда проверить – так ли вы говорите или нет. А если нас атакуют с другой стороны, вам придется отправиться прямиком на тот свет с мыслью, что вы выиграли несколько часов жизни» но ценой своей чести.
Сагаль вытянул ноги в носках и пошевелил пальцами. Сапоги – уставшие, без шпор – стояли на столе.
– А яки?
– О нем разговора не было. Да, ночь что-то затянулась. Зачем тешить бедняг мечтой о новом рассвете? Капрал Паян!… Давайте-ка отправим тех пленных в лучший мир. Возьмите их из камеры и отведите туда, в патио.
– Яки не может идти,– заметил капрал.
– Дайте ему марихуаны,– осклабился Сагаль.– Да притащите на носилках, а там прислоните как-нибудь к стенке.
Что видели Тобиас и Гонсало Берналь? То же самое, что и капитан, хотя он стоял над ними, рядом с Сагалем, на плоской крыше муниципалитета. Там, внизу, пронесли яки на носилках; прошел, опустив голову, Берналь – обоих поставили у стены между двух керосиновых ламп.
В эту ночь запаздывала утренняя заря. Не вырвала из тьмы силуэты гор и красноватая вспышка громкого ружейного залпа – Берналь едва успел дотронуться рукой до плеча яки. Тобиас так и остался прислоненным к стене – носилки не дали ему упасть. Лампы освещали его лицо, изуродованное пулями, и ноги убитого Гонсало Берналя, по которым текли струйки крови.
– Вот вам ваши покойнички,– сказал Сагаль.
Его слова покрыл оружейный залп, далекий и дружный, к которому тотчас присоединился хриплый голос пушки – угол муниципалитета рухнул. Панические крики вильистов донеслись до плоской белой кровли, где дико взревел Сагаль:
– Уже пришли?! Догнали нас?! Карранкланы?!
И в этот же миг пленник сбил полковника с ног и схватил – вдруг обретшей силу рукой – его кобуру. Пальцы ощутили холод металла. Он приставил револьвер к спине Сагаля, а здоровой рукой стиснул шею полковника и прижал его голову к крыше – от напряжения побелели скулы, на губах выступила пена. Взглянув за карниз, он увидел, что внизу, в просторном патио, где свершилась казнь, царит паника. Солдаты карательного взвода бежали, опрокинув керосиновые лампы, топча тела Тобиаса и Берналя. По всей деревне Пералес слышались разрывы снарядов и выстрелы вперемешку с воплями, треском пылавших построек, цокотом копыт и конским ржанием. Но вот вильисты снова показались в патио, застегивая рубахи, затягивая ремни. В свете факелов бронзой отсвечивали лица, пуговицы, пряжки. Руки хватали ружья и патронташи. Быстро распахнулись двери конюшни; солдаты вывели ржущих коней, оседлали их и выскочили в открытые ворота. Несколько отставших всадников бросились вслед за отрядом, и патио опустел. Остались только трупы Берналя и яки. И две разбитые керосиновые лампы. Вопли удалялись в сторону атаковавшего неприятеля. Пленный отпустил Сагаля. Полковник поднялся на колени, откашлялся, потер посиневшую шею. И прохрипел с трудом:
– Не сдаваться! Я здесь!
Утро приподняло наконец свое голубое веко над равниной.
Шум сражения удалялся. По улицам навстречу врагу скакали вильисты. Их белые рубахи окрашивались в синее. Из патио не доносилось ни звука. Сагаль встал на ноги и начал расстегивать свой сероватый китель, чтобы обнажить грудь. Капитан шагнул к нему с револьвером в руке.
– Мои условия остаются в силе,– бесстрастно сказал он полковнику.
– Пойдем вниз,– сказал Сагаль, опуская руки.
В комнате Сагаль вынул «кольт» из ящика стола.
И они, оба вооруженные, пошли через холодный коридор в патио. Определили середину четырехугольного двора. Полковник оттолкнул ногой голову Берналя. Капитан отшвырнул в сторону керосиновые лампы.
Они разошлись по своим углам. Затем начали сближаться.
Сагаль выстрелил первым – пуля еще раз пробила голову яки Тобиаса, выстрелил и замедлил шаги; его черные глаза осветились надеждой: капитан наступал, не стреляя. Этот поединок – просто акт чести. Секунда, две, три… Надежда перерастала в уверенность, что противник оценит его мужество, что оба встретятся на середине патио без второго выстрела. Оба остановились посреди патио.
Улыбка снова раздвинула губы полковника. Капитан перешагнул невидимую линию. Сагаль, сверкнув зубами, дружески махнул рукой, но в это мгновение два – один за другим – выстрела в живот переломили его пополам, бросили наземь, к ногам Круса. Тот уронил револьвер на потный затылок полковника и продолжал стоять неподвижно, тихо.
Ветер с равнины шевелил жесткие завитки на лбу, рваные полы пропотевшего кителя, обрывки завязок на кожаных крагах. Пятидневная бородка вилась по щекам, зеленые глаза под густыми ресницами влажно блестели.
Он стоит, одинокий герой, на поле боя среди мертвецов. Стоит, окруженный безмолвием, а где-то за деревней кипит сражение под дробный бой барабанов.
Он опустил взгляд. Мертвая рука полковника Сагаля тянулась к мертвой голове Гонсало. Яки сидел у стены, тяжело вдавливаясь спиной в брезент носилок.
Он нагнулся и закрыл полковнику глаза. Затем быстро выпрямился и полной грудью вдохнул воздух, охваченный желанием кого-нибудь увидеть, поблагодарить, воздать за вновь обретенную жизнь и свободу. Но он был один. Ни друзей. Ни свидетелей. Глухое рычание слилось с далеким разрывом шрапнели.
«Я свободен, я свободен».
Он прижал кулаки к желудку, и лицо его исказилось от боли. Поднял глаза вверх и наконец увидел то, что видят приговоренные к казни на рассвете: далекую цепь гор, белесое небо, кирпичные стены патио. Услышал то, что слышат приговоренные к казни на рассвете: голоса невидимых птиц, крик голодного ребенка, стук молотка какого-то деревенского труженика, странно звучащий на фоне монотонного, теряющегося вдали погрохатывания пушек и ружейной пальбы где-то сзади. Безвестный молоток, заглушавший выстрелы, вселял уверенность в том, что и после битв, смертей и побед солнце снова будет светить, всегда…
Я не в силах желать. Пусть делают что хотят. Трогаю свой живот. Веду пальцем от пупа вниз. Округлый. Рыхлый. Черт его знает. Доктор ушел. Сказал, пойдет за другими врачами. Не хочет один отвечать за меня. Черт его знает. А вот и они. Вошли. Открылась и захлопнулась дверь красного дерева, шаги глохнут в топком ковре. Закрыли окна. Шелестя, сдвинулись серые портьеры. Они тут.
– Подойди ближе, детка… Чтобы он тебя узнал… Скажи свое имя.
Хорошо пахнет. От нее хорошо пахнет. Да, я еще могу разглядеть пылающие щеки, яркие глаза, юную гибкую фигурку, робко семенящую к моей постели.
– Я… Я – Глория…
Пытаюсь повторить ее имя. Знаю, что моих слов не разобрать. Хоть за это спасибо Тересе – дала мне побыть рядом с молодостью, рядом со своей дочкой. Если бы только поближе увидеть ее лицо. Увидеть ее улыбку. Она, наверное, чувствует запах мертвеющей плоти, рвоты и крови; наверное, видит эту впалую грудь, серую бороду, восковые уши, нескончаемую струйку из носа, запекшуюся слюну на губах и подбородке, блуждающие глаза, которым надо выдержать ее взгляд; эти…
Ее уводят.
– Бедняжка… Она разволновалась…
– А?
– Нет, ничего, папа, лежи спокойно.
Говорят, она невеста сына Падильи. Он, наверное, ее целует, шепчет всякие глупости и еще краснеет при этом, да. Входят и уходят. Трогают меня за плечо, кивают головами, бормочут ободряющие слова. Да, они не знают, что я их слышу вопреки всему. Я слышу самые тихие разговоры, болтовню в дальних углах комнаты, слова у изголовья.
– Как вы его находите, сеньор Падилья?
– Плохо, плохо.
– Целая империя остается.
– Да.
– А вы – столько лет управляете всеми его делами!
– Трудно будет заменить его.
– Я думаю, после дона Артемио никто, кроме вас, не справится.
– Да, я в курсе дел…
– А кто в таком случае займет ваше место?
– Знающих людей много.
– Следовательно, предвидятся повышения?
– Конечно. Уже намечено новое распределение постов. А, Падилья, подойди. Принес магнитофон?
– Вы берете на себя ответственность?
– Дон Артемио… Вот, я принес…
«– Да, патрон.
– Держитесь наготове. Правительство железной рукой наведет порядок, а вы будьте готовы встать во главе профсоюза.
– Хорошо, патрон.
– Хочу предупредить вас – кое-кто из старых пройдох тоже на это место метит. Но я намекнул властям, что именно вы пользуетесь нашим доверием. Угощайтесь.
– Спасибо, я уже ел. Недавно.
– Смотрите, чтобы вас самого не съели. Сворачивайте, пока не поздно, на другую дорожку – к Министерству труда, к КТМ [33] , к нам…
– Понятно, патрон. Можете на меня рассчитывать.
– Всего лучшего, Кампанела. Темните, но осторожно. Глядите в оба. Ну, Падилья…»
Вот и кончилось. Да. Это все. Все? Кто его знает. Не помню. Я уже давно не слушаю магнитофон. Но делаю вид, что слушаю. Кто это меня трогает? Кто это возле меня? Не нужно, Каталина. Повторяю про себя: не нужно, напрасная нежность. Спрашиваю про себя: что ты мне можешь сказать? Думаешь, нашла наконец слова, которые всегда страшилась произнести? Ты меня любила? Чего же мы молчали? Я любил тебя. Уже не помню. Твоя ласка заставляет меня взглянуть на тебя, но я не знаю, не могу понять, зачем тебе надо теперь делить со мной это воспоминание и почему на этот раз нет упрека в твоих глазах. Гордость или спесь. Она нас спасла. Она нас погубила.
– …за ничтожное жалованье, и еще позорит нас своей связью с этой женщиной, тычет нам в нос наш комфорт; дает какую-то мелочь, словно мы нищие…
Они ничего не поняли. Я не хотел им зла. Они для меня – нуль. Я делал это для себя. Меня не интересует их болтовня. Меня не интересует жизнь Тересы и Херардо. Черт с ними.
– Почему ты не требуешь, чтобы он дал тебе хорошее место Херардо? Ты так же отвечаешь за все, как и он…
Наплевать на них.
– Успокойся, Тересита, и пойми меня, я ни на что не претендую.
– Хоть бы капля характера, даже этого нет…
– Тише, не тревожьте его.
– Тоже защитница! Тебя-то он больше всех заставлял страдать…
Я выжил, Рехина. Как тебя звали? Нет. Ты – Рехина. Как звали тебя, безымянный солдат? Гонсало. Гонсало Берналь. Индеец яки. Бедняга яки. Я выжил. Вы умерли.
– …И меня тоже. Я ему никогда не забуду -даже на свадьбу не явился, на свадьбу собственной дочери…
Никогда они ничего не понимали. Они мне не были нужны. Я пробивался один. Солдат. Яки. Рехина. Гонсало.
– Даже то, что любил, он уничтожил, мама, ты же знаешь,
– Молчи. Ради бога молчи…
Завещание? Не беспокойтесь. Существует письменный документ, с печатью, заверенный нотариусом. Я никого не забыл. Зачем мне забывать их, ненавидеть? Разве они не отблагодарят меня в глубине души? И разве сами не получат удовольствия при мысли, что до последнего вздоха я думал о них, хотя бы для того, чтоб подшутить над ними? Нет, я вспомнил о вас казенными словами завещания, дорогая моя Каталина, любимая дочь, внучка, зять. Я наделяю вас удивительным богатством, и вы во всеуслышание отдадите должное моему труду, моему упорству, моему чувству ответственности, моим достоинствам. Делайте так. И спите спокойно. Забудьте, что богатство я накопил, невольно рискуя собственной шкурой в борьбе, в суть которой не хотел вникать, потому что меня не устраивало понимать ее, потому что понимать ее и разбираться в ней мог только тот, кто ничего не ждал взамен принесенной жертвы. Ведь это самопожертвование – верно? – отдать все, не получив взамен ничего. А как же называется, когда отдаешь все и взамен получаешь все? Но они не предложили мне всего. А она предложила. Я не взял, не умел взять. Как же это называется?…
«– О. К. The picture's clear enough. Say, the oнd boy at the Embassy wants to make a speech comparing this Cuban mess with the oldtime Mexican revolution. Why don't you prepare the climate with an editorial?… [34]
– Хорошо. Можно. Тысяч за двадцать.
– Seems fair enough. Any ideas? [35]
– Да. Скажите ему, чтобы он подчеркнул принципиальную разницу между анархическим и кровавым движением, которое уничтожает частную собственность вместе с правами человека, и революцией упорядоченной, мирной и легальной, то есть революцией мексиканской, которую направляли средние слои я вдохновляли идеи Джефферсона. В конечном итоге у народа короткая память. Скажите ему, чтобы нас похвалил.
– Fine. So long, Mr. Cruz, it's always… [36]
Ox, как долбят мою усталую голову все эти слова, определения, намеки. Какая скука. Нет, они не поймут моего жеста, я еле могу шевельнуть пальцем, хоть бы уж выключили. Надоело мне. Не к чему и нудно, нудно…
– Именем отца, сына…
– Тем утром я ждал его с радостью. Мы переправились через реку на лошадях.
– Почему ты отнял его у меня?
Я завещаю вам никому не нужные смерти, мертвые имена, имена Рехины, яки… Тобиаса… Вспомнил, его звали Тобиас… Гонсало Берналя, безымянного солдата. А ту, другую? Другая.
– Откройте окно.
– Нет. Можешь простудиться, и будет хуже. Лаура. Почему? Почему все так произошло? Почему?
Ты выживешь. Будешь лежать в постели и знать, что выжил наперекор течению времени, которое с каждой минутой укорачивает твою жизнь. А линия жизни пролегает где-то между параличом и буйством. Кто знает? Ты решишь, что лучший способ выжить – больше не двигаться. Ты сочтешь неподвижность лучшей защитой от опасностей, от случайностей, от сомнений. Но твое спокойствие не остановит времени, бегущего помимо твоей воли, хотя ты сам его придумал и ведешь ему счет. Не остановится время, отрицающее твою неподвижность, таящее для тебя угрозу собственного истечения. Безрассудный смельчак, ты станешь измерять бег своей жизни временем, временем, которое ты выдумаешь, чтобы жить дольше, чтобы создать иллюзию более длительного пребывания на земле. Твой разум породит время, постигнув чередование света тьмы на циферблате сна и бодрствования; познав смену картин природы, когда за громадами темных туч следует гром, сверкает молния, грохочет ливень, спокойно обнимает небо радуга; поняв звуки времени: вопли военного времени, стоны траурного времени, крики праздничного времени, весенние призывы лесных зверей; признав, что время может говорить и думать, несуществующее время вселенной, которая не знает времени, потому что оно никогда не начиналось и никогда не кончится, не имеет ни конца ни начала, не ведает, что ты изобрел меру бесконечности, прибежище здравого смысла.
Ты придумаешь и станешь отсчитывать несуществующее время.
Ты многое узнаешь, изведаешь, оценишь, подсчитаешь, представишь себе, предусмотришь и в конце концов вообразишь, что не существует никакой другой действительности, кроме той, которая создана тобою; ты научишься управлять своей силой, чтобы побеждать врагов; ты научишься добывать трением огонь, потому что тебе надо будет кидать горящие головни ко входу своей пещеры и отгонять хищников, которые не станут разбираться, кто ты таков и чем твое мясо отличается от мяса других животных; ты построишь тысячи крепостей, издашь тысячи законов, напишешь тысячи книг, поклонишься тысячам богов, нарисуешь тысячи картин, создашь тысячи механизмов, покоришь тысячи городов, расщепишь тысячи атомов, чтобы снова кидать горящие головни ко входу пещеры.
И ты сделаешь все это, ибо ты мыслишь, ибо разовьешь свой мозг и нервную систему – эту густую сеть, способную воспринимать информацию и посылать сигналы. Ты выживешь не из-за своей силы, а по неведомой прихоти природы: в условиях страшного холода выживут только те организмы, которые смогут сохранять постоянную температуру тела независимо от окружающей среды; те, у кого разовьется мозг и кто сумеет оберегать себя от опасности, находить пищу, соразмерять свои движения и плавать в океане, в этом огромном, обильном источнике жизни. Много их, не выживших и погибших, останется на дне морском – твои собратья, миллионы твоих собратьев так и не вынырнут на поверхность со своими пятью звездчатыми щупальцами, со своими пятью пальцами, хватающимися за берег, за твердую землю, за острова утренней зари. Ты вынырнешь вместе с амебами, со странными существами – то ли рептилиями, то ли птицами. Они будут бросаться с первозданных вершин в первозданные пропасти, учась летать, а когда научатся, земля станет остывать. Ты выживешь – вместе с птицами, одетыми в перья, согреваемыми своей быстрой кровью, а холоднокровные рептилии уснут, остынут и наконец погибнут. Но ты уцепиться когтями за твердую землю, за острова утренней зари и будешь, потея, как лошадь, карабкаться по деревьям, сохраняя постоянную температуру тела, а потом спустишься на землю – со своими дифференцированными мозговыми клетками, со своими автоматизированными жизненными функциями, со своими составными элементами: водородом, сахаром, кальцием, водой, кислородом… Готовый мыслить, отвлекаясь от сиюминутных желаний и потребностей. Ты претерпишь процесс дальнейшей эволюции и станешь – со всеми своими десятью миллиардами мозговых клеток, с целой электрической батареей в голове, чуткой и переменчивой, – что-то искать, удовлетворять свое любопытство, ставить перед собой задачи, разрешать их с наименьшей затратой сил, избегать трудностей, предугадывать, изучать, забывать, вспоминать, сопоставлять идеи, различать формы, определять то, что остается за пределами необходимости; подавлять свое влечение и антипатию, искать наиболее благоприятные для себя условия, предъявлять к реальности минимальные требования, втайне желая для себя максимальных благ и не падая духом при этом от бесконечных неудач.
Ты приучишь себя приноравливаться к требованиям общества;
Ты будешь желать, чтобы между желательным и желанным fie было разницы; мечтать о немедленном достижении цели, о полном совпадении желанного и желательного;
Ты захочешь признать самого себя, признать других и добиться их признания; постигнешь, что каждый человек – твой потенциальный недруг, ибо каждый – препятствие на пути достижения твоих желаний;
Ты будешь выбирать, чтобы выжить, ты будешь выбирать и выберешь среди бесконечных зеркал одно-единственное, одно зеркало, которое раз навсегда отразит тебя, затмив другие зеркала, и ты отбросишь их, даже не взглянув, эти другие бесконечные пути, открытые перед тобой;
Ты решишь и выберешь один путь, жертвуя остальными; ты пожертвуешь собой при выборе и больше никогда не сможешь стать ни одним из тех, кем бы мог быть; захочешь, чтобы другие люди – другой человек – прожили за тебя жизнь, ту, что ты искалечил, выбрав: выбрав или допустив, чтобы не твое желание, означающее твою свободу, повело тебя, а твой расчет, твой страх, твоя ложная гордость;
Ты испугаешься любви в тот день;
Но ты сможешь возместить утрату: будешь лежать с закрытыми глазами и не перестанешь видеть, не перестанешь желать, потому что только так желанное станет твоим.
Воспоминание – это исполненное желание… теперь, когда твоя жизнь и твоя судьба – одно и то же.
( 12 августа 1934 года )
Он взял спичку, чиркнул ею о коробок, посмотрел на пламя и поднес его к.кончику сигареты. Закрыл глаза. Затянулся дымом. Откинулся на спинку бархатного кресла, вытянув ноги; погладил свободной рукой бархат и вдохнул аромат хризантем, стоявших на столе в хрустальной вазе за его спиной. Прислушался к неторопливой мелодии, лившейся из проигрывателя,– тоже за спиной.
– Я уже почти готова.
Он пощупал свободной рукой открытый альбом с пластинками, лежавший на маленьком ореховом столике справа от него. Взглянул на картонный переплет, прочитал надпись «Grammophongesellschaft» [37] и снова прислушался: торжественно запела виолончель – все отчетливее, все мощнее, голос ее почти заглушил скрипки, которые зазвучали тихим аккомпанементом. Он перестал слушать. Поправил галстук и несколько секунд поглаживал шероховатый шелк, чуть скрипевший под пальцами.
– Тебе приготовить что-нибудь?
Он подошел к низкому столику на колесах, где стояло множество бутылок и бокалов, взял бутылку шотландского виски и бокал из толстого богемского стекла, налил немного виски, бросил кусочек льда и добавил воды.
– То же, что себе.
Он наполнил второй бокал, чокнул его о свой, взболтал содержимое и подошел с двумя бокалами к двери спальни.
– Одну минуту.
– Ты поставила это для меня?
– Да. Ты помнишь?
– Да.
– Прости, что я так долго.
Он опять сел в кресло. Снова взял альбом и положил себе на колени. «Werke von Georg Friedrich Handel» [38] . Тогда они слушали оба концерта Генделя в очень душном зале. Случайно их места оказались рядом, и она услышала, как он жаловался – по-испански – своему приятелю на то, что в зале слишком жарко. Он попросил у нее – по-английски – программку, а она улыбнулась и ответила по-испански: «С удовольствием». Оба улыбнулись. «Кончерто Гроссо, опус б».
Они условились встретиться в следующем месяце – когда оба опять будут в этом городе – в кафе на рю Комартэн, возле бульвара Капуцинов. Он затем посетил это кафе через несколько лет, но уже без нее и без всякой уверенности, что это именно оно. А ему так хотелось снова выпить того же самого ликера, снова увидеть то кафе – в красно-коричневых тонах, с римскими креслами и длинной стойкой из красноватого дерева, не на свежем воздухе, но просторное, без дверей. Они выпили мятного ликера с водой. Он заказал еще. Она сказала, что сентябрь – лучший месяц, особенно конец сентября и начало октября. Бабье лето. Снова пора отдыха. Он расплатился. Она взяла его под руку, смеясь, часто дыша. Они прошли через дворики Пале-Рояля, бродили по галереям, наступая на первые мертвые листья, вспугивая голубей. А потом зашли в ресторан с маленькими столиками, бархатными креслицами и зеркальными разрисованными стенами – старинная роспись, старинная глазурь с золотом, синью и сепией.
– Я готова. Он посмотрел через плечо – она выходила из спальни,
вдевая серьги в уши, поправляя рукой гладкие волосы цвета меда. Он протянул ей приготовленное виски, она сделала маленький глоток, поморщилась и села в красное кресло, закинула ногу на ногу и поднесла бокал к глазам. Он повторил ее жест и улыбнулся; она смахнула пылинку с отворота своего черного платья. Клавесин, сопровождаемый скрипками, вел основной мотив в музыкальном нисхождении: он воспринимал это нисхождение как спуск с высоты, а не как движение вперед,– легкий, неуловимый спуск, который, закончившись на земле, превращался в ликующий контрапункт низких и высоких скрипичных голосов. Клавесин как бы служил крыльями, чтобы спуститься на землю. Теперь, на земле, музыка танцевала. Они смотрели друг на друга.
– Лаура… Она погрозила пальцем, и оба продолжали слушать; она -
сидя с бокалом в руках, он – стоя, вращая вокруг оси астрономический глобус. Иногда он придерживал глобус, чтобы рассмотреть фигуры, намеченные серебряным пунктиром над условным контуром созвездий; Единорог, Щит, Гончие Псы, Рыбы, Жертвенник, Центавр.
Игла заскользила по умолкшему диску; он подошел к проигрывателю, остановил пластинку, отвел звукосниматель.
– У тебя хорошая квартира.
– Да. Очень мила. Только не удалось разместить здесь все вещи.
– Хорошая квартира.
– Пришлось снять помещение для лишней мебели.
– Если бы ты хотела, ты могла бы…
– Спасибо,– сказала она смеясь.– Если бы я только этого и хотела: жить в большом доме, я бы из него не уехала.
– Хочешь еще послушать музыку или пойдем?
– Сначала допьем.
Они как– то остановились у одной картины; она сказала, что картина ей очень нравится и что она часто приходит посмотреть на нее, потому что эти замершие поезда, этот голубой дым, эти огромные сине-охровые дома в глубине, эта ужасная -из железа и мутных стекол – крыша вокзала Сен-Лазар, эти неясные, едва намеченные фигуры, написанные Моне, ей очень нравятся, как и все в этом городе, где детали, пожалуй, не очень красивы, но все вместе неотразимо. Он заметил, что это – мысль, а она засмеялась, ласково погладила его по руке и сказала, что он прав, что ей просто все нравится, все тут нравится, все радует. А несколько лет спустя он снова увидел ту же самую картину, выставленную в салоне Же-де-Пом, и гид-специалист сказал ему, что стоит обратить на нее внимание: за тридцать лет картина стала в четыре раза дороже и оценена теперь в несколько тысяч долларов; стоит обратить внимание.
Он подошел, стал позади Лауры, погладил спинку кресла и положил руки ей на плечи. Она склонила голову набок и потерлась щекой о его пальцы, усмехнулась, чуть подалась вперед и пригубила из бокала. Закрыв глаза, откинула голову назад и, немного посмаковав, проглотила виски.
– Мы могли бы снова съездить туда в будущем году. Не правда ли?
– Да, могли бы.
– Я часто вспоминаю, как мы бродили по улицам.
– Я тоже. Ты никогда не был в Гринвич-Вилледже, а я тебя туда привела.
– Да, могли бы снова съездить.
– Есть какая-то жизненная сила в этом городе. Помнишь? Ты не мог отличить запах реки от запаха моря, когда они доносились вместе. Ты их не различал. Мы шли к Гудзону и закрывали глаза, чтобы их распознать.
Он взял руку Лауры, стал целовать пальцы. Зазвонил телефон. Он шагнул к трубке, поднял ее и услышал голос, повторявший: «Алло… Алло? Лаура?»
Он прикрыл черную трубку рукой и передал Лауре. Она поставила бокал на столик и подошла к телефону.
– Да?
– Лаура, это я, Каталина.
– Да. Как поживаешь?
– Я тебе не помешала?
– Я собиралась уйти.
– Ничего, я не отниму у тебя много времени.
– Слушаю.
– Я тебя не задерживаю?
– Нет-нет, пожалуйста.
– Кажется, я сделала глупость. Надо было позвонить тебе.
– Да?
– Да, да. Я должна была купить у тебя софу. Я поняла это только сейчас, когда надо обставлять новый дом. Помнишь ту расшитую софу? Знаешь, она очень подошла бы к моей передней – я купила гобелены, чтобы украсить переднюю, и думаю, что туда может подойти только твоя софа с ручной вышивкой…
– Не уверена. Думаю, там слишком много вышивки.
– Нет, нет, нет. Мои гобелены темного цвета, а твоя софа – светлая. Чудесный контраст.
– Но видишь ли, эту софу я поставила здесь, в квартире.
– Ну не упрямься. У тебя и так слишком много мебели. Ты сама мне сказала, что поставила больше половины в сарай. Говорила ведь, правда?
– Да, но я так обставила комнату, что…
– Все-таки подумай. Когда придешь посмотреть наш дом?
– Когда хочешь.
– Нет-нет, давай договоримся определенно. Назови день – выпьем чашечку чая и поболтаем.
– В пятницу?
– Нет, в пятницу я не могу, лучше в четверг.
– Хорошо, в четверг.
– Но знаешь, без твоей софы пропадет вся передняя. Тогда лучше вообще обойтись без нее, понимаешь? Совсем пропадет. Маленькую квартиру легче обставить. Сама увидишь.
– Значит, в четверг.
– Да, я видела на улице твоего мужа. Он очень любезно со мной поздоровался. Лаура, грех, просто грех, что вы собираетесь разводиться. По-моему, он необычайно красив. И видно, тебя любит. Как же так, Лаура, как же так?
– Это уже дело прошлое.
– Значит, в четверг. Будем одни, наговоримся вдоволь.
– Да, Каталина. До четверга.
– Будь здорова.
Он как– то пригласил ее потанцевать, и они направились через все уставленные пальмами салоны отеля «Плаза» в зал. Он обнял ее, а она сжала большие мужские пальцы и, ощутив тепло его ладони, склонила голову к плечу партнера. Потом чуть отстранилась и глядела на него не отрываясь, так же как и он на нее: прямо в глаза, прямо в глаза друг другу, она -в зеленые, он – в серые. Глядели и глядели, одни в танцевальном зале, наедине с оркестром, игравшим медленный блюз, глядели, обнявшись за талию, сплетя пальцы, медленно кружась, только чуть колыхалась ее юбка с воланами, юбка…
Она положила трубку, посмотрела на него, секунду помедлила. Потом подошла к вышитой софе; провела рукой по спинке и снова посмотрела на него.
– Будь добр, зажги свет. Там, около тебя. Спасибо.
– Она ничего не знает.
Лаура отошла от софы и снова посмотрела на него.
– Нет, так слишком ярко. Я еще не нашла правильного освещения. Одно дело освещать большой дом, а другое…
Она вдруг почувствовала усталость, села на софу, взяла с соседнего столика маленькую книжку в кожаном переплете и стала ее перелистывать. Откинув в сторону копну медовых волос, закрывших половину лица, приблизила страницу к свету лампы и начала тихо читать вслух, высоко подняв брови и скорбно шевеля губами. Прочитала, закрыла книгу и сказала: – Кальдерон де ла Барка,– повторила на память, глядя на него: – Или уже никогда не наступит день счастья? Боже, скажи, для чего сотворил ты цветы, если нельзя насладиться их сладостным запахом, их ароматом…
Она вытянулась на софе, закрыв руками глаза, машинально повторяя упавшим, безразличным голосом: – Если нельзя их услышать?… Если нельзя их увидеть?…– и почувствовала на своей шее его руку, трогавшую жемчужины, живые и теплые.
– Я тебя не принуждал…
– Нет, ты тут ни при чем. Все началось гораздо раньше.
– Почему же так вышло?
– Может быть, потому, что я слишком высокого мнения о себе… Но думаю, я имею право на иное отношение… на то, чтобы быть не вещью, а человеком…
– А со мной?…
– Не знаю. Мне тридцать пять лет. Трудно начинать заново, разве только с настоящим другом… Мы в тот вечер говорили об этом. Помнишь?
– В Нью-Йорке.
– Да. Мы говорили о том, что должны узнать друг друга… что опаснее закрыть двери, чем открыть их… Разве ты еще не узнал меня?
– Ты никогда ничего не говоришь. Никогда ни о чем не просишь.
– А должна была бы? Почему?
– Не знаю…
– Не знаешь. И будешь знать, только если я тебе растолкую…
– Возможно.
– Я люблю тебя. Ты сказал, что любишь меня. Нет, ты не хочешь понять… Дай сигарету.
Он достал из кармана пиджака портсигар. Вынул спичку, зажег. Лаура взяла в рот сигарету, сняла двумя пальцами приставший к губе кусочек бумаги, скатала его в крошечный комочек, тихонько отбросила и выжидающе помолчала. Он смотрел на нее.
– Теперь я, наверное, возобновлю свои занятия. Еще в юности я хотела стать художницей. Потом все забросила.
– Мы никуда не пойдем?
Она сняла туфли, положила голову на подушку. К потолку поплыли колечки дыма.








