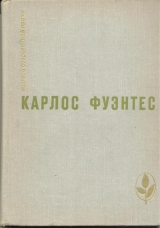
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Карлос Фуэнтес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 34 страниц)
– Да. Немного. Положи себе.
– Нет, мне не хочется мороженого… Пойду вздремну после обеда.
У отеля Лилия помахала ему на прощание пальчиками, а он пересек аллею и попросил мальчика поставить шезлонг в тени пальм. Сигарета никак не зажигалась: беспокойный ветерок взбалтывал жаркий воздух, гасил спичку. Несколько молодых пар отдыхали неподалеку, одни – обнявшись и переплетя ноги, другие – накрыв головы полотенцем. Ему захотелось, чтобы Лилия спустилась вниз и положила голову ему на колени, худые и жесткие под фланелью брюк. Он страдал, чувствуя себя то ли уязвленным, то ли обиженным. Страдал при мысли о тайне любви, к которой не мог приобщиться. Страдал при воспоминании о быстром и безмолвном сговоре, в который они вступили на его глазах, не делая ничего предосудительного, если говорить вообще, но в присутствии этого человека, забившегося в кресло, спрятавшегося под козырьком, за темными очками…
Одна из девушек, лежавших на пляже, томно потянулась, подняла руку и стала сыпать – тонкой струйкой – песок на шею своему другу. И тут же вскрикнула, когда парень вскочил, прикинувшись разозленным, и схватил ее за талию. Оба покатились по песку, она вскочила и побежала; парень нагнал ее, задыхавшуюся, возбужденную, и на руках понес в море.
Он снял свои итальянские туфли и зарыл ноги в горячий песок. Пройти бы по всему пляжу, до конца, одному. Пошагать бы, глядя себе под ноги, не замечая, как прибой стирает следы – единственное и мимолетное подтверждение того, что он здесь прошел.
Солнце уже стояло прямо перед глазами.
Любовники вышли из воды. Куда делся игривый задор, с каким они ринулись в море,– оба молча брели, обнявшись.
Парень был явно смущен, потому что не заметил, как долго длилась их любовная игра – почти на виду у всего пляжа, хотя и скрытая посеребренной простыней вечернего моря,– девушка тоже не поднимала глаз. Красавица, смуглая и молодая… Молодая. Они снова улеглись совсем близко от него, накрыли головы одним полотенцем. И ленивый тропический вечер тоже стал потихоньку их укрывать. Негр начал собирать шезлонги, выданные на прокат.
Он встал и пошел к отелю. Прежде чем подняться к себе, решил освежиться в бассейне. Вошел в раздевальню рядом с душевой кабиной и, сев на скамейку, стал снимать туфли. Железные шкафы, где хранилась одежда купальщиков, скрывали его от любопытных взоров. Сзади послышалось шлепанье мокрых ног по резиновым коврикам, смеющиеся голоса, шорох полотенец, растирающих тело. Он скинул рубашку. Из соседней кабины доносился запах пота, крепкого табака и одеколона. К потолку Поднимались кольца дыма.
– Что-то не видно сегодня красавицы с этим чудищем.
– Да, не видно.
– А хороша девчонка…
– М-да. Старый хрыч едва ли ей в удовольствие.
– Того и гляди удар хватит.
– Вот-вот. Ну поторапливайся.
Они ушли. Он надел туфли и, натянув рубашку, вышел. Поднялся в номер. Открыл дверь. Удивляться нечему. Смятая после сьесты постель, а Лилии и след простыл. Он стоял посреди комнаты. Конвульсивно дергался вентилятор – как пойманный сопилоте [86] . Снаружи, на террасе,– опять ночь, с цикадами и светлячками. Опять ночь. Он прикрыл окно, вдохнул еще стоявший в комнате запах: духи, крем, пот, мокрое полотенце. Нет, не то. Слегка вдавленная подушка – вот сад, плоды, влажная земля, море. Он медленно подошел к шкафу, откуда она… Взял в руки шелковый бюстгальтер, приложил к щеке. Отросшая за день борода скребла шелк. Надо привести себя в порядок. Надо принять душ, еще раз побриться. Для этой ночи. Он отшвырнул бюстгальтер и, снова в хорошем настроении, направился бодрым шагом к ванной.
Зажег свет. Отвернув кран, пустил горячую воду. Бросил рубашку на крышку унитаза. Открыл аптечку. Вот они, эти вещи, их общие вещи. Тюбики с зубной пастой, мятный крем для бритья, черепаховые гребни, кольдкрем, тюбик с аспирином, таблетки от изжоги, гигиенические тампоны, лавандовая вода, голубые лезвия для бритья, бриолин, румяна, сосудорасширяющие средства, пузырек с желтой жидкостью для полоскания горла, презервативы, раствор магнезии, липкий пластырь, пузырек с йодом, флакон шампуня, щипчики, ножницы для ногтей, губная помада, капли для глаз, эвкалиптовая мазь от насморка, микстура от кашля, дезодоратор.
Он взял бритву. Из нее торчали жесткие рыжеватые волоски, набившиеся под лезвие. Он застыл на минуту с бритвой в руках. Поднес ее к губам и невольно закрыл глаза. Когда открыл их снова, ему ухмыльнулся из зеркала старик с красными глазами, серыми скулами, синюшными губами – совсем не похожий на то издавна знакомое отражение.
Я их вижу. Они вошли. Открылась и захлопнулась дверь красного дерева, шаги глохнут в топком ковре. Они закрыли окна. Шелестя, сдвинулись серые портьеры. Мне хотелось бы попросить их раскрыть, раскрыть окна. Там, снаружи,– весь мир. Там – ветер с высокого плоскогорья, треплющий черные тонкие деревца. Надо дышать… Они вошли.
– Подойди ближе, девочка, чтобы он тебя узнал. Скажи свое имя.
Хорошо пахнет. От нее хорошо пахнет. Да, я еще могу разглядеть пылающие щеки, яркие глаза, юную гибкую фигурку, робко идущую к моей постели.
– Я… Я – Глория…
– Тем утром я ждал его с радостью. Мы переправились через реку на лошадях.
– Видишь, чем это кончается? Видишь? Как мой брат. Он тем же кончил.
– Тебе от этого легче? Ну и хорошо.
– Ego te absolvo…
Звонко и сладко хрустят новые банкноты и боны в руках такого человека, как я. Плавно трогается роскошный лимузин, сделанный по специальному заказу – с устройством для кондиционирования воздуха, с миниатюрным баром, с телефоном, с подушками под спину и скамеечками для ног… Ну, святой отец, каково? Там, наверху, тоже так? Небо – это власть над людьми, над бесчисленными массами людей, чьих лиц не различить, имен не запомнить: тысячи их фамилий в списках на рудниках, на фабриках, в газете. Неизвестные люди, присылающие мне поздравление в день именин; прячущие глаза под козырьком каски, когда я посещаю шахты; почтительно склоняющие голову, когда я объезжаю поместья; рисующие на меня карикатуры в оппозиционных журналах. Не так ли? Да, такое небо существует; да, и оно – мое. И это значит быть богом?
Быть тем, кого боятся и ненавидят? Да, это значит быть истинным богом. Теперь скажите, как мне спасти все это, и я позволю вам проделать все церемонии, буду бить себя в грудь, доползу на коленях до Иерусалима, выпью уксус и надену терновый венец. Скажите мне, как все это спасти, потому что во имя…
– …сына и святого духа, аминь…
Знай бубнит свое, стоя на коленях, этот чистюля. Хочу повернуться к нему спиной. Боль под ребром не дает. О-ох. Пройдет. Отпустит. Хочется спать. Опять подкатывает боль. Опять. О-хо-хо. И женщины. Нет, не эти. Женщины. Любящие. Что? Да. Нет. Не знаю. Забыл лицо. Забыл. Оно было моим, о боже, как можно забыть.
«– Падилья… Падилья… Вызовите ко мне шефа информационного отдела и репортера из отдела светской хроники».
Твой голос, Падилья; гулкий отзвук твоего голоса сквозь шипенье…
«– Сейчас, дон Артемио. Дон Артемио, есть дело, весьма срочное. Индейцы не работают. Требуют, чтобы им уплатили деньги за рубку вашего леса.
– Да? И сколько же?
– Полмиллиона.
– И все? Передайте эхидальному комиссару, чтобы навел там порядок – за то и плачу ему. Этого еще не хватало…
– Там, в приемной, Мена. Что ему сказать?
– Пусть войдет».
Эх, Падилья, не могу я открыть глаза и увидеть тебя, но могу разглядеть твои думы под скорбной маской: мол, корчится в агонии человек, зовущийся Артемио Крусом, только и всего. Артемио Крусом. Умирает этот человек, да? Вот и все. Судьба пока дает отсрочку другим смертям. Сейчас умирает только Артемио Крус. И эта смерть отодвинула чью-то другую, может, твою, Падилья… Хм… Нет. У меня еще есть тут дела. Не торопитесь, не…
– Я говорила тебе, он притворяется.
– Оставь его в покое.
– Говорю, он просто издевается над нами!
Я вижу их издали. Их пальцы поспешно вскрывают двойное дно, с благоговением шарят внутри. Ничего нет. Но я уже шевелю рукой, указывая на дубовую громаду, на гардероб, занимающий всю левую стену спальни. Они кидаются туда, распахивают дверцы, ощупывают все костюмы на вешалках – голубые, в полоску, двубортные, из ирландской шерсти, – забыв, что это не моя одежда, что мои вещи остались в моем доме.
Передвигают впопыхах все вешалки. А я в это время даю им понять, с великим трудом приподняв обе руки, что документ, наверное, лежит во внутреннем правом кармане какого-нибудь пиджака. Волнение Каталины и Тересы доходит до предела. Они в исступлении переворачивают все вверх дном, швыряют на ковер один пиджак за другим, пока наконец не завершают обыск и не оборачиваются ко мне. Я придаю лицу самое серьезное выражение. С трудом дышу, опершись на баррикаду подушек, но не теряю из виду ни одной мелочи. Взгляд мой, должно быть, остер и алчен. Рукой подзываю их к себе:
– Вспоминаю… В ботинке… Да, да, там…
Стоит посмотреть на них, елозящих на четвереньках возле груды пиджаков и брюк, трясущих толстыми бедрами, нацеливающих на меня свои зады, непристойно сопящих над моими башмаками. Горькое удовлетворение влагой застилает мне глаза. Кладу руки на грудь и опускаю веки.
– Рехина…
Возмущенный шепот и возня обеих женщин теряются где-то во тьме. Двигаю губами, чтобы произнести то имя. Уже недолго осталось вспоминать, вспоминать то, что люблю… Рехина…
«– Падилья… Послушайте, Падилья… Хотелось бы съесть что-нибудь легкое… Желудок побаливает. Пойдемте со мной, когда закончу…»
Да. Отбираешь, создаешь, делаешь, защищаешь, продолжаешь – только и всего… Я…
«– Да, до скорого свидания. Мое почтение.
– Вы ловко распорядились, сеньор. Их легко приструнить.
– Нет, Падилья, не так легко. Подайте мне то блюдо… То, с сандвичами… Я видел этих людей в действии. Если они решаются, их трудно остановить…»
Как это пелось в песне? Всю землю отобрали, отняли землю власти, и я потопал к югу; но без тебя нет счастья, и не к отцу, не к другу – к тебе вернулся, к счастью…
«– …поэтому и надо действовать теперь, когда недовольство против нас только рождается. Надо подрубить их под самый корень. Они неорганизованны и идут на все ради всего. Берите, берите сандвич, хватит на двоих…
– Зря они лезут…»
У меня есть пара пистолетов с рукоятками из слоновой кости, чтобы всадить пулю в тех, с железной дороги… Мак это поется… Мой Хуан, например: если имеет он пару сапог, думаешь – он офицер? Никак нет – он бедняга, рабочий с железных дорог.
«– Нет, не зря, если знают зачем. Но они не знают. Впрочем, вы ведь когда-то, в младенчестве, были марксистом, должны лучше знать. Вам-то не мешает побаиваться нынешних событии. Мне уже нечего…
– Там ждет Кампанела».
Что они сказали? Чего ты хотел? Кровоизлияние? Грыжа? Кишечная непроходимость? Прободение? Заворот? Колики?
А, Падилья, мне надо схватиться за пуговицу,– ты тут как тут, Падилья. Но я тебя не вижу, потому что глаза мои закрыты; потому что я уже не доверяю этой трухлявой штуке – своей глазной сетчатке: вдруг веки поднимутся, а глаза уже ничего не воспримут, ничего не передадут в мозг? Что тогда?
– Откройте окно.
– Я во всем обвиняю тебя. Как и мой брат. – Да.
Ты не узнаешь, не сможешь понять, зачем Каталине, сидящей возле тебя, надо вмешиваться в это воспоминание, в это твое воспоминание, оттесняющее все остальные. Почему ты – здесь, а Лоренсо – там? О чем она хочет напомнить? О тебе и Гонсало в этой тюрьме? О Лоренсо без тебя в тех горах? И ты не поймешь, не сможешь ясно представить себе – кто был кем в тот последний день его жизни: был ли ты он или он был ты, прожил ли ты тот день с ним, без него, вместо него или он– вместо тебя? Станешь вспоминать. Да, в тот последний день вы были там вместе. И тогда еще не возникал вопрос – кому жить за другого. Вы были вместе. Сын спросил тебя, не поехать ли вместе верхом на лошадях к морю. Спросил, где будет привал на обед, и сказал тебе… скажет: «Вперед, отец» – и улыбнется, взмахнет рукой с ружьем и пустит коня вброд через реку, выпрямив голую спину, держа над головой ружье и брезентовый ранец. Ее там не будет. Каталина не сможет вспомнить об этом. Потому именно об этом постараешься вспомнить ты, чтобы забыть то, о чем она сейчас хочет тебе напомнить. Она будет жить уединенно и очень взволнуется, узнав, что сын заедет на несколько дней в Мехико, проститься. Только бы заехал проститься. Она верит в него. Но он не сделает этого. Сядет на пароход в Веракрусе и уедет. Уедет. Она должна вспомнить свою спальню, царство сна, хотя весенний воздух вливается через открытые двери балкона. Ей вспомнятся раздельные комнаты, раздельное ложе, шелковые подушки и скомканные простыни в раздельных комнатах, примятые перины, хранящие очертания тех, кто спит в этих постелях. Но она никогда не сможет вспомнить о лоснящемся конском крупе, похожем на черный алмаз, омытый мутной рекой. А ты – сможешь. Переправляясь через реку, вы с сыном увидите впереди призрачный берег в клубящихся парах утреннего тумана. Все предметы расколются пополам, странно раздвоятся в сырой мгле, пронизанной светлыми лучами, в битве разгорающегося солнца с тьмой чащобы. Запахнет бананами. Это Кокуйя. Каталина никогда не узнает, что такое Кокуйя, чем была и чем останется. Она будет сидеть в ожидании сына на краю кровати с зеркалом в одной руке и щеткой в другой, ощущая во рту горький привкус, устремив глаза в пустоту, не шевелясь, решив, что так, в этом бездействии, ее навсегда оставят тревожные видения. Да, только вы с сыном услышите, как зачавкает под копытами рыхлая прибрежная земля. Выбравшись из воды, ощутите свежесть и жаркое дыхание сельвы и оглянетесь: медленная река будет мягко шевелить осоку у другого берега. А дальше, в самом конце тропинки, обрамленной красными розетками табачинов, на затененной лужайке – свежевыкрашенный дом, асьенда Кокуйя. Каталина будет повторять: «Господи боже, за что ты меня…» – посмотрится в зеркало и спросит, неужели ее такою увидит Лоренсо, когда приедет, если приедет: обвислые щеки, складки на шее. Заметит ли он отвратительные морщины, которые уже бороздят ее веки и шею? Она увидит в зеркале седой волосок и выдернет его. А ты вместе с Лоренсо углубишься в сельву. Будешь глядеть на голую спину своего сына, то сливающуюся с тенью мангровых деревьев, то снова рассекаемую яркими лучами солнца, которое пробивается сквозь кровлю густых ветвей. На тропке, проложенной с помощью мачете, обнажатся вспоровшие землю корни деревьев, узловатые, страшные. Очень скоро тропка снова исчезнет под сплетением лиан. Лоренсо будет ехать впереди, сидя прямо, не оборачиваясь, похлестывая коня, чтобы отогнать жужжащих мух. Каталина будет не переставая повторять, что он ей не доверится', не доверится, если не найдет ее такой, как прежде, когда был мальчиком. И со стоном, со слезами на глазах, раскинув руки, упадет на кровать. Шелковые туфли соскользнут на пол, а она будет думать о своем сыне, который так похож на отца, так строен, так смугл. Под копытами коней захрустят сухие ветки, и впереди откроется белая равнина – волнующееся море тростниковых метелочек. Лоренсо пришпорит коня. Обернет к тебе лицо, а губы раскроются в улыбке – ты увидишь улыбку и услышишь радостный крик. Мускулистые руки, оливковая кожа, белозубая улыбка – как в твоей молодости. Сын и эти места вернут тебе молодость, но ты не захочешь сказать Лоренсо, как много связано у тебя с этой землей,– наверное, потому, что не захочешь усиливать его волнение. Ты вспомнишь об этом, просто чтобы вспомнить для себя. А Каталина, лежа На кровати, станет вспоминать ласки маленького Лоренсо в тяжелые дни после смерти старого Гамалиэля; вспоминать малыша, прижавшегося к ней, уткнувшего голову в материнские колени,– она назвала его тогда радостью своей жизни. До рождения же не считала так: потому что очень страдала, но никому не могла жаловаться, потому что выполняла свой святой долг. А ребенок смотрел на нее и ничего не понимал: потому что, потому что, потому что… Ты привезешь Лоренсо жить в Кокуйю, чтобы он сам научился любить эту землю – без всякого побуждения с твоей стороны, без объяснения причин того любовного упрямства, с каким ты заново отстроил для него сгоревшую асьенду и обработал равнинные земли. Без всякого «потому что, потому что». Вы поскачете по озаренной солнцем равнине. Ты надвинешь на брови широкополое сомбреро. Резвый бег коней взвихрит тихий искрящийся воздух, и ветер ворвется тебе в рот, в уши, в голову. Лоренсо будет мчаться впереди, поднимая белую пыль, по прямой дороге между плантациями. За ним – ты, уверенный, что вы оба переживаете одно и то же: скачка будоражит, волнует кровь, обостряет зрение, прикованное к этой земле, обширной и обильной, такой отличной от знакомых тебе пустынь и плоскогорий; разделенной на большие квадраты – красные, зеленые, черные; украшенной высокими пальмами, неспокойной, как море, пахнущей навозом и гнилыми фруктами, будоражащей ваши души, вас обоих, летящих во весь опор, напрягающих каждый дремлющий нерв, каждый расслабленный мускул. Твои шпоры будут до крови ранить брюхо буланого: ты же знаешь, Лоренсо любит быструю езду. Его вопросительный взгляд заставит Каталину умолкнуть. Она остановится на полуслове, упрекнет себя за несдержанность, скажет себе, что это вопрос времени, что надо объяснить маленькому сыну причину своих терзаний потом, когда он сможет понять все так, как надо. Она – в кресле, сын – у ее ног, положив руки на ее колени. Земля будет гудеть под копытами. Ты пригнешь голову к самому уху коня, словно желая подстегнуть его словом, но индеец яки очень тяжел, очень тяжел яки, перекинутый лицом книзу через круп твоего коня, яки, цепляющийся руками за твой пояс. Ты же не будешь чувствовать боли, хотя твоя рука и нога повиснут как плети, а яки все будет хватать тебя за пояс и стонать, страшно кривя лицо. На вашем пути возникнут нагромождения скал, и вы, укрытые их тенью, спуститесь в горное ущелье, поедете по каменным лощинам, по глубоким карьерам, вдоль высохших ручьев, по тропам, заросшим чертополохом и репейником. Кто будет вспоминать с тобой вместе? Лоренсо, без тебя, там, в горах? Или Гонсало, с тобою, в этой тюрьме?
( 22 октября 1915 года )
Он плотнее закутался в синий сарапе. Леденящий ветер, шурша травой, изгонял в ночные часы даже воспоминания о дневном палящем зное. Всю ночь провели они на открытой равнине, голодные и промерзшие. Впереди, километрах в двух, темнели базальтовые вершины сьерры, выраставшей над суровой бесплодной пустыней. Три дня ехал отряд разведчиков по бездорожью, полагаясь на чутье капитана, который, кажется, хорошо знал повадки и пути разбитого и спасавшегося бегством войска Франсиско Вильи. В шестидесяти километрах позади отряда двигалась армия, лишь ожидавшая гонца на взмыленной лошади, чтобы тут же атаковать остатки войска Вильи и помешать ему соединиться со свежими силами в штате Чиуауа. Но где же эти бродяги со своим главарем? Он не сомневался: на какой-нибудь горной дороге, где сам черт ногу сломит. К исходу четвертого дня – того, что наступал,– отряд должен был углубиться в сьерру, а армия Каррансы – подойти к месту их последнего привала. Он со своими людьми уйдет отсюда на рассвете. Еще вчера кончились запасы кукурузной муки. А сержант, отправившийся верхом со всеми фляжками к ручью, который раньше пробивался где-то между скалами и пересыхал на равнине, ручья не нашел. Увидел только русло – в красных прожилках, чистое, сморщенное, пустое. Два года назад пришлось проходить по этим местам как раз в период дождей, а теперь только круглая звезда дрожала на разгоравшемся востоке над истомленными жаждой солдатами. Они расположились на привал, не зажигая огней – мог заприметить с гор вражеский лазутчик. Да и зачем им огонь? Варить было нечего, а на бескрайней равнине у костра не согреешься. Закутавшись в сарапе, он поглаживал свое худое лицо: черные дужки усов за эти дни срослись с бородкой; в губы, в брови, в складку на переносице въелась пыль. Двадцать восемь человек отдыхали в нескольких метрах от капитана. Он спал или нес дозор всегда один, поодаль от своих людей. Рядом развевались на ветру хвосты коней, их черные тени казались короче на желтой шкуре равнины. Ему хотелось в горы: где-то там, наверху, рождается сиротливая речушка и оставляет меж камней свою недолговечную прохладу. Ему хотелось в горы: враг не должен уйти далеко. Этой ночью тело было напряжено как струна. Голод и жажда еще глубже вдавили, шире раскрыли глаза, зеленые глаза, смотревшие прямо и холодно.
Маска его лица, припорошенная пылью, была неподвижна и настороженна. Он ждал первого проблеска зари, чтобы двинуться в путь – с наступлением четвертого дня, как было условлено. Почти никто не спал, люди издали посматривали на него. Он сидел, охватив руками колени, завернувшись в сарапе, не шевелясь. Тот, кто смыкал веки, не мог уснуть от жажды, голода, усталости. Тот, кто не глядел на капитана, глядел на лошадиные морды с подобранными челками. Поводья были привязаны к коренастому меските [87] , торчавшему из земли, как перст. Усталые лошади понурили головы. Из-за горы скоро должно было показаться солнце. Час наступал.
Все ждали, и наконец пришла минута, когда капитан встал, откинул синий– сарапе – открылась грудь, перехлестнутая патронташами, блестящая пряжка офицерского кителя, краги из свиной кожи. Не говоря ни слова, солдаты поднялись и направились к лошадям. Капитан прав: красный веер уже раскрылся над низкими вершинами, а там, выше, рос светлый полукруг, встречаемый хором птиц, невидимых, далеких, но заполнивших своими голосами бескрайнюю равнину. Он поманил к себе индейца яки Тобиаса и сказал ему по-индейски: «Ты поедешь последним. Как заприметим врага, тут же поскачешь к нашим».
Яки молча кивнул и надел невысокую шляпу с круглой тульей, которую украшало красное перо, заткнутое за ленту. Капитан вскочил в седло, и цепочка всадников легкой рысцой тронулась к воротам сьерры – узкому желтоватому каньону.
На правом склоне каньона выступали три каменных карниза. Отряд направился ко второму: он не слишком широк, но гуськом лошади могли здесь пройти. К тому же по этому карнизу можно было попасть прямо к источнику. Пустые фляжки гулко хлопали по ногам всадников. Камни, срывавшиеся из-под копыт в пропасть, повторяли этот звук, который замирал на дне каньона, как далекая барабанная дробь. С высоты казалось, что короткая цепочка пригнувшихся к коням всадников крадется на ощупь. Только он не склонял головы, поглядывая на вершины гор, щуря глаза на солнце и полностью полагаясь на свою лошадь. Возглавляя отряд, он не чувствовал ни страха, ни гордости. Страх остался позади – если не в первых, то в последующих многочисленных схватках, благодаря которым опасность стала привычной, а покой выдавался редко. Поэтому мертвая тишина каньона тревожила его и заставляла крепко сжимать поводья; невольно напрягалась рука, готовая одним рывком выхватить револьвер. Тщеславия, казалось, он тоже не знал. Сначала страх, а затем привычка приглушили это чувство. Ему было не до самолюбования, когда первые пули свистели мимо ушей и эта странная жизнь заставляла свыкаться с собой, благо пули не попадали в цель. Он только удивлялся слепому инстинкту, заставлявшему его то бросаться в сторону, то выпрямляться, то приседать, то прятать голову за дерево; удивлялся и презирал свое тело, думая, с каким упорством, быстрее рассудка, оно реагирует на опасность, защищая себя. Ему было не до высокомерия и позже, когда он слышал ставший привычным назойливый посвист пуль. Но он не мог отделаться от беспокойства, сверлящего, тревожного в такие вот минуты, когда вокруг воцарялась нежданная тишь. Его нижняя губа невольно оттопырилась.
Предостерегающий свист солдата за спиной подтвердил его опасения – не так тих каньон. И свист тут же был прерван внезапным выстрелом и хорошо знакомыми воплями: солдаты
Панчо Вильи бросили своих коней с вершины каньона вниз по крутому склону и стали с верхнего карниза поливать ружейным огнем разведчиков. Окровавленные взбесившиеся кони катились под громыханье выстрелов в пропасть, увлекая с собой раненых, разбиваясь об острые камни. Он успел повернуть голову назад и увидеть, как Тобиас кинулся, подобно вильистам, вниз по отвесному косогору. Но выполнить приказ индейцу не удалось: его конь споткнулся и секунду летел по воздуху, затем грохнулся на дно ущелья и придавил своим телом всадника. Вопли усиливались, ружейная пальба учащалась. Он быстро соскользнул на левый бок лошади и ринулся с седла вниз, стараясь затормозить падение, цепляясь за выступы горы. На какое-то мгновение перед его глазами мелькнули животы взвившихся на дыбы коней и дымки выстрелов – напрасно тратили порох его солдаты, застигнутые врагом на узком скалистом карнизе: они не могли ни укрыться, ни повернуть коней. Он катился вниз, обдирая руки о камни, а люди Вильи прыгали на второй карниз, чтобы схватиться с разведчиками врукопашную. Снова загрохотал страшный обвал – падали сплетенные тела и обезумевшие кони. А он в это время трогал окровавленными руками темное дно каньона и старался вытащить револьвер. Снова его окутала тишина. Отряд уничтожен. Он растянулся под огромной скалой. Болело плечо, ныла нога.
– Выходите, капитан Крус. Сдавайтесь, хватит…
Из пересохшего горла прозвучал ответ!
– Чтобы меня расстреляли? Здесь обожду.
Но пальцы, парализованные болью, едва держали револьвер. С усилием приподняв правую руку, он вдруг почувствовал резкую боль где-то глубоко в животе. Стрелял не глядя – не было сил прицелиться; стрелял, пока спусковой крючок не защелкал вхолостую. Он швырнул револьвер за скалу, а сверху снова послышался голос:
– Руки на затылок и выходите.
С той стороны скалы громоздилось около трех десятков лошадей, мертвых или умиравших. Одни пытались поднять голову, другие судорожно дергали передними ногами; у многих на лбу, на шее, на животе пылали красные розаны. На лошадях или под ними в самых разных позах лежали люди из обоих отрядов: лицом вверх, словно подставляя рот под струю незримого ручья; лицом вниз, обнимая камни. Все были мертвы, кроме одного, который стонал, придавленный гнедой кобылой.
– Дайте мне его вытащить! – крикнул он тем, наверху.– Может, это кто из ваших.
Но как? Чем? Откуда взять силы? Едва он нагнулся, чтобы схватить под мышки распростертое под лошадью тело Тобиаса, как в воздухе свистнула пуля и ударилась о камень. Он поднял глаза. Начальник победителей – в высокой шляпе, белевшей на фоне горы,– утихомирил стрелка угрожающим жестом. Липкий грязный пот тек по рукам; правой кисти он почти не чувствовал, но левой вцепился в грудь Тобиаса мертвой хваткой.
За спиной он услышал дробный цокот копыт. Вильисты цепочкой спускались в ущелье, чтобы взять его. Они уже стояли над ним, когда разбитые ноги индейца яки показались из-под брюха лошади. Вильисты содрали с капитана патронташи.
Было семь часов утра.
Добравшись до тюрьмы в Пералесе, он едва мог представить себе, как за девять часов преодолели они – два пленника и вильисты под командой полковника Сагаля – крутые тропы сьерры и спустились к поселку в районе Чиуауа. Голова кружилась от боли, и он смутно различал дорогу. Очень трудную для него. Очень легкую для тех, кто, подобно Сагалю, сопровождал Панчо Вилью с первых его отступлений и за двадцать лет изъездил эти горы, знал все их укрытия, проходы, обрывы, тропки.
Белая шляпа в форме гриба скрывала пол-лица Сагаля, но его длинные крепкие зубы, окаймленные черными усами и бородкой, всегда сверкали в улыбке. Сверкали, когда он с трудом влез на лошадь, а разбитое тело яки перекинули сзади, лицом вниз, через круп его лошади. Сверкали, когда Тобиас протянул руку и схватился за пояс капитана. Сверкали, когда отряд тронулся в путь и, направившись к зияющей дыре в горах, вошел в настоящий тоннель, не известный ни ему, ни другим каррансистам и позволявший пройти за час расстояние, которое наземными тропами не пройти и за четыре часа. Но он почти не думал об этом. Он знал, что обе стороны в этой бандитской войне расстреливали на месте вражеских офицеров, и спрашивал себя, почему полковник Сагаль уготовил ему другую судьбу.
Надежда убаюкивала. Рука и нога, отбитые при падении, висели как плети, а яки тянул его за пояс и стонал с искаженным лицом. Один горный склеп сменялся другим. Они ехали, укрытые тенью, во чреве сьерры, оставляя позади каменные коридоры, глубокие ущелья, почти смыкавшие свои стены над сохшими руслами ручьев, и тропы в зарослях чертополоха кустарника, сплетавшего колючую кровлю над головами всадников. Наверно, только люди Панчо Вильи бывали в этих местах, думалось ему, и поэтому им удалось в свое время нанизать, как зерна четок, партизанские победы и задушить этими четками диктатуру. Они умеют наносить внезапные удары, окружать и быстро отходить после атаки. Полная противоположность его тактике, военной тактике генерала Альваро Обрегона [88] , который предпочитал обыкновенные сражения – в открытом поле, с точной диспозицией и маневрами на хорошо изученной местности.
– Держать равнение. Не отставать! – слышался голос полковника Сагаля, который вдруг поворачивал назад и скакал к хвосту колонны, скаля зубы и сплевывая пыль.– Скоро выйдем на равнину, а там черт знает что нас ждет. Всем быть начеку, глядеть в оба – не запылит ли где дорога. Всем вместе видней, чем мне одному…
Громады скал раздвинулись. Отряд выехал на плоскогорье, и равнина Чиуауа, волнистая, пестревшая деревцами меските, раскинулась у их ног. Жару смягчал горный ветер: его прохладное дыхание никогда не касалось горячей корки земли.
– Сворачивай к руднику, там путь короче! – крикнул Сагаль.– Крепче держите своего товарища, Крус, спуск очень крутой.
Рука яки рванула Артемио за пояс. Ему показалось, что это не просто рывок, а сигнал, возможно, попытка привлечь его внимание. Он нагнулся, ласково похлопал лошадь по шее, а затем повернул голову к сведенному судорогой лицу Тобиаса.
Индеец прошептал на своем языке:
– Мы будем проезжать мимо рудника, давно заброшенного. Когда поравняемся с одним из входов, прыгай с лошади и беги в рудник, там много ходов, и тебя не найдут…
Он не переставая поглаживал лошадиную гриву, поднял наконец голову и попытался разглядеть во время спуска на равнину тот вход в рудник, о котором сказал Тобиас.
Яки шепнул: «Обо мне не думай. У меня сломаны ноги.»
Двенадцать? Или час? Солнце жарило все сильнее.
На одном из утесов показались косули. Кто-то из солдат выстрелил. Одна косуля исчезла, другая скатилась со своего пьедестала. Вильист спрыгнул с лошади и взвалил ее себе на плечи.








