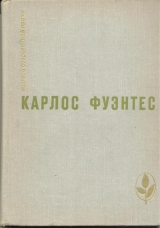
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Карлос Фуэнтес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)
– Будет оперировать доктор Сабинес.
Смысл? Где смысл?
Носилки скользят по рельсам из машины. Где же смысл? Кто живет? Кто?
Ты не сможешь сильнее устать, нет, не сможешь. Потому что очень много пройдешь пешком, проедешь верхом и на старых поездах, а стране все не видно конца. Запомнишь ли ты страну? Да, запомнишь, хотя она многолика: тысячи стран под одним названием. Это ты узнаешь. Ты будешь нести в себе красные земли, степи с агавами и смоковницами, мир кактусов, ледяные кратеры и пояс лавы, стены с золотыми куполами и каменными бойницами, города из камня и извести, города из тесонтле, глинобитные селения, камышовые деревни, черные топкие тропы, сухие, жаркие дороги, влажные губы моря, непроходимые чащобы берегов, прекрасные долины пшеницы и маиса, зеленые-луга севера, озера Бахио, высокие стройные леса, огромные копны сена, снежные вершины гор, долины с озокеритом, порты с борделями и малярией, поля белоголового хенекена, затерянные быстрые реки, россыпи золота и серебра. В тебе – все: индейцы, говорящие на разных языках – на языках кора, яки, уичоль, пима, сери, чонталь, тепеуана, уастек, тотонак, науа, майя; индейские танцы, свирель и барабан, виуэла и гитара, украшения из перьев, тонкая кость Мичоакана, гибкое тело Тласкалы, светлые глаза Синалоа, белые зубы Чиапаса. Индейское шитье, гребни из Веракруса, мистекские косы, цоцильские пояса, шали из Санта-Марии, яркая утварь из Пуэблы, стекло из Халиско, яшма из Оахаки, каменные останки Змеи, Черной головы, Большого носа, святилища и алтари, краски и барельефы, идолы Тонанцинтлы и Тлакочагуайи, древние имена Теотиуакан и Папантла, Тула и Ушмаль. Ты все это несешь в себе, и оно давит на тебя, могильные плиты слишком тяжелы для одного человека, они вечны и неподвижны, а ты несешь их на себе, сгибаешься под тяжестью; они вошли в твое нутро… твои микробы, твои бациллы, твои вирусы…
Твоя земля.
Ты подумаешь, что происходит второе открытие твоей земли в этих воинственных передвижениях, в каждом первом шаге по горам и долинам, которые дерзко противятся медленному, но безудержному наступлению дорог, плотин, рельсов, телеграфных столбов. Природа не хочет, чтобы ее делили и насиловали; желает тиши и покоя. Она подарила людям всего несколько долин и несколько рек, чтобы они там селились – на побережье и равнинах. Она остается суровой хозяйкой крутых и неприступных гор, пустынь, лесов и диких берегов. И люди, зачарованные ее надменным могуществом, не смогут оторвать от нее глаз: если негостеприимная природа повернулась спиной к человеку, то сам человек повернулся спиной к необъятному забытому океану, заживо сгнивая на жаркой плодородной земле, сгорая вместе с недобытыми сокровищами.
Ты унаследуешь землю.
Ты больше никогда не увидишь лица людей, которых знал в Соноре и в Чиуауа. Ты видел их сонливыми и покорными, а потом – яростными: они бросились, не рассуждая, в жестокую борьбу; они кинулись в объятия подобных себе, своих братьев, с которыми их потом разлучили; они сказали: «Я здесь, с тобой, и с тобой, и с тобой тоже», протянули друг другу руки, обратили друг к другу лица. Любовь, чудесная, братская любовь, изжившая себя. Ты скажешь об этом себе, потому что ты испытал ее и, испытав, не понял. Лишь умирая, ты постигнешь ее и признаешься, что, даже не понимая, боялся ее днем и ночью, с тех пор как стал у власти. Ты будешь бояться, что снова вспыхнет народный, пожар братской любви. А теперь ты умрешь, и тебе нечего бояться, потому что ты ничего подобного уже не увидишь. Но ты скажешь тем, кто этого боится: страшитесь ложного спокойствия, которое ты им завещаешь; страшитесь видимого согласия, волшебной силы славословия, узаконенного стяжательства; страшитесь всей этой несправедливости, которая сама не ведает, что творит.
Они примут твое наследство. Ты дал им респектабельность и достаток. Они будут благодарить деревенского парня Артемио Круса за то, что он сделал их уважаемыми людьми. Будут благодарить его за то, что он не захотел жить и умереть в лачуге мулата; будут благодарить его за то, что он не побоялся бросить вызов жизни. Они оправдают тебя, потому что у них уже не I будет твоего оправдания: они уже не смогут говорить, как ты, о битвах и военачальниках и прикрываться ими, чтобы оправдать грабежи именем революции и возвеличивать себя во имя великой революции. Ты будешь думать и удивляться: какое они найдут тебе оправдание? Как обойдут преграду? Нет, они не станут ломать себе над этим голову и будут наслаждаться, пока смогут, тем, что ты им оставляешь; будут счастливы, а на людях притворятся опечаленными и благодарными – и то хорошо. А ты будешь ждать. Под слоем земли толщиной в метр. Будешь ждать, когда снова послышится топот над твоим мертвым лицом, и тогда скажешь: «Вернулись. Не сдались»– и улыбнешься, посмеешься над ними, посмеешься над самим собою, это твоя привилегия. Тебя будет терзать тоска, захочется отдать дань прошлому, но ты этого не сделаешь.
Ты оставишь в наследство ненужные смерти, мертвые имена: имена тех, кто погиб, чтобы не погибло твое имя; имена людей, лишенных всего, чтобы всем обладало твое имя; имена людей, забытых для того, чтобы никогда не было забыто твое имя.
Ты оставишь в наследство эту страну, оставишь свою газету, шепоток и лесть; совесть, убаюканную лживыми речами сереньких людишек; оставишь ипотеки, класс нуворишей, власть без величия, обожествляемую тупость, плебейское тщеславие, шутовское понятие о долге, пустое краснобайство, боязнь перемен, мелкий эгоизм.
Ты оставишь в наследство ее политиканов, нечистых на руку, ее желтые профсоюзы, ее новые латифундии, ее американские капиталовложения, ее заключенных в тюрьмы рабочих, ее спекулянтов и большую прессу, ее чернорабочих, ее полицейских и тайных агентов, ее заграничные вклады, ее продажных биржевиков, угодливых депутатов, ее алчных министров, ее элегантное политиканство, ее юбилеи и памятные дни, ее блох и червивые лепешки, ее неграмотных индейцев, ее безработных, ее вырубленные леса, ее толстобрюхов, вооруженных аквалангами и акциями, ее голодающих, вооруженных ногтями. Пусть берут свою Мексику, пусть берут твое завещание.
Ты оставишь в наследство людей, обыкновенных, незнакомых; людей без завтрашнего дня, потому что все они делают свои дела сегодня, все говорят сегодня, существуют только в настоящем, и сами они – сегодняшний день. Они говорят: «завтра», но им нет дела до завтра. Ты будешь грядущим, того не ведая; ты исчезнешь сегодня, думая о завтрашнем дне. Они будут жить завтра только потому, что живут сегодня.
Твой народ.
Твоя смерть: ты – животное, которое предвидит свою смерть, воспевает свою смерть, говорит о ней, изображает в танце, рисует ее, вспоминает о ней до того, как умрет.
Твоя земля.
Ты не умрешь безвозвратно.
Вот эта деревня у подножия горы, где живет человек триста, а крыши домиков чуть проглядывают сквозь густые заросли мохнатого косогора – от вершины горы до пологого берега, у которого течет река к близкому морю. Изгибаясь зеленым полумесяцем от Тамиауа до Коацакоалькоса, низина царапает белый лик моря, пытаясь – увы, тщетно – отодвинуться от наступающей короны гор и дотянуться до тропического архипелага среди пляшущих волн, до скалистых обломков. Длинная рука Мексики – иссушенной, неизменной, печальной, словно запертой на своем плоскогорье в каменный и пыльный монастырь,– веракрусская рука, этот зеленый полумесяц, имеет иную историю, золотыми нитями связанную с Антильскими островами, с океаном и даже со Средиземноморьем, но всему этому противостоит могучая Сьерра-Мадре-Ориенталь. Там, где высятся цепи вулканов и тянутся вверх штандарты молчаливых магеев, погибнет мир, который – волна за волной – накатывал на этот берег, неся с собой сладостную музыку Босфора и эгейских бухт, виноград и дельфинов из Сиракуз и Туниса; крики признания из Андалусии и с Гибралтара, церемонные приветствия негра в парике с Гаити и Ямайки; танцоров с барабанами, корсаров и конкистадоров с Кубы. И черная земля хранит следы прилива: в узорных железных балконах и дверях кафе отпечатаются волны, пришедшие издалека; в белых колоннах деревенских строений, в сладострастных движениях тела и интонациях голоса воплотятся чужие флюиды. Но здесь пролегает граница. А дальше поднимется сумрачный пьедестал орлов и каменных твердынь. Граница, которую никто не нарушит, ни люди из Эстремадуры и Севильи, которые выдохлись уже при первом ее штурме, а потом были побеждены, еще не зная того, во время подъема на это заповедное плоскогорье, позволившее им ступить на себя и разрушить себя только для виду: в конце концов они стали жертвами голода, обратившего их в статуи из пыли, загнавшего их в слепое равнодушие залива, который поглотил золото, цивилизацию и самих конкистадоров-насильников. Эту границу не одолеют корсары, грузившие с кислой ухмылкой на свои бригантины щиты, которые сбрасывали вниз с вершин индейских гор. Эту границу не одолеют монахи, прошедшие через перевал Малинче, чтобы придать новый облик непоколебимым богам, каменные изображения которых можно было уничтожить, но которые продолжали жить в самом воздухе. Эту границу не одолеют негры, привезенные на тропические плантации и подчинившиеся бравым индеанкам, которые, отдавая себя, закрепляли победу над кудрявой расой. Эту границу не одолеют принцы, сходившие на землю с королевских парусников, зачарованные дивным видом плодовых деревьев и клещевины и взбиравшиеся со своей свитой, разодетой в кружева и надушенной лавандой, на плоскогорье с выщербленными стенами-скалами. Эту границу не одолеют даже касики в треуголках и мундирах с эполетами, также потерпевшие поражение на загадочно молчаливом плоскогорье, поражение, которое нанесли им презрительная уклончивость, глухая насмешка и полное равнодушие. Ты будешь тем ребенком, который появляется на свет на этой земле, встречает эту землю, выходя из самых ее недр и определяя свою участь,– будешь им сейчас, когда смерть уравнивает происхождение и судьбу, протягивая между ними, несмотря ни на что, нить свободы.
( 18 января 1903 года )
Он проснулся, разбуженный причитанием мулата Лунеро: «Ох, пьяница, ох, пьяница…» Петухи – хмурые птицы, бывшие более полувека назад гордостью этой асьенды, красавцами, соперничавшими с бойцовыми петухами властелина округи, а ныне потерявшие свои коррали и ставшие рабами дикой сельвы,– возвестили наступление внезапного тропического утра. Кончилась ночь для сеньора Педрито, снова одиноко пировавшего в старом, заброшенном доме на террасе, выложенной разноцветными каменными плитами. Крики пьяного долетали до пальмовой кровли, под которой Лунеро, вставший до рассвета, кропил водой земляной пол, черпая пригоршнями из чашки, привезенной откуда-то из других мест,– намалеванные на ней лаком павлины и цветы, наверное, сверкали когда-то всеми цветами радуги. Лунеро разжег жаровню, чтобы подогреть куски чараля [92] , оставшиеся от вчерашнего обеда, потом порылся, прищурив глаза, в корзине с бананами и отобрал почерневшие плоды – надо съесть их, прежде чем гниение, идущее вслед за плодородием, расквасит мякоть, источит ее червями. Немного погодя, когда чад, поднимавшийся с разогретого противня, совсем пробудил мальчика от сна, хриплое завывание оборвалось, послышались затихавшие неверные шаги пьяного и, наконец, далекий стук двери. Это была прелюдия к долгому бессонному утру, и теперь дон Педрито свалился на кровать красного дерева под балдахином с москитной сеткой; уткнулся носом в голый пестрый матрац – в отчаянии, что кончились запасы спиртного. Раньше, вспоминал Лунеро, приглаживая кудрявые вихры мальчика, подошедшего к огню в короткой рубашке, уже не скрывавшей легкой тени возмужания, раньше-то, когда земли были большие, хижины стояли далеко от дома, и никто не знал, что там творится. Рассказы толстых кухарок и молодых метисок, которые махали метлами и крахмалили рубашки, не доходили до другого мира, мира почерневших от солнца мужчин с табачных плантаций. Теперь-то все на виду; от асьенды, опустошенной ростовщиками и политическими врагами покойного хозяина, остался только дом с выбитыми стеклами да хижина Лунеро. О прежних слугах ныне напоминала одна тощая Баракоя, все еще ходившая за старухой, которая жила, запершись в дальней голубой комнате. А в хижине обитали Лунеро и мальчик, единственные работники.
Мулат сел на утоптанный пол и переложил часть жареной рыбы в глиняную миску, а часть оставил на противне. Потом дал мальчику манго, тот очистил ему банан, и оба молча принялись за еду. Когда маленькая кучка пепла совсем погасла, стал виден вход – большая дыра, дверь, окно, порог для рыскающих собак, граница для красных муравьев, не решавшихся переползти черту, проведенную известью,– дыра, затянутая тяжелой зеленью вьюнков, которые Лунеро посадил несколько лет назад, чтобы прикрыть серые глинобитные стены и окружить хижину ночным благоуханьем цветов. Они не разговаривали друг с другом. Но и мулат и мальчик испытывали одинаковое чувство благодарной радости оттого, что они вместе, радости, которую они выражали разве что редкой улыбкой, ибо жили они тут не для того, чтобы разговаривать или улыбаться, а для того, чтобы вместе есть и спать, и вместе выходить из дому каждое утро – всегда тихое, насыщенное душной влагой,– и вместе работать, чтобы жить тут день за днем, и каждую субботу ездить за едой для старухи и за бутылями для сеньора Педрито, и передавать покупки индеанке Баракое. Хороши эти толстые голубые бутыли, защищенные от жары плетенками из осоки с кожаными ручками – пузатики с узкой короткой шеей. Сеньор Педрито выбрасывал их у порога, а Лунеро каждый месяц ходил в деревню к подножию горы и приносил на. длинном коромысле, на том, что таскал в асьенде ведра с водой, бутыли в плетенках, сгибаясь от тяжести, потому что старый мул давно уже сдох. Эта деревня у подножия горы была единственной по соседству. Жило в ней человек триста, но крыши домиков лишь кое-где проглядывали сквозь густые заросли мохнатого косогора – от вершины горы до пологого берега, у которого текла река к близкому морю.
Мальчик вышел из хижины и побежал по откосу между папоротниками, окружавшими серые и хрупкие манговые деревья. Сырая тропинка под навесом из красных соцветий и желтых плодов, за которыми скрывалось небо, вывела его к берегу, где Лунеро у самой реки – здесь уже широкой, но еще бурной – расчищал ударами мачете место для дневной работы. Длиннорукий мулат потуже подпоясал миткалевые брюки, книзу широкие, словно по старой матросской моде. Мальчик натянул короткие синие штанишки, сохшие тут всю ночь на ветру, брошенные на ржавый железный круг, к которому теперь подошел Лунеро. Куски мангровой коры, распрямленные и отшлифованные, были погружены в воду. Лунеро огляделся, стоя по колено в вязкой тине. Тут, совсем близко от моря, река дышала полной грудью и мимоходом ласкала папоротники и низкие банановые листья. Буйно растущая зелень казалась выше неба, потому что небо было ровным, низким, блестящим. У каждого было свое дело. Лунеро взял наждак и стал зачищать кору – от напряжения заходили под кожей мускулы. Мальчик схватил хромой, полусгнивший табурет и укрепил его на доске в центре железного круга. Из десяти узких сквозных отверстий в круге свисали веревочные фитили. Мальчик раскрутил круг и развел огонь под кастрюлей; когда густой душистый воск растопился и забулькал, он стал заливать воском отверстия вращавшегося круга.
– Скоро праздник, сретенье,– сказал Лунеро, держа в зубах три гвоздя.
– Когда? – вспыхнули на солнце зеленые глаза мальчика.
– Второго числа, Крус, малыш, второго. Тогда хорошо – пойдут свечи; не только соседям продадим – всей округе. Знают, что нету лучше наших свечей.
– Я помню. Как в прошлом году.
Иногда брызгал раскаленный воск; ляжки мальчика были испещрены маленькими круглыми шрамами.
– В этот день сурок ищет свою тень.
– Откуда ты знаешь?
– Так говорят. Не здесь – далеко.
Лунеро остановился и потянулся за молотком. Наморщил свой темный лоб.
– Крус, малыш, а ты сумеешь теперь сам делать каноэ? Лицо мальчика осветилось широкой белозубой улыбкой.
В зеленоватых отблесках реки и мокрых папоротников кожа его казалась светлее, черты лица – резче. Прилизанные рекой волосы упрямо вились над широким лбом и на темном затылке – на солнце они отсвечивали медью, но у корней были черными. Словно недозрелый плод, желтели худые руки и крепкая грудь, только что одолевшие реку против течения, освеженные прохладой тинистого дна и топких берегов.
– Еще бы не суметь. Я же видел, как ты делаешь. Мулат снова опустил глаза, как всегда спокойные, но настороженные.
– Если Лунеро уйдет, ты сумеешь сам делать все, что надо? Мальчик остановил железное колесо.
– Если Лунеро уйдет?
– Если ему надо будет уйти.
«Ох, не нужно было ничего говорить», – подумал мулат. Не сказал бы ничего, ушел бы, как ушли его соплеменники – ничего не говоря,– потому что Лунеро знает, что такое рок, и подчиняется ему и чувствует, что существует пропасть доводов и воспоминаний, отделяющая это его знание, его подчинение року от понимания рока другими людьми, отрицающими веление рока, уж ему-то, Лунеро, известно, что такое тоска по родине и долгие странствия. Мулат понимал, что ничего не надо было говорить, но он видел, с каким любопытством, склонив голову набок, смотрел мальчик – его верный товарищ – на человека в узком и пропотевшем сюртуке, приходившего вчера к ним в хижину.
– Ты умеешь продавать свечи в деревне и делать их много-много на сретенье, носить каждый месяц пустые бутыли и оставлять у дверей ликер сеньору Педрито… Умеешь делать каноэ и сплавлять их вниз по реке раз в три месяца… Еще ты можешь отдавать деньги Баракое и оставлять себе монету; умеешь ловить рыбу вот тут…
Затихла маленькая вырубка у реки, умолк мерно стучавший молоток в руках мулата, скрип ржавого колеса. Зажатая в тиски зелени, с ревом неслась река, кружившая деревца, сраженные ночными бурями, завитки травы с горных лугов, отбросы. Летели мимо черные и желтые бабочки – тоже туда, к морю. Мальчик замер и уставился в опущенные глаза мулата.
– Ты уходишь?
– Ты не знаешь ничего, что тут раньше было. Когда-то вся земля, до той самой горы, принадлежала нашим хозяевам. Потом все пропало. Старый сеньор умер. Сеньор Атанасио получил нож в спину, и все было заброшено. Или перешло к другим. Один только я остался, и никто не приходил но мою душу целых четырнадцать лет. Но и мой час должен был настать.
Лунеро умолк, так как не знал, что говорить дальше. Серебряные блики на воде отвлекали его, мускулы требовали работы. Тринадцать лет назад, когда ему вручили ребенка, мулат хотел было отдать мальчика реке, под охрану бабочек – как древний царь в легенде белых людей,– и ждать, когда он вернется, сильный и могущественный. Но смерть хозяина Атанасио позволила ему оставить ребенка у себя, не боясь гнева сеньора Педрито, равнодушного и вялого, не боясь гнева старухи, которая жила, запершись в голубой комнате с кружевными занавесками и подсвечниками, звенящими при ударах грома, и которая никогда не узнает, что рядом с ее замурованным безумием растет мальчик. Да, хозяин Атанасио умер вовремя, иначе велел бы убить мальчика, а Лунеро спас его. Последние табачные поля перешли в руки нового касика, а хозяевам оставались только эти прибрежные, заросшие кустарником топи да старый дом – пустой разбитый горшок. На глазах у Лунеро все работники перешли на земли нового сеньора, и оттуда, с гор, привели новых людей работать на новых плантациях. Из окрестных деревень и поселков тоже стали сгонять мужчин, и Лунеро должен был придумать вот эту работу – делать свечи и каноэ, чтобы добывать на пропитание себе и хозяевам. Ему верилось, что с этого бесплодного клочка земли – с ноготь величиной, между рекой и разбитым домом,– никто его не сгонит, потому что никто не увидит его с мальчиком в этой непролазной чащобе. Прошло четырнадцать лет, прежде чем касик узнал о нем,– не один раз прочесывалась эта местность, и последняя иголка в стоге сена была наконец найдена. Вот потому-то и явился вчера, задыхаясь в своем черном сюртуке, вытирая катящийся по вискам пот, вербовщик касика и велел Лунеро завтра же – уже сегодня – идти в асьенду сеньора на юг штата: там не хватает работников на табачных плантациях, а Лунеро сидит тут, брюхо отращивает, охраняя пьяницу и сумасшедшую старуху. И Лунеро не знал, как рассказать обо всем этом малышу Крусу, который, наверное, ничего не сможет понять – ребенок ведь только и знает, что свою работу у реки, да купанье натощак в свежей речной воде, да поездки к морскому берегу, где ему дарят съедобных моллюсков и крабов, или походы в ближайшую деревню, индейскую деревню, где никто с ним не разговаривает. По правде же сказать, мулат боялся, что, если ему придется потянуть старую историю за нитку, распустится все вязанье и придется вернуться к самому началу, а это значило потерять мальчика. Но мальчик ему дорог, думалось длиннорукому мулату, шлифовавшему пемзой кору, ох, как дорог, с тех пор как палками прогнали отсюда его сестру Исабель Крус и отдали ему ребенка; Лунеро в своей хижине выкармливал малыша молоком старой козы, оставшейся от большого стада хозяев, рисовал мальчику на сыром песке буквы, которые выучил, когда служил в детстве у французов в Веракрусе, учил его плавать, разбираться в плодах, орудовать мачете, делать свечи, петь песни, привезенные сюда отцом Лунеро из Сантьяго-де-Куба, когда разразилась война и французские семьи перебрались со всей своей прислугой в Веракрус. Вот и все, что хотел Лунеро знать о мальчике. Да, пожалуй, больше ничего и не надо знать, разве только то, что мальчик тоже любит Лунеро и не может жить без него. Но эти тени другого мира – сеньор Педрито, индеанка Баракоя, старуха – заносят над их головами нож, хотят разлучить. Чужие люди, ни с какого боку не нужные ни ему, ни его другу,– вот они кто. Так думал мальчик и так понимал жизнь.
– Смотри, мало будет свечек – заругается священник,– сказал Лунеро.
Налетевший ветерок чокнул друг о друга свисавшие на фитильках свечки; вспугнутый попугай тревожным криком возвестил о полуденном часе.
Лунеро встал и вошел в воду; сеть была протянута почти до середины реки. Мулат нырнул и затем показался над водой, держа сеть. Мальчик скинул штанишки и тоже бросился в реку. Как никогда, всем своим телом ощутил прохладу; погрузил голову в воду и открыл глаза: прозрачные струи быстро неслись над тинистым зеленым дном. Потом перевернулся на спину, и вода закружила его, как стрелку часов: вон там, позади, виднеется дом, в который он за свои тринадцать лет ни разу не входил, где живет этот человек, которого он видел только издалека, и эта женщина, которую он знал только по имени. Мальчик приподнял голову над водой. Лунеро уже жарил рыбу и чистил ножом папайю.
После полудня острые лучи солнца, прорезав зеленую тропическую кровлю, вонзились в землю. Час замершей листвы, когда даже река словно остановилась. Мальчик голышом растянулся под одинокой пальмой, прячась от жара лучей, которые мало-помалу теснили тень ствола и кроны. Солнце начинало свой путь к закату, однако его косые лучи поднимались над землей, постепенно освещая тело мальчика. Сначала – ступни, когда он прилег у гладкого ствола. Потом – раскинутые ноги и спящий член, плоский живот, закаленную холодной водой грудь, тонкую шею и упрямую челюсть, с которой свет пополз выше по двум уже наметившимся складкам, по двум натянутым дужкам к носу, к крепким скулам, к векам, прикрывавшим светлые глаза в этот тихий час сьесты. Он спал, а Лунеро, растянувшись неподалеку на животе, постукивал пальцами по черной кастрюле. Ритм завораживал его. Казавшееся усталым тело было напряжено, как и его рука, выбивавшая дробь на старой посудине. Дробь учащалась, тревожила память, и мулат, как всегда в это время, затянул песню, песню детства и той жизни, которая ушла, песню того времени, когда его предки короновали себя под сейбой высокими уборами с колокольчиками и натирали себе грудь водкой, а тот человек сидел в кресле, прикрыв голову белым платком, и все пили водку из маиса и кислых апельсинов до самого дна, где чернел сахар, и внушали детям,, чтобы те не свистели по ночам:
Дочке Йейе
по вкусу паренек… привязанный к жене…
Йейе, дочке Йейе по вкусу паренек, привязанный к жене,
Йейе, дочке Йейе повкусунекожене…
Ритм его околдовал. Мулат раскинул руки, прижимая ладони к сырой земле и барабаня по ней пальцами, терся животом о грязную землю, а блаженная улыбка раздвигала щеки, широкие скулы: «Йейе вкусупаренекжене…» Полуденное солнце лило расплавленный свинец на его круглую курчавую голову, но Лунеро не мог встать с места – пот тек по лбу, по ребрам, по ляжкам; обрядовая песня становилась тише и глуше. Чем слабее звучал его голос, тем сильнее ощущал он землю, крепче прижимался к ней, будто овладевал ею. «Йейедочкейейе…» На него снизошло блаженство, на него снизошло забвение – Лунеро не думал о человеке в черном сюртуке, который придет сегодня днем, уже скоро; он весь отдался пению, лежачему танцу, напоминавшему тумбу [93] , тумбу по-французски, и женщин, забытых им в плену этой сожженной усадьбы.
Там, сзади,– густые заросли и дом, о котором грезил во сне мальчик, убаюканный солнцем. Эти почерневшие стены были подожжены, когда здесь проходили либералы, завершая после смерти Максимилиана поход против империи и встретив тут семейство, которое предоставило свои комнаты маршалу, командиру французов, а свои винные подвалы – войску консерваторов. В асьенде Кокуйя солдаты Наполеона Третьего запаслись провизией – нагрузили мулов вяленым мясом, фасолью и табаком,– перед тем как атаковать хуаристов в горах, откуда отступающие отряды нападали на французские биваки в долинах и на городские крепости в провинции Веракрус. Поблизости от асьенды зуавы находили людей, игравших на виуэле и арфе и певших «Балаху ушел на войну и не захотел меня взять с собой», и весело проводили ночи с индеанками и мулатками, рожавшими потом белокурых метисов, светлоглазых мулатов со смуглой кожей, которые носили имена Гардуньо или Альварес вместо Дюбуа или Гарье. Да, и в эти же самые скованные жарой полуденные часы старая Людивиния, навечно заточившая себя в спальне с нелепыми подсвечниками – два свисают с гладкого побеленного потолка, один торчит в углу над кроватью резного дерева – и пожелтевшими кружевными занавесками, старая Людивиния, которую обмахивает веером индеанка Баракоя, получившая, подобно всем мулатам асьенды, это негритянское имя, так мало подходящее к ее орлиному профилю и блестящим косам,– старая Людивиния бормочет, закрыв глаза, слова одной проклятой песни. Песню эту она, в общем-то, уже забыла, но непременно хочет вспомнить, потому что в песенке высмеивается генерал Хуан Непомусено Альмонте, который сначала был другом ее дома, кумом покойного Иренео Менчаки, ее, Людивинии, мужа, и принадлежал к свите генерала Санта-Аны [94] , а потом, когда этот спаситель Мексики и великий покровитель семьи Менчака хотел вернуться из изгнания и высадился здесь, преодолев приступ дизентерии, Непомусено Альмонте отступился от своей исконной лояльности, помог французам схватить Санта-Ану и снова вернуть его на корабль. «Непомусено святой Хуан – дерьмо и болван». Людивиния представляет себе темное лицо Хуана Непомусено Альмонте – сына одной из тысячи девок священника Моралеса – и кривит провалившийся беззубый рот, вспоминая игривую фразу из этой растреклятой песенки хуаристов, которые до смерти унизили генерала Санта-Ану: «…как бы ты повеселился, если б вдруг со стороны налетели бы бандиты, умыкнули твою кралю и спустили б ей штаны…» Людивиния смешливо закудахтала и шевельнула рукой, чтобы индеанка быстрее махала над ней веером. Печальная, побеленная известью опочивальня только казалась прохладной, горячий тропический воздух был спертым и затхлым. Пятна сырости на стенах доставляли старухе удовольствие – напоминали о другом климате, о местах, где прошла ее юность до того, как она вышла замуж за лейтенанта Иренео Менчаку и связала свою жизнь и судьбу с судьбой генерала Антонио Лопеса де Санта-Аны, который пожаловал им плодородные земли у реки, черные земли и обширнейшие участки под горой и у моря. «Ненастье пришло из Франции, ненастье и непогода… Скончался Бенито Хуарес, а с ним умерла и свобода». Теперь лицо старухи сморщилось в недовольную гримасу, словно распалось на тысячу припорошенных пудрой струпьев и в то же время осталось целым под сетью голубых жилок. Дрожащая сухая рука Людивинии отослала Баракою прочь – шевельнулись рукава из черного шелка и манжеты из истлевших кружев. Стекло и кружево, но не только это. Столы из полированного тополя, на изогнутых ножках, с тяжелыми мраморными крышками, на которых покоились часы под стеклянными колпаками; навсегда замершие на кирпичном полу плетеные качалки под чехлами; ломберные столики, медные гвозди, кованные железом сундуки, овальные портреты неизвестных креолов – мужчины прямые, лощеные, с пушистыми бакенбардами, женщины с высокими бюстами и черепаховыми гребнями; жестяные подставки для святых; старый, обтрепанный, почти не сохранивший золотистых нитей гобелен с изображением св. младенца из Аточи; кровать на резных ножках под балдахином, украшенным посеребренной листвой,– хранилище безжизненного тела, гнездо из несвежих простынь и матраца, набитого слежавшейся соломой, торчащей из дыр.
Пожар пощадил эту обитель. Пощадило ее известие об утраченных землях и о сыне, убитом в засаде, и о ребенке, родившемся в хижине мулатов. Известие могло пощадить, но не интуиция.
– Индеанка, принеси мне кувшин с водой.
Она подождала, пока уйдет Баракоя, а потом, нарушив собственные правила, раздвинула портьеры и нахмурила брови, стараясь разглядеть, что происходит снаружи. Она видела, как подрастает этот незнакомый мальчик; тайком следила за ним из окна, из-за кружевной занавески. Она узнавала эти зеленые глаза и кудахтала от удовольствия, видя, что в этом юном теле воплотилась она сама, она, запечатлевшая в своем мозгу память целого-века и в морщинах своего лица – отсвет прежнего солнца, прежнего неба, прежней земли. Она выстояла. Выжила. Ей было очень трудно подходить к окну; она тащилась почти на четвереньках, уставившись в пол и уперев руки в колени. Голова в белых космах глубоко ушла в торчащие, костлявые плечи. Но она выжила. И ковыляла от своей развороченной постели к дверям, пытаясь идти, как та белокожая красавица, что встречала у дверей асьенды Кокуйя нескончаемую вереницу испанских прелатов, французских коммерсантов, шотландских инженеров, британских торговцев бонами, спекулянтов и флибустьеров, направлявшихся в Мехико, чтобы использовать все возможности этой молодой и бунтарской страны: ее барочные соборы, ее золотые и серебряные рудники, ее дворцы из туфа и шлифованного камня, ее продажный клир, ее вечный политический карнавал и ее постоянно нуждающееся правительство, легко добываемые таможенные льготы для любого льстивого иностранца. Это были славные дни Мексики, когда супруги Менчака оставили асьенду своему старшему сыну, Атанасио,– чтобы он стал настоящим мужчиной, общаясь с работниками, бандитами, индейцами,– а сами отправились в Мехико, к иллюзорному двору его светлейшего высочества. Разве мог прожить генерал Санта-Ана без своего старого приятеля – теперь уже полковника – Менчаки? Без Менчаки, который знал толк в петухах и лошадях и мог пить всю ночь напролет, вспоминая план Касаматы, поход в Баррадас, Эль-Аламо, Сан-Хасинто, Герра де лос Пастелес, даже поражения в столкновениях с захватчиками-янки? О поражениях генерал говорил с циничной усмешкой, постукивая ногой об пол, одной рукой поднимая бокал, другой лаская темную копну волос Флор де Мехико, своей супруги-девочки, брошенной на еще не остывшее после кончины первой жены ложе. А потом наступили черные дни, когда властелин был изгнан из Мексики бандой либералов и чета Менчака вернулась в асьенду защищать свое добро: тысячи гектаров земли, подаренной хромым тираном – любителем петушиных боев, отобранной без спроса у крестьян-индейцев, которым оставалось либо сделаться пеонами, либо убраться к подножию гор; земли, обрабатываемой дешевыми руками негров, ввезенных с островов Карибского моря; земли, к которой присоединялись все новые участки мелких собственников, задолжавших Менчаке. Груды табачного листа. Возы бананов и манго. Стада коз, пасущихся на низких отрогах Сьерра-Мадре. А в центре владений – одноэтажный дом с цветной башенкой, с конюшнями, стены которых дрожат от лошадиного ржания, с сараями для ландо и с причалами для лодок. И Атанасио, сын с зелеными глазами, в белой одежде на белом коне – тоже подаренном Санта-Аной,– гарцующий по тучным полям с хлыстом в руке, скорый на суд и расправу, охочий до молодых крестьянок, всегда готовый защищать с бандой ввезенных негров свои земли от все более частых набегов хуаристов. «Да здравствует Мексика, край наш родной; да сгинет властитель чужой…» В последние дни империи, когда старому Иренео Менчаке сообщили, что Санта-Ана вернулся из изгнания, чтобы провозгласить новую республику, старик отправился в своей черной коляске в Веракрус, где у мола его ждала лодка. А на палубе «Вирхинии» Санта-Ана и его немецкие флибустьеры подавали ночью сигналы в Сан-Хуан-де-Улуа, но им никто не отвечал. Гарнизон порта стоял за империю и глумился над павшим тираном, который прохаживался по палубе под вымпелами, извергая на своих врагов проклятия. Паруса снова были подняты, и два старых друга сели играть в карты в каюте капитана-янки – корабль плыл по знойному, неподвижному морю; береговая линия уже едва различалась в жарком мареве. С украшенного праздничными вымпелами судна гневные очи диктатора разглядели белые контуры Сисаля. И хромоногий старец, сопровождаемый своим верным другом, сошел на берег, передал жителям Юкатана свою прокламацию и вновь предался сладким мечтам о власти, ибо Максимилиан был приговорен к смерти в Керстаро, и республика снова получила право рассчитывать на патриотизм своего старого и законного вождя, своего некоронованного монарха. А потом Людивинии рассказали, как они оба были арестованы комендантом Сесаля, как отправили их в Кампече и провели там по улицам как самых обыкновенных бандитов – в наручниках, под штыками конвойных. Рассказали, как их бросили в крепостную тюрьму, как умер летом в зловонной камере вспухший от гнилой воды старый полковник Менчака. А в это время североамериканские газеты известили, что Санта-Ана казнен хуаристами и безвинно погиб, подобно принцу триестскому. Но это не так; только труп Иренео Менчаки был погребен на кладбище у бухты, окончилась его жизнь, азартная и рискованная, как жизнь самой страны, а Санта-Ана со своей вечной ухмылкой безумия – заразного безумия – отправился в новое изгнание.








