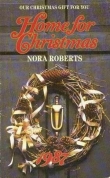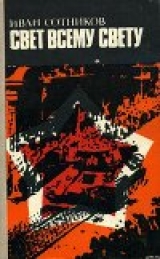
Текст книги "Свет всему свету"
Автор книги: Иван Сотников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 30 страниц)
– То-то!.. – ласково погрозила она ему пальчиком.
Андрей взглянул на часы: пора ехать.
Офицеры тепло распрощались, обещая друг другу завтра встретиться в гостинице «Алькрон».
глава одиннадцатая
СВЕТ ВСЕМУ СВЕТУ
1
Власта – она очень походит на ласточку: маленькая, гибкая, стремительная. Легкое платье ладно облегает ее тонкий стан. Черные волнистые волосы, перехваченные лентой, свободно откинуты назад. Особая же прелесть в ее лице, в темных блестящих глазах, которым чуть надломленные брови придают неуловимый оттенок наивности, задора и властности одновременно. И ко всему у нее фейерверочный темперамент.
– Ну как ты можешь, как! – наскакивала она на Евжена, вздумавшего было отстаивать свою неправоту. – Ошибся – уступи, упрямство – ненадежный щит слабых, – и, горячо споря с ним, девушка беспрестанно обращалась за поддержкой к Березину.
«Умна и красива, – с удовольствием подумал Максим Якорев, присматриваясь к чешке. – И упорна, эта спуску не даст!» Он сравнивал ее со своей Олей, что сидела сейчас рядом, и находил в них много общего, только черноволосая Власта, привыкшая командовать (она возглавляла партизанскую группу), была более резкой, а белокурая Оля выглядела нежнее и ласковее, хотя ее порывистость временами оказывалась столь упорной, что Максиму приходилось во всем уступать девушке. Сейчас же она просто светилась радостью и не скрывала, как соскучилась по Максиму. Еще бы! Она не видела его с витановских событий, когда он на руках принес ее в санчасть, всю израненную и истекавшую кровью.
Их встреча в Праге была неожиданной и особенно радостной. Оля думала, он в Берлине, а Максим с танками Конева тоже примчался в Прагу одновременно с дивизией Жарова.
Последние недели войны Максим провел в разъездах и был полон самых необычных впечатлений. Пришлось объездить чуть не весь фронт и видеть подвиги своих войск.
За столом никто не скучал, и непринужденный разговор не смолкал ни на минуту. В больших кружках, поданных официантами, слабо пенилась пресная брага. Пражский отель «Алькрон» – один из лучших, но и в его ресторане буфет совершенно пуст. Хорошо, офицеры захватили с собой и закуски, и золотистого токайского, и русской горькой: им есть чем угостить чешских друзей.
– Перестань, Власта, – заступался Вилем за Евжена. – Лучше расскажи о своем Пльзне, – напомнил он, взглядом приглашая сестру поделиться впечатлением о городе, где обосновались американцы. – Как они там?
– А ну их! – раздраженно отмахнулась девушка. – Ждем не дождемся, когда унесет их ветер.
– Это почему же? – весь подался вперед Йозеф, но рассказу девушки помешал громкий стук в дверь.
– Войдите, – с неудовольствием обернулся Жаров.
В комнату ввалились четверо с бутылками виски в руках; трое – в американской форме, один – в английской. Все они разом заговорили на ломаном немецком, и понять их было почти невозможно.
– Разве господа офицеры не владеют своим языком? – обратился к ним Березин на чистом английском.
– О'кей! – немало подивились вошедшие звукам родной речи.
Приехав из Пльзня, они остановились здесь же в гостинице. Им хочется побыть в компании русских и чешских офицеров.
Все знакомства американцы начинают с тоста, и они наперебой предлагали виски. Понюхав из налитой рюмки, Юров поморщился.
– Чистый сырец! – скривил он губы. – Нальем лучше русской.
Двух американцев Максим узнал сразу. Он видел их за столом на приеме у Конева. На Эльбе, в Торгау. Вот встреча!
Березин поднял бокал за победу, за дружбу между народами, за всех, кто честно боролся против фашистской Германии. После тоста общая беседа стала совсем непринужденной, весь разговор шел больше по-английски, а Березин превратился в активного собеседника и переводчика. Когда говорила Власта, ее с чешского на русский переводил Вилем или Евжен, а с русского на английский – уже Березин.
Старшим из англосаксов по возрасту и по чину был майор Уилби: высокий грузный мужчина с лысой головой и крупным мясистым лицом. Человек бурного действия, он почти не сидел в кресле, а все время метался по комнате. Майор явно был раздражен и раздосадован, хотя пытался скрыть это и сдержать свои чувства. Усевшись наконец в кресло, он начал доказывать Березину, что истинная справедливость присуща не массам, а лишь избранным и сильным личностям, способным руководить массами, подчинять их своей воле. Березин долго и убежденно возражал. Он говорил о силе масс, выигравших эту войну, об их могуществе и стойкости, о героизме советских людей, о Коммунистической партии.
Откинувшись в кресле, Уилби криво усмехнулся.
– Нет, нет, – качал он головой, – не верю в массы: конгломерат из песка и камня, просто конгломерат. Только у хозяина с кнутом такая масса становится силой.
– Вся история опровергает вашу мысль, – парировал Березин.
– История что кокотка, она непостоянна, – и Уилби извинительно взглянул на Олю и Власту, отошедших к окну.
– История – из тех видов оружия, – с философическим спокойствием доказывал Березин, – пренебрегать которым весьма опасно.
– Оставим историю, господа, – потирая лоб рукою, лавировал Уилби. – Даже самая организованная масса не идет к цели одной дорогой. Сколько единиц в ней, столько и направлений.
– Это верно! – поддакнул вдруг молчаливый англичанин, облизывая сухие губы. Сутулый, жилистый, длиннорукий, он малоподвижен и несловоохотлив. У него маленькая голова с костистой физиономией, надутые губы.
– Нет, мистер Джон Роу, неправда, абсурд! – повернулся к нему Березин. – Жизнь опровергает это.
– Скорее подтверждает, – по-прежнему упорствовал Уилби, бесцеремонно перебив начавшего что-то говорить англичанина. – Возьмите пулемет, отличный современный пулемет. Поставьте обычную стрелковую мишень с черным яблочком посредине. Ну, выпустите сто, двести, тысячу пуль. Это ли не организованная и целеустремленная масса! Но подойдите к цели. Если вы даже прекрасный стрелок, очень немногие пули окажутся в яблочке. Что поделать: закон рассеивания. Так и с людьми, с массами... Как ни направляй их, очень немногие достигнут цели, попадут в яблочко. Разве не так?
Подавшись вперед, Уилби усмехался, блестя глазами.
– Да это же бред! – наклонившись к Жарову, негромко произнес Максим, как только Григорий перевел тираду американца.
– Какая тут истина, – спокойно возразил Березин, – если вся философия построена на ложных посылках. Нельзя же законы физики механически переносить на законы общественной жизни, а уж если рассуждать, используя ваш образ, зачем же брать столь мелкую цель? Возьмите большую. Тогда и закон рассеивания потеряет значение: ничто и никто не минует цели.
– Таких целей не существует.
– Есть, и много таких целей: дружба народов, их стремление к миру, весь труд на их благо, наконец, коммунизм – вот цель, мимо которой не может пройти человечество, как бы ни было велико временное расхождение путей, по которым оно движется вперед.
– Пропаганда! – отмахнулся Уилби.
– А по-моему, крепко, – вмешался в разговор и лейтенант Мартин Ривер, коренастый блондин с твердым взглядом серых глаз. – Крепко и верно. У русских все построено на разуме, и все – для всех, а у нас – на игре страстей, и все – для немногих. Нет, я поддерживаю ваши мысли, – поднимаясь, обратился он к Березину. – Знаю, их одобрили б и все рабочие механического цеха в Нью-Йорке, где я до войны работал инженером. Ваше здоровье!
Четвертый из незваных гостей – лейтенант Фрэнк Монти. Рыжий долговязый офицер из тех янки, про которых говорят, что у них прежде всего замечаешь зубы. Вначале он был шумен, а потом приутих и заскучал. Улучив момент, подошел к Жарову с Якоревым и молча потянул их к двери. Обернувшись, Максим перехватил недовольный и завистливый взгляд Уилби, которого в чем-то опередили. Фрэнк провел офицеров в свою комнату, то и дело приговаривая по-немецки, видимо, привычное восклицание: «Айн момент!» В комнате, замусоренной окурками, консервными банками и обрывками бечевы и бумаги, – гора чемоданов. Монти снял один из них и, расшаркиваясь, самодовольно открыл крышку.
– Хотите, очень дешево! – предложил он по-немецки, указывая на часы.
Изумившись, Жаров отрицательно покачал головой.
– Айн момент, – и Фрэнк открыл второй чемодан, набитый дамскими подвязками. – Шедевр! – восхищался он своим товаром. – Уилби возьмет с вас в два раза дороже.
– Разве и он торгует? – поинтересовался полковник, делая вид, что это нисколько его не удивляет.
– О да, это наш малый бизнес, – разъяснил Фрэнк, – но мы делаем и большой бизнес: скупаем ценные бумаги. Сейчас вся армия торгует, и конкуренты на каждом шагу. Так как же? – возвратился он к подвязкам. – Шедевр?
Офицеры отказались и от шедевра. Тогда Фрэнк распахнул еще один чемодан – с иголками для швейных машин.
– Лучшие в мире! И не дорого.
Офицеры переглянулись. Он рассмешил их, Фрэнк Монти.
– Знаете, Фрэнк, – сказал Жаров, – война не торговля, наших офицеров не занимает купля-продажа.
– Ну знаете, – изумился Монти, – это фикция. Война – бизнес, кому – большой, кому – малый, а все равно – бизнес, – с досадой захлопнул он крышки чемоданов.
– Мы не сговоримся: нам вот и бизнес ваш кажется обманом, грабежом, если хотите, гнусной наживой на чужой беде.
– Ну и ну, – все больше изумлялся Максим, шагая за Жаровым по коридору гостиницы и не обращая внимания на рыжего янки, который, впрочем, все равно ничего не понимал по-русски. – Вот вошли они сегодня, все высоченные, а мне сразу показалось – нам по пояс только. Поговорили – они еще короче сделались. А вот начали торговать – так совсем в карликов-уродцев превратились, едва до колен достают.
– Погоди, Максим, – подхватил Андрей, – узнаем их как следует, они совсем пигмеями станут. Вот не больше кулака, так, кажется, греки считали.
– Не все такие, – сказал Максим. – Видел я и настоящих американцев. Бравые ребята, и душа у них веселая, с азартом. Те били немцев, а эти... эти же торгаши и шантажисты.
2
Вернувшись в комнату, обескураженный Фрэнк начал рюмку за рюмкой потягивать виски. Его неудача, которую Уилби почувствовал сразу, видимо, успокоила майора.
– Однако мы освобождали Европу, – продолжал разговор Уилби, – не затем, чтоб устанавливать тут коммунизм. Нет-нет!
– Мы прошли много стран, а нигде не навязывали своих порядков, – возразил ему Березин, – дело самих народов устраивать свою жизнь, как им захочется.
– Ну знаете, дай народу волю, ничего не убережешь.
– Он создает – ему и хозяйничать!
– Ну нет! Ни к чему разжигать страсти.
– Так что же, – встрепенулся шумный Фрэнк Монти, – этак моими акциями в Чехословакии и в Румынии, а вашими, сэр, – повернулся он к Уилби, – в Германии и Венгрии может распоряжаться кто захочет? Я не согласен, нет, не согласен...
– Да не трещите вы, Фрэнк, – рассердился вдруг Уилби на его слишком прямую откровенность. – Много у нас с вами акций? Не в них дело.
– Нет, в них, – не сдавался разошедшийся и менее сообразительный Фрэнк. – Бизнес есть бизнес. Зачем тогда воевать?
– Ишь щеки-то нажевал! – сыронизировала над ним Оля.
Среди англосаксов неловкое молчание.
– Да, мы только берем у народа и ничего не даем ему, – раздумчиво произнес Ривер. – В этом наша слабость. А вы, – поднял он глаза на советских офицеров, – вы даете, и в этом ваша сила.
– Я все же за демократию, – поправился Уилби, – за американскую демократию, лишь бы каждый был волен распоряжаться своим добром.
– За демократию Уолл-стрита, сэр, – наклонился к Уилби Мартин Ривер. – Так это ж насос: им легко перекачивать народные денежки в ваши банки, сэр.
– Нет, за американскую, – рассердился майор, – и мы несем ее всюду: и во Францию, и в Германию, и в Чехию, которые мы освобождаем.
– Если всех их вы освобождали, как Чехию, я не порадуюсь за освобожденных, – срезала Уилби Власта. – К тому же где и когда вы освобождали Чехию? Да-да, где и когда? – переспросила она смутившегося американца.
– Пани Власта должна знать, что американские войска освободили Пльзень, Мост и другие места западной Чехии.
– Но как? Как? – настаивала девушка, с удовольствием чувствуя, как Оля поощрительно сжала ей руку.
Уилби передернул плечами.
– Не хотите, так я расскажу, как, – пригрозила Власта, приближаясь от окна к столу. – Я ведь живу в Пльзне, и мне своими глазами пришлось видеть, как господа американцы «освобождали» западный краешек нашей Чехии.
Мистер Джон Роу и сэр Крис Уилби нервно завертелись в своих креслах. Фрэнк Монти самодовольно улыбнулся и заикал. Лишь Мартин Ривер, нисколько не огорчившись, удовлетворенно откинулся на спинку дивана, закинув ногу за ногу, и, кажется, облегченно вздохнул.
– Ничего не скажу: по заслугам получают, – шепнул он Жарову по-немецки. – Ведь они журналисты-спекулянты, я не из их компании.
– В начале мая чешские повстанцы захватили Пльзень, и когда уж совсем прекратились бои, в город вошли американцы, – не без иронии продолжала Власта. – Ну и началось «освобождение». Сначала город освободили от Национального комитета. Попросту разогнали его, Затем американцы издали приказ и всю власть забрали в свои руки, а населению запретили выходить на улицу. Затем запретили выпуск всех газет, работу почты, телеграфа, радиостанции, приказали всему населению и чехословацким офицерам сдать оружие и в том же приказе потребовали от них обеспечить безопасность нацистским офицерам. Официальным языком сразу же сделали английский, как и немцы в свое время навязывали нам немецкий. Все документы требовали писать только по-английски. А все объявления и приказы печатались сначала по-английски, потом на немецком и только в самом конце – на чешском. А сколько там было пьяных дебошей с кровопролитием! И вы не стыдитесь называть это освобождением? – наступала на гостей Власта.
– Иисус Мария! – схватился за голову Йозеф Вайда.
– Война есть война... – смущенно и раздосадованно бормотал Уилби, проклиная в душе и свой заход к русским, и эту чешку-изобличительницу с ее острым как бритва языком. – То высокая политика, и не нам судить о ней.
– О нет! То низкая политика! – продолжала Власта.
Березин перевел дословно.
– Это оскорбительно, наконец, – рассердился Уилби, вставая.
– Да, оскорбительно, – икая, залопотал и Фрэнк Монти.
– Когда восставшая Прага, истекая кровью, звала на помощь, – продолжала Власта, – наш Национальный комитет в Пльзне организовал отряд добровольцев. Но пришел приказ американских властей отряд распустить и помощь Праге запретить. Лишь тайно некоторым из добровольцев удалось вырваться в Прагу. Это честно, скажите, честно? – все наступала девушка на Криса.
Мартин Ривер лишь посмеивался, радуясь, что достается Уилби.
– А зачем вы разбомбили пражские, пльзенские и другие заводы? – все допрашивала американцев Власта. – Шкодовские заводы работали на немцев – вы их не трогали. А немцам уходить – вы их разгрохали да еще тысячи домов разбили. Что это, военные бомбардировки?
– Это не военные, а политические бомбардировки! – воскликнул Жаров. – Все это низко, сэры и мистеры, И раз вы оправдываете это, мы не хотим оставаться с вами.
– Вы что же, гоните нас? – опешил Уилби, и лицо его вспыхнуло.
– Не гоним, а говорим правду, – повернулся к нему Вилем Гайный.
Фрэнк Монти закашлялся.
Англосаксы заспешили к двери, но Мартин задержался.
– Я не с ними, – кивнул он в сторону ушедших. – У них вместо души карман: с долларом – они нахальны, без доллара – злы, как сто дьяволов! И свобода – им нож под сердце. А вы, вижу, славные ребята, черт бы вас побрал! Если любите простых американцев, тех, что митинговали в дни войны, требуя открытия второго фронта, выпьем за них: они все ваши друзья.
Все выпили и дружески распрощались с Мартином.
– О'кей! – приветственно помахал он рукой уже с порога.
– Этот, видать, честный парень, а те, те – черные гости! – встал из-за стола Березин.
– Освободители тоже! – возмущалась Власта, еще покусывая губы.
3
Кончились бои, и Никола все дни не отходил от Веры. Заразительная свежесть пышной весны, пахучие цветы, какие ей по утрам приносили солдаты, живительное майское солнце, звучные песни близких людей, с кем столько времени делила тяготы боев и походов, – все пробуждало в ней чистые сильные чувства, и она не скрывала их. Но стоило заговорить с ней о будущем, как Вера как-то уходила в себя и отмалчивалась.
Они сидели сейчас в тенистом парке, под густым каштаном. Майское утро насыщено ароматом свежих трав и цветов. Воздух чист и прозрачен, и дышится легко и сладко. Скоро домой. Без Веры Никола не уедет. А она молчит и молчит.
– Нет, ты скажи, мы будем вместе? – уже в который раз он задавал ей один и тот же вопрос.
Не отвечая, она не сводила с него синих глаз.
– Скажи же, скажи? – настаивал он снова. И хотя обещающие глаза ее отвечали яснее ясного, ему все же хотелось, чтоб были сказаны эти слова.
– Ну ответь же, ответь! – настаивал Никола.
– Любимый, хороший, – прильнула к нему Вера. – И я хочу того же...
Никола порывисто обнял ее.
– Только...
– Что только? – забеспокоился он, чуть ослабляя руки. – Что?
– Ты же не знаешь своих чувств. Не из кого выбирать – вот и полюбил. А начнешь теперь сравнивать и разлюбишь.
– Сумасшедшая! Я боюсь другого – ты разлюбишь...
Возвращаясь к себе, Вера повстречала Якорева, и они пошли вместе. Заговорили о любви, о дружбе, о верности. Искоса поглядывая на собеседницу, Максим вспоминал свою мальчишескую влюбленность в эту женщину. Удивительно хороша! Как и раньше, она напоминала ему молодую елочку, свежую и гибкую, немножко грустную и колкую. Она сказала ему, что очень любит Николу. А как же стена? Да, стена. Ведь сама говорила, что за старой любовью – как за каменной стеной. Ее ничто не разрушит.
Стена!.. Вера раскраснелась. Она поверила Николе, стена не нужна. Это, пожалуй, верно, и Максим не осуждает. Когда-то он любил свою Ларису, был верен. А пришло время – и нет любви. Все принадлежит другой.
Расставшись, он одиноко побрел по аллее вдоль узкого озера. В душе у него многое прояснилось, и весь разговор этот еще дальше отодвинул его Ларису куда-то далеко-далеко, так что не различить даже лица. Когда он пытался приблизиться к нему, перед ним оказывалось совсем другое лицо: не бледное, а обветренное и загорелое, не круглое, а чуть удлиненное; не пухлогубое, а с тонкими живыми губами, вся прелесть которых раскрывалась в ласковой озорной улыбке; и лицо не то с грустными серыми глазами, всегда устремленными куда-то вдаль, не то с веселыми, цвета морской воды глазами, в которых поминутно вспыхивают горячие золотники. Чье это лицо? Ясно, ее, Оли, шалуньи-озорницы, которая давно уже вошла в сердце, вытеснив оттуда Ларису. Он долго думал, что любит Олю как сестру. Дорожил этой любовью и берег ее. А вот пережили Витаново, и он всецело принадлежит одной ей.
У самого берега Максим увидел вдруг одинокую березку и в радостном изумлении остановился перед нею. Как Оля! Белоствольная красавица застенчиво наклонилась над водою и словно загляделась на свое-отражение. Пышнокудрая, она всякому, кто приближался к ней, обещала покой и прохладу. Максим щекою прижался к молодой шелковистой коре. Как знать, почему в душе проснулась вдруг неизъяснимая грусть и пробудила песню. Слова ее он сочинил сам, когда вспоминал про Олю в госпитале:
Далеко, далеко до любимой,
Может, сотни несчитанных верст...
Оля еще издали услышала голос Максима и ощутила, как что-то больно кольнуло ее сердце. О ком он? Она подошла совсем близко и несмело тронула его за руку.
– Оленька! – обрадовался Максим.
– О ком это?
– Как о ком? – усмехнулся он ласково. – Шел, заскучал что-то, смотрю, березка, будто с наших мест прибежала. Остановился и запел... – «О тебе», хотел добавить он, но его перебила Оля:
– Все о ней?
– Да что ты! – взял он ее за руку.
Оля заколебалась: отдать письмо или выждать? Его привез сейчас Зубец. Не письмо даже – открытка. Прочитала и изумилась. Надо ж случиться такому. Все это томило и жгло, хотелось слов и объяснений, и она пугалась их. «Может, сотни несчитанных верст», – еще звучали в ушах слова его песни. Конечно, о ней! А тут письмо... Отдать или не надо?
– Зубчик вернулся и привез вот, – протянула она открытку. – Лариса пишет, – и увидела, как его обожгло, словно бросило в жар, и лицо вспыхнуло. «Обрадовался и переживает», – ревниво подумала девушка, не сводя с него пристальных глаз и пытаясь разгадать обуревавшие его чувства.
– Смотри ты, – пожал он плечами, – жива, институт кончает, – растерянно перечислял он, – и всего открытка! – все еще с недоумением вертел он ее в руках.
«Сожалеет», – с болью в душе мысленно решила Оля и пристально посмотрела в глаза Максиму.
– А знаешь, – улыбнулся Максим, – я рад за нее, право, рад: жива, здорова и, видно, счастлива. Очень хорошо! И для... – он хотел сказать: «Для нас хорошо», – но, увидев лицо девушки, вдруг запнулся, оборвав фразу. – Ты что? Я же... ты знаешь... я... – обнял он ее за плечи. Но девушка выскользнула, глаза ее потемнели, став похожими на море в бурю. Оля порывисто шагнула и молча пошла прочь.
– Оля, Оленька, да остановись ты! – рванулся он за нею, но девушка не обернулась и побежала. – Оленька, ну погоди же!
– Ты что воюешь? – услышал Максим голос Тараса Голева.
– Да вот.. – замялся Якорев, не зная, как объяснить ситуацию. – Лариса жива, письмо пришло.
– Ну и ну! – подивился Голев и тут же начал выкладывать свои новости: – Людка нашлась. Ранена, больна, да уж отходили. Мать письмо прислала. От радости чуть с ума не сошел.
– Ой, как хорошо! – обрадовался Максим и обнял Тараса, потом побежал за Олей. Счастливый отец так и не разобрался в его чувствах.
Примирение с Олей состоялось поздно вечером. Максим увлек ее в парк, и до самого отбоя бойцы у палаток, разбитых неподалеку от парка, слышали его песни.
– Это моряк наш! – прислушиваясь, сказал Сабиру Голев.
– Хорошо поет, – радостно откликнулся Азатов.
Сидя на росистой траве, они тихо беседовали.
– Легко на сердце – вот и распевает, – отозвался Тарас Григорьевич. – Я вот Людку свою все тут шукал, а она, вишь, на другом фронте объявилась, – не уставал он повторять рассказ о дочери. – Жива! Хожу теперь, ног под собой не чую. Хожу приглядываюсь, вроде время слушаю. Гудит! Смотрю на чехов, трудно им, а верю, эти горы своротят, а своего добьются. Смотрю на них, и столько хочется им доброго сделать. Тому бы земли прирезал, другому работу облегчил, третьему в учебе помог. Вот от души хочется, чтоб быстрее на ноги стали.
– Эти станут! – подтвердил Азатов.
Неподалеку послышались аплодисменты. Глеб Соколов читал солдатам Маяковского, и они шумно рукоплескали.
– Светить – и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца! – отчетливо доносились к ним слова поэта.
– Слышишь, светить! – подхватил Голев. – Хорошо сказано. Светить всему свету – вот наше дело.
– Да, свет всему свету! Очень хорошо!
4
В полку сегодня особый день.
С развернутым Красным знаменем торжественно шел он через всю Прагу, шел сквозь нестихающее тысячеустое «наздар», шел почтить память Ленина.
Со ступени на ступень подымались воины-победители в историческую комнату в здании на Гибернской улице, где тридцать три года назад проходила Пражская конференция, и каждому хотелось яснее представить себе всю обстановку тех знаменательных дней.
Да, да, именно по этим лестницам подымались делегаты-ленинцы, они входили вот в этот скромный небольшой зал, обставленный простой мебелью, в котором за председательским столом сидел Ильич. Здесь шла работа конференции, здесь был избран большевистский ЦК, здесь находился тогда боевой штаб гениального стратега революции, отсюда руководил он судьбами человечества, тут собирал силы большевистской партии, а пять лет спустя она возглавила величайшую из революций.
Мысли и чувства всех верно и ясно выразил Березин, записавший в книгу отзывов простые, идущие от сердца, слова:
«В боевом строю родной армии с великой миссией прошли мы от Сталинграда до Праги и нигде не видели знамени, которое светило бы людям ярче, чем знамя Ленина – единственно верное боевое знамя миллионов. Верим, с этим знаменем у нас и впредь никогда не будет поражений».
А ниже появились сотни имен и фамилий воинов рядового советского полка, и среди них Андрей Жаров, Николай Думбадзе, Савва Черезов, Марк Юров, Максим Якорев, Тарас Голев, Татьяна Зарковская, Семен Зубец, Акрам Закиров, Ольга Седова, Павло Орлай, Ярослав Бедовой, Вера Высоцкая, Сабир Азатов, Матвей Козарь, Яков Румянцев.
Почтить память вождя сюда приходят люди разных классов и профессий: писатели и журналисты, рабочие и труженики села, учителя и чиновники, солдаты и офицеры многих армий, честно воевавшие против фашизма, узники, освобожденные из лагерей смерти, и редкий из посетителей не оставляет записи в книге отзывов. Полк ушел уже, а Жаров с Березиным все еще листали и листали эту книгу, вчитываясь в ее волнующие страницы.
Офицеров привлекли записи их зарубежных друзей – Иона Бануша из румынской дивизии и Имре Храбеца из Венгрии.
«Воевать и побеждать мы учились у Советской Армии, – писал Бануш. – Будет и у нас в Румынии армия рабочих и крестьян, воспитанная по-ленински».
«Ленин – это сила, с которой ничто не страшно», – записал Имре Храбец.
Склонившись над книгой, Жаров не успел еще раз перечитать эти записи, как почувствовал на плече чью-то дружески опущенную руку и, полуобернувшись, поднял глаза: за спиною Гайный и Вайда.
Он с радостью обнял чешских друзей.
«Ленин пробудил сознание, дал силу, и мы победили, – написал Вилем по-чешски. – По его заветам будем строить и укреплять новую чехословацкую армию».
В зале, где в свое время шли заседания конференции, стояло красное, пробитое пулями знамя пражских повстанцев. Вайда поглядел на него и записал:
«Знамя Ленина – знамя жизни! Никому не вырвать из наших рук этого боевого знамени, с которым все честные люди мира пойдут к коммунизму. И. Вайда».
Да, это очень верно: знамя жизни!..
5
Прошло еще несколько дней, и советский самолет, взявший на борт большую группу солдат и офицеров из дивизии Жарова, мчал их из Праги в Москву, на парад Победы.
Внизу бесчисленные пути-дороги, форсированные реки и горные кручи, земля, перекопанная траншеями и рвами, опутанная колючей проволокой, ощеренная надолбами, изуродованная снарядами и бомбами. Земля, на которой еще недавно высились валы вражеской обороны, беспощадно повергнутые в боях и сражениях.
– Да, – вздыхал Голев, всматриваясь в окно самолета, – четыре жестоких года потребовалось, чтоб пройти по ней от Волги до Эльбы и Влтавы.
– Зато теперь, – ответил ему Якорев, – мы пролетим этот путь меньше, чем за день.
– Победа, друзья! – обобщил Березин.
Все не отрывали глаз от земли, словно плывущей навстречу и опоясанной огромным сизо-дымчатым кольцом горизонта, все с болью и гордостью вглядывались вниз: с болью за погибших, чьи могилы остались там вечными памятниками всесветной славы, и гордостью за живых, воинов и тружеников, чьим мужеством завоевана победа...
...Красная площадь. Кремль. Ленинский Мавзолей.
С этой площади партия посылала воинов с великой миссией. Сюда и возвратились они с победным рапортом своей Родине, своему народу, своей партии. Она их учитель и вождь. С нею сбываются их любые мечтания. С нею они всегда впереди, всегда в наступлении, в величайшем наступлении, где каждый день труда и борьбы ускоряет победу коммунизма.
Стройно и торжественно идут сводные полки всех фронтов. Идут мимо ликующих трибун. Мимо Мавзолея. Идут, бросая к подножию исторической трибуны поверженные знамена разбитых вражеских полков – финских, испанских, бранденбургских, итальянских, баварских, рейнских, когда-то шагавших в строю голубых, коричневых и черных дивизий. Идут сыны великой страны, могучей и непобедимой. Идут мимо зубчатой кремлевской стены, за которой на высоком куполе светлого здания реет вечно живое ленинское Знамя.
Знамя их победы. Немеркнущее знамя их жизни!
г. Уфа
1960—1971