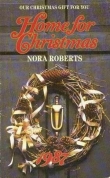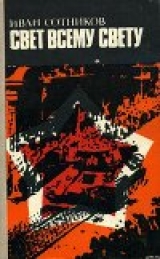
Текст книги "Свет всему свету"
Автор книги: Иван Сотников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
3
Максим осторожно вел мотоцикл. Сзади сидел Павло, а в коляске Матвей Козарь. Возвращаясь из штаба дивизии, они везли с собой «Правду». Самолеты только что примчали ее в Будапешт. От Балтики до Карпат и от Карпат до Альп гремит советское наступление. Оно, как гроза, стремительно надвигается на Германию. Очистительная гроза. Теперь уже неважно, как и когда будут наступать союзники. Не от них зависит успех победы.
Пришло наконец письмо от Оли. Ласковое, теплое, хорошее. В нем столько задора, девичьей непосредственности, что без улыбки читать нельзя. Ждет не дождется. Написала: пристает этот Забруцкий то к Вере, то к ней. Смеется: он весь какой-то пересоленный! Намекнула: они снова в Карпатах и воюют в Чехословакии, в полку все с нетерпением ждут окончательного освобождения Буды, всей Венгрии.
Павло тоже получил письмо из дому. Воссоединенное с Украиной Закарпатье зажило новой жизнью. Люди готовятся пахать, садить сады, начинают строить. Горе матери поутихло, и счастье безмерно. Вернулась Василинка. Ее берут в техникум, будет агрономом. Как ни горько расставание, мать не хочет становиться поперек ее дороги. Пусть учится, пусть все будет по-другому. У нее теперь одна забота – вернулся бы только Павло. Она и его отпустит на учебу. Сейчас столько открыто школ, курсов, создаются институты, университет. Со всех гор люди едут учиться. Это в войну. Что же будет, когда наступит мир. «Ох, Павло, – писала мать, – видел бы ты, что творится теперь на Верховине».
Перечитывая письмо, Павло радовался за мать, за Василинку, вызволенную из лагеря, за весь свой край.
Оленка прислала письмо Матвею. У нее родился сын, и она назвала его Семеном, в честь того синеглазого хлопца, что вместе с Максимом снимал ее с горящего дерева. Он еще плясал с ней на площади в Рахове. Пусть будет крестным отцом. Павло подшучивал над другом, и Козарь улыбался. Сын! Вот отпустят его до дому, а сын будет уже бегать по Верховине. «Чуешь, Павло, бегать, а?»
Шла война, но и жизнь не останавливалась. Одни умирали, рождались другие. Одни жгли и убивали, другие растили сады и строили. Одни творили насилия и сеяли смерть, другие освобождали и несли с собою счастье и дружбу.
Матвей Козарь повез «Правду» в полк, а Максим с Павло задержались у гражданской кухни, у самой набережной. Где-то наверху еще гремит бой, а здесь организовали питательный пункт – для детей.
Максим знал уже, что по инициативе венгерских коммунистов всюду создаются демократические организации союза молодежи и союза женщин. С их помощью налаживается жизнь, снабжение населения хлебом, обедами. Жители, имевшие муку, обязаны выпекать из нее хлеб и распределять по сто граммов в день среди нуждающихся жильцов дома.
Здесь, на набережной, организация национальной помощи создала народную столовую, где до трехсот детей ежедневно получают по стакану супа и по пятьдесят граммов хлеба, на питательном пункте грудным детям выдается по стакану молока. Многих детей и женщин местные органы отправляли в провинцию.
Максим и Павло долго глядели на детскую очередь, быстро продвигавшуюся к котлу. Ни сутолоки, ни беспорядка, лишь детское нетерпение и страх: вдруг ничего не достанется. У Максима сжалось сердце. Что перечувствовали их матери, что пережили они сами!
У котла вдруг возник шум, в очереди поднялся плач. Все кончилось, котел пуст. Дети в конце очереди остались без супа и хлеба. Надо было видеть их глаза, полные слез, их тонкие, исхудавшие ручонки, чтобы понять, что такое голод.
– Скажи им, Павло, пусть идут за нами. Получат хлеб и суп.
Орлай перевел, и дети, как по команде, тонкой цепочкой двинулись за Максимом. Он привел их на кухню как раз к обеду. Связные из рот уже получили термоса с супом и кашей и собирались в подразделения.
Максим объяснил положение. Оказывается, пол-обеда уже отдано голодным. Тем не менее никто не спорил. Всем детям налили из термосов по стакану супа. Каждый получил по кусочку хлеба.
Какой поднялся шум! Ребята отрывали пуговицы от пальто и с наивной непосредственностью предлагали их солдатам в обмен на звездочки. Дети есть всюду дети!
Максим глядел на них с горечью и с радостью. Лет через десять – пятнадцать они будут студентами, станут техниками, инженерами, учителями. Кого воспитают из них, друзей или врагов? Неужели и их погонят захватывать чужие земли? Нет, не может того быть! Не может! Не будет! История – добрый учитель.
4
Так бывает после грома перед самым дождем. Мертвая тишина! Потом легкий шорох ветра в замершей листве, робкий и глухой крап капель, и свежий живительный ливень вдруг заполнит все небо, воздух и землю.
Так и сегодня. Отгремели последние залпы, и все кончено. Точно замер весь Будапешт, и нигде ни выстрела.
Штурмом взята цитадель, и с крепостных бастионов разметавшийся внизу город кажется притихшим и непривычно покойным. Огонь и дым, кровь и смерть – вся война, которая только что буйствовала здесь, вдруг ушла далеко-далеко. А всюду, нет, не мертвая, живая тишина, когда каждый звук отзывается звоном. Голоса людей, как живительный дождь, заполняют сейчас все улицы и площади, звучат в уцелевших домах и кварталах, и каждый день над этим выстрадавшим свое счастье городом будет всходить ясное солнце и с утра до вечера светить людям, радующимся жизни.
Центром укреплений Буды были две крепости: королевский дворец, занятый вчера, и цитадель на скале Геллерт, штурмом взятая сегодня. Засевших тут опричников Салаши и эсэсовцев Пфеффера-Вильденбруха не спасли ни старинные форты, ни исступленный огонь. Под угрозой полного и беспощадного уничтожения они подняли белый флаг.
Мимо Максима и Тараса, мимо Павло и Козаря – мимо победителей шли под конвоем пленные, только что выбитые из этих каменных и железобетонных катакомб и крепостных бастионов. Бойцы глядели на них с ненавистью и презрением. Сколько из-за них пролито крови и вырыто могил! Скольких людей оставили они без крова, без родных и близких! Весь Будапешт по их вине лежит в руинах. Чем рассчитаются они с семьями погибших, с этим миллионным городом? Пройдут годы, десятилетия, а черная слава будет неотступно следовать за каждым, повинным в злодеяниях на этой земле.
Среди пленных регент-самозванец Салаши, командующий гарнизоном окруженных немецкий генерал Пфеффер-Вильденбрух и вес офицеры его штаба, главари нилашистов, военные преступники, искавшие защиты у немецкого оружия. Все они идут разбитые, беспомощные, обесславленные.
Салаши глубоко упрятал голову в плечи, бледный и пугливо озирающийся но сторонам, он семенит за своими опричниками. Глаза его лихорадочны и опустошены, в них ничего, кроме животного страха.
Немецкий командующий еще пытается сохранить лоск. Но жесты его рук торопливы и беспомощны, глаза бегают из стороны в сторону, как у загнанного зверя, по которому осталось сделать последний выстрел.
Когда увели пленных, Думбадзе собрал поредевшие роты и направился с ними к отелю у подножия горы, где осталась батальонная кухня. Завтра ему догонять, свой полк, свою дивизию.
Следуя за батальоном, Максим Якорев остановился у спуска и поглядел на освобожденный Будапешт. Иссеченный стрелами и дугами улиц и проспектов, он разметался внизу, как больной в постели, изнемогший и притихший, но безмолвно радостный и довольный, так как кризис миновал и жизнь его уже вне опасности.
Ветер разогнал последние облака. Небо ясно и чисто. Синее, синее, оно будто заново вычищено в честь большого праздника. Повеселевший Дунай искрится и плещется у гранитных набережных из тесаных плит. Но под скелетами обрушенных в воду мостов река хмурится.
Максим еще и еще окидывал взглядом весь город. Каждая пядь здесь взята с бою и полита кровью, каждая пядь!
Он помрачнел вдруг и заспешил за батальоном. Роты приближались к отелю. Стены его в проломах и исклеваны пулями. Окна замурованы и превращены в амбразуры. Опричников Салаши и эсэсовцев Пфеффера выкурить отсюда было нелегко. Максим с болью в душе поглядел на камни набережной, еще не высохшие от крови убитых и раненых.
После обеда он вышел на веранду отеля, где уже находились Голев, Имре Храбец и Павло Орлай. Будапештская битва окончена. Она стоила дорого, но принесла свободу и радость победы. Недаром весь мир, затаив дыхание, ждет сейчас салюта Москвы.
Имре Храбец рассказал про мадьяр, сражавшихся за Будапешт. Они кровью искупили позор венгерского оружия, обесчещенного Хорти и Салаши. Но есть в городе и другие – эти готовы перегрызть горло тем, кто стоит за новое.
– Помните Пискера, что закрыл было макаронную фабрику? Такой активный теперь. В партии сельских хозяев подвизается.
– Туда что, и таких акул принимают? – удивился Голев.
– У него поместье, земля, вот и пристроился.
– Ну и шкура! – не удержался Павло.
– А банкира помните? Тоже выплыл. Крупный делец. А американца, что из подвала вытащили? О газете хлопочет. Такой разведет демократию! Пенча в редакторы прочит. Это хортистский журналист. Я в Дебрецене с ним познакомился. Так и лезут из всех щелей. Только и наши силы не по дням, а по часам растут. Коммунистов больше тридцати тысяч стало.
– А что ты хочешь? – заговорил Голев. – Борьба за новую Венгрию – все равно что плавка металла. Знаешь, какой огонь бушует в печи, как кипит жидкая масса? Кажется, бери и разливай. А пробьет лётку – и стремительно вырывается пламенная струя, фейерверком брызжет. Всплывает шлак! Лишь потом, очистившись от него, могучим потоком пойдет настоящий металл.
– Вот здорово! – обрадовался Имре.
– А эти Пискеры, Пенчи, все Швальхили – просто легковесный шлак.
На веранду отеля доносился все нараставший гул уже мирного города, только что распрощавшегося с войной; и гул его Голеву чем-то напоминал отдаленный гул мартенов. Еще трудно было сказать, из каких сплавов, но верилось, здесь в самом деле варилась добрая сталь.
Конечно, они понимали, в жизни все сложнее, чем обычная плавка. Пройдут годы, и их победа будет упрочена. Но как знать, сколько и каких испытаний пошлет им судьба. Будет и то, что враг, скопив силы, сбросит забрало и станет в открытую биться за свою власть. Одиннадцать лет спустя после победы будет огонь и дым, кровь и смерть – все будет, и сын Голева, сраженный мятежниками, распластается на мостовой, когда-то политой кровью отца. Только освобожденная и возрожденная Венгрия все равно восторжествует!
Давно лег Голев, а нет сна, как-то ослабло все тело, закружилась голова; то ли от раны, то ли от усталости и нечеловеческого напряжения последних дней. Отгремевший бой все еще длится в дремотном сознании, калейдоскопически повторяя пережитое. Потом память находит дочь, по которой, не переставая, ноет отцовское сердце. Он видит ее то за чужим плугом, то с метлой во дворе, то растерзанной на фронтовой дороге. Где она теперь в германском краю? Жива ли, здорова?
Видится и другое. Упаковывая в цехе патроны, жена тепло улыбается ему и радостно говорит: «Это тебе, Тарасушка, бей проклятущих!» Мелькают обожженные и почерневшие лица людей, и в родном цехе льется отменная сталь. «Крепка ли?» – пробует Голев, помешивая еще кипящий металл. «Наша, уральская! – отвечают с гордостью: – Самолучшая!» Память снова перетряхивает событие за событием из близкопережитого вчера и сегодня. Перед глазами в берегах из обтесанного камня стелется Дунай, и над ним бронзовый Петефи, чьи стихи как-то по-особому трогают солдатское сердце.
Еще в Пеште, у памятника, Имре Храбец рассказывал Голеву о трагической гибели поэта.
В сражении за венгерскую революцию он бился до последнего, и его схоронили в общей могиле. Нашелся очевидец, слышавший, как Петефи негромко воскликнул, когда немец-саксонец поволок его к яме:
– Не хороните меня, я живой... Я Петефи!
– Ну и сдохни! – ответил саксонец и забросал могилу известью...
Голев беспокойно заворочался, вспоминая рассказ Имре.
– Максим, ты спишь? – стряхнув с себя дремоту, повернулся он к Якореву и легонько подтолкнул его в бок.
– Ты что, а? – даже привстал тот.
– Слышь-ка, не спится что-то.
– Тьфу ты, недобра дитына, – добродушно пробурчал Максим, поворачиваясь, однако, к Голеву. – Чем же я-то помогу?
– Тыщи верст лезут и лезут в голову, – оправдывался Тарас. – Никакого спокою. Всю душу бередит!
Голев закурил. Помолчали. И прошло немало времени, пока их обоих не одолел сон...
– Вставай, Тарас, вставай, дружище! – будил его Якорев. – Смотри, день-то какой!
Голев порывисто протер глаза. Над Пештом, как и над всей Венгрией, в самом деле вставал ясный, золотой день.
– Знаешь, Максим, – свертывая папиросу, сказал Голев. – Никогда не видел снов, а тут совсем одолели. Вижу, будто волосатый верзила с длиннющими-длиннющими руками обхватил и тащит женщину, приглядную такую, к яме, к большущей могиле тащит. А женщина, в крови вся, отбиться не может и уж едва твердит только: «Не хорони меня, я живая!..» «Ну и сдохни!» – ответил ей верзила-эсэсовец и начал в могилу закапывать. Сердце у меня ужас зашлось как. Бросился к нему, отбил женщину, на свет из земли приподнял, а он, гад, хоть и раненый, отполз и волком на меня, готов зубом хватить. А женщина та чуть привстала да как глянет на него недобрым взглядом. «Ну, думаю, эта теперь постоит за себя!» И вижу, будто издалека-издалека смотрит на меня мать, смотрит и говорит: «Любый мой, какой ты сильный у меня, сильный и хороший».
5
На трехсотметровой скале Геллерт после войны сооружен величественный памятник советским воинам, павшим в боях за свою Родину и за освобождение венгерской столицы.
На высоком постаменте молодая женщина, олицетворяющая страну, подняла над головой бронзовую миртовую ветвь, чтобы увенчать нашего солдата за его бессмертный подвиг. Суровое лицо воина обращено к югу, куда катятся синие дунайские волны. Его взору доступна вся Венгрия, великое дело ее людей. Им, живым, он принес сюда самое дорогое и заветное – свободу и счастье!
У подножия монумента – две символические фигуры, будто вырвавшиеся из-под земли. Одна из них схватила за горло фашистскую гидру и душит ее на глазах всего Будапешта. А другая взметнула над собой факел и светит всему городу светом правды и свободы, с которым пришел сюда советский воин.
Книга третья
ПРАГА ЗОВЁТ
глава первая
НА СЛАВЯНСКОЙ ЗЕМЛЕ
1
Южную границу Словакии полк Жарова пересек на рассвете, и машины весь день мчались по узкому заснеженному шоссе. Жители придорожных селений радостно встречали армию-освободительницу.
– А где Ческословенско войско? – все допытывались они на коротких привалах. – А нам можно туда? А возьмут?
У людей не праздное любопытство. Им осточертела старая жизнь, и они готовы биться за новую. Будут из них добрые солдаты. А как они воюют, Андрей видел у Днепра, знал по делам партизан, был наслышан про словацкое восстание.
Снова бои и бои. Изнурительные, ожесточенные. Контуженого Черезова пришлось отправить в медсанбат. Его батальон возглавил теперь Яков Румянцев. Как меняет человека степень ответственности! Видно, добрый активатор, если собирает все силы души командира. Недаром у него ощутимее теперь твердость и решимость, воодушевляющий людей порыв.
Доволен Жаров и Леоном Самохиным. Главное – офицер стал понимать, как необходим ему такт, чувство меры, честь командира.
Никола Думбадзе еще не вернулся из Буды. А без его батальона полк не полк. Борьба осложнилась, и сейчас не то что батальон, каждый взвод особенно дорог.
Полк с ходу вступил в бой за Кошице и первым ворвался в город. Разбитый противник отступал по дороге, огибавшей горный массив с северо-востока. Задача преследовать его выпала другим. А Жаров получил приказ создать облегченный отряд и наступать через горы прямо на запад, чтобы перерезать коммуникации противника. Следуя в голове колонны, Андрей еще не мог представить себе всех трудностей, что подстерегали его в пути. Роты растянулись в нитку, напоминавшую елочный серпантин. Кони скользили и спотыкались, на брюхе сползали вниз. Бойцы подолгу отлеживались на снегу. Батальон Самохина отправлен еще раньше, и его лыжня – самый ясный путеуказчик.
– Эх и здорова! – вздохнул Семен Зубец, глядя на кручу.
– Неужели на нее? – гадал Ярослав Бедовой.
Все выяснилось тут же: лыжня Самохина зазмеилась в гору.
– Мать честная! – ахнул разведчик. – И впрямь на нее.
На привале связисты развернули рацию, Оля Седова томительно долго упрашивала «Алтай» откликнуться «Уралу». Никакого ответа. А ведь точное время назначенной связи. Почему же молчит Самохин? Жаров махнул рукою – и снова в гору. Началась поземка.
Свернув рацию, Оля заспешила в колонну. Догнала Высоцкую, пошла рядом. У них свое горе. Никола и Максим не вернулись. Живы ли они? Такие бои! Даже сердце изболелось. Конечно, и здесь не легче. Но почему-то казалось, что главные опасности были там. А тут еще зачастил к ним Забруцкий и осаждает то одну, то другую. Мало того, запугивает их: дескать потери в Буде ужасные, и уцелеть там нелегко. Вот раскаркался черный ворон и еще более опротивел девушкам. Правда, внешне полковник корректен, вежлив, разговорится – не остановишь, и должному должное, поговорить умеет. Но назойлив, как жирная муха в комнате: жужжит, мечась из угла в угол, не отобьешься.
Идти рядом трудно, и разговор не клеится: то глубокий снег, то крутые склоны, и приходится карабкаться вверх.
Наконец перевал. Бойцы еле переводят дух: высок, проклятый! Но что это? Все широкое пространство перевала вдоль и поперек изборождено лыжнями. Самохин? Нет. Его лыжня пошла прямо. Так кто же?
Снова развернута рация.
– «Алтай», «Алтай», «Алтай», я «Урал», я «Урал»!.. – надрывалась Оля.
– Есть? – не терпелось Жарову.
– Молчит, – сокрушалась девушка, – прямо-таки мертво в эфире.
Жаров изучал следы. Они много раз перерезали лыжню Самохина. Значит, кто-то прошел позднее. На деревьях видны надрезы в форме стрел-указок. Ну кто же, кто? Сколько ни спрашивай, ответа нет. Значит, утроенная бдительность!
Метель разыгралась не на шутку, и вскоре – никаких следов. С отрядом через горы следовал и заместитель командира дивизии полковник Забруцкий. Он пытался было возвратиться в штаб, но Виногоров приказал ему двигаться с отрядом. Всю дорогу Забруцкий оставался возле командира полка. Ни во что не вмешиваясь, он шел километр за километром, внешне равнодушный ко всему на свете. Но в душе он томился неизвестностью предстоящего. Лес и горы, снег и мороз. Тут не хитро и сгинуть. Не лучше ли, пока близко лес, укрыться в шалашах и развести костер? А стихнет – будет видно, что делать.
Жаров задумался. На душу солдата и офицера давят опасности поистине тяжкого пути. У каждого готовый совет. Не прислушиваться к этому нельзя, но и полагаться на все, что кому-то приходит на ум, тоже невозможно. Может, в самом деле остановиться? Закопаться до утра в снег? Нет, только вперед! Это одно из тысячи возможных решений. Остановись – и кто знает, сколько наутро будет замерзших и обмороженных. А где Самохин? Не попал ли комбат в беду и не нужна ли ему помощь?
Еще гора, потом расщелина с крутым спуском. Ею можно выйти к горному селению, помеченному на карте. Ветер в расщелине хоть и потише, а свистит, как в трубе. Кругом белая мгла. На повороте поскользнулась вьючная лошадь и полетела в пропасть. Завечерело – наверху слабо мелькнул огонек и вроде послышался человеческий вскрик. Замерли, прислушались. Но вьюга-завируха мешает видеть и слышать. Нет, только вперед!
Круто сбегая вниз, лощина вывела к горному селению. Мелькнули огоньки крайних домиков. Но кто в них? Немцы или наши? Пока длится разведка, каждая минута кажется часом.
– Наши, наши! – донеслись с окраины крики дозорных.
Наконец-то! До чего же сладок теперь отдых!
Самохин вышел сюда еще засветло. На улице мертвая тишина. Неужели немцы? Вон торчат стволы их пулеметов. Вон стрелки. Даже пушка. Леон начал сближение. Почему ни выстрела? И когда совсем уже собрались в атаку, из-за крыльца выскочили двое с автоматами.
– Наши, советские! – закричали они во весь голос. – Товарищи, братья!.. Пришли наконец! – захлебываясь от радости, бросались они на шею каждому. – А мы ведь немцев ждали и чуть не перестрелялись с вами, – твердили словацкие партизаны.
Сколько их, встреч с людьми, взявшимися за оружие!
2
Ранним утром опять в путь. Горная глухомань. Леса, снега да хмурое небо! Лишь к вечеру отряд вышел к селению в узкой долине, которую со всех сторон обступили горы. Койшов! Сугробы по пояс. Жгучий мороз, перехватывающий дыхание. В горных расщелинах уйма перебежчиков. Эсэсовский полк с минометами и пушками третий день разбойничает в Койшове. Пьянки, грабежи, насилия.
Оценив обстановку, Жаров собрал комбатов. У каждого из них лишь облегченный отряд с усиленную роту, не больше.
– Будем атаковать, товарищи! – твердо сказал Андрей и вдруг увидел, чего никогда не было: офицеры замялись. Забруцкий молча глядел в сторону. Самохин опустил глаза. Румянцев развел руками: дескать, что же поделать? Лишь замполит Березин сохранял твердость.
– Не наступать нельзя, и наступать невозможно, – огорченно обронил Яков Румянцев. – Постреляешь с час, а потом дерись одними кулаками.
К осторожности взывал и Забруцкий. Трудная задачка. Ввязаться в бой не хитро. А осложнится – кто выручит? Выражая свою точку зрения, он поглядывал то на Жарова с Березиным, то на комбатов.
Андрей недоумевал. Чего он хочет?
– Значит, не наступать? – в упор спросил его Жаров.
– Во всяком случае, не спешить. Немцы втрое сильнее, и выбить их из Койшова не просто. А куда тогда раненых? Где у вас силы, чтоб вывезти их отсюда? Выходит, переморозить.
Андрею стало не по себе. Сколько ни обсуждай и сколько ни раздумывай, сомнениям и колебаниям не будет конца. Не так легко решиться тут на бой. А не решиться нельзя.
– Значит, не наступать? – переспросил он, глядя теперь на комбатов.
Румянцев и Самохин промолчали. Жаров почувствовал, дрогнуло сердце его командиров. Прикажи им – все пойдут куда угодно. Но что проку идти без веры: успеха не будет. Не смерть же страшит их: они встречаются с нею на каждом шагу. Тогда что же? Осмотрительность и осторожность? Трезвое благоразумие? Или еще что? Андрей знал, любое из подобных достоинств порою не стоит расчетливого риска, продиктованного обстановкой.
– Все же будем наступать! – повторил он твердо.
– Что ж, действуйте на свой страх и риск, – отступил Забруцкий. – Задачу комдив ставил не мне, а вам. И знаю, он предупреждал – не ввязываться в тяжелые бесперспективные бои. Помните, не ввязываться!
Жаров помнил. Виногоров не только предупреждал: им дан и срок перехода. Тогда что значит такое предупреждение? Пусть даже приказ. «Доверяй не только приказу, но и себе, – учил Виногоров своих командиров. – Ты ближе, и тебе виднее, как поступить, чтобы лучше выполнить задачу». В самом деле, как он, комдив, сможет решать сейчас, находясь отсюда за десятки километров? Решать ему, Жарову. Одному ему. И решать сейчас же, на виду у всех. Да и времени ему дано очень мало, может, всего мгновение, от которого зависит жизнь этих людей, весь успех порученного им дела.
Невозвратимое мгновение! Это судьба командира. У одних оно вызывает радость, воодушевление. У других – страх и ужас перед ответственностью. Нет выше чести, чем точно исполнить приказ. Но случится – сумей и возразить, даже ослушаться, поверить в себя, в людей, подчиненных тебе. Поверить больше, чем требует приказ!
Только наступать!
– Да, у них полк, – начал перечислять Жаров. – Да, батарея, горы боеприпасов. Да, их втрое больше. Что остается? Уйти – худшего позора не сыскать. Медлить – всех переморозить. Сами видите, остается одно – наступать! А ведь мы и не такое брали. Так, Яков! – тронул Андрей комбата за локоть. – Чего ж тогда киснуть? У нас тоже преимуществ немало. Главное – внезапность. К тому же противнику не узнать, сколько нас. И наконец, честь, долг – они не позволят ни медлить, ни уйти. – Жаров увидел: лица комбатов чуть посветлели, в их глазах блеснула решимость. – А раз так, за дело, друзья, за работу. Смотрите-ка сюда, – подвел он их к снежному брустверу наспех приготовленного наблюдательного пункта. – Посмотришь на Койшов – трудный орешек. А подумаешь – ловушка, для них ловушка. Вот идея удара. А теперь обдумаем. Ты, Григорий, – сказал он Березину, – с ротой справа, вон через тот лес. Ты, Леон, – повернулся он к Самохину, – слева начнешь, вон из той рощи. Тебя, Яков, пустим с фронта. Что получается? Остается им узенький выход. А туда весь наш огонь. А на батареи я нацелю потом разведчиков. Чем не ловушка? А? – вглядывался Жаров в повеселевшие лица комбатов.
– Не выпустим, товарищ полковник! – первым отозвался Самохин.
– Вот это мне нравится!..
Удар оправдал все надежды. Больше часа длилось побоище. Много убитых и пленных немцев. Но многим все же удалось пробиться по дороге в гору, где на обширной площадке их батарея.
Жаров приказал комбатам вывести бойцов за окраину местечка. Мера, которая сначала казалась крайней, была своевременной: противник начал бомбардировку Койшова из орудий и минометов. Откуда у него столько снарядов и мин? Затем, видно, боясь замерзнуть, немцы трижды безуспешно бросались в контратаку.
Командный пункт вблизи окраины оказался в зоне сильного огня. Снарядом разворотило угол дома. Взрывная волна разнесла окна.
– Моисеев, ужин! – с озорством напомнил Жаров. – Говорят, хорошая пища – половина успеха в бою.
– Есть и впрямь охота, я уже распорядился.
– А бойцам?
– Знаю, знаю, товарищ полковник, всем послал и хлеба, и сала, и кипятку в ведрах. Сам проверил.
– Ну что за молодец наш начальник тыла! – похвалил Андрей.
Новый снаряд угодил в соседнее здание, и оно загорелось.
– Хлопцы, гасить! – крикнул Моисеев и первым выскочил наружу.
Тяжела борьба. После утомительного горного марша в тридцатиградусный мороз – многочасовой бой. Роты лежат в снегу под прицельным огнем. Но, чтобы ослабить напряжение, надо решиться на большее. Сделать это нелегко, а отказаться невозможно. У противника горы снарядов. Он будет бить до утра. Разнесет Койшов.
– Леон, – поднял Жаров трубку, – готовь атаку!
– Атаку? – только переспросил Самохин.
– Да, атаку!
Что теперь думает комбат? Перед ним высоченная круча. Там наверху немецкие орудия, минометы. А у него на исходе боеприпасы. Распорядившись, чтоб все командиры половину гранат и патронов отправили Самохину, Жаров ушел за околицу.
Трассирующие пули идут поверху, расцвечивая темь над головами. «Ура» все выше и выше. Бойцы озлобились. Они еще не добрались до немецких орудий, как те прекратили огонь.
– Сматываются! – сказал Леон.
– Успеют ли?
– А что? – обернулся он к Жарову. – КП у них общий.
– В тыл немцам молодой словак повел разведчиков.
Огонь эсэсовцев заметно ослаб. И тем не менее, выбившись наверх, бойцы застали там еще высокие штабеля снарядов.
– Фью! – присвистнул Леон. – Это все бы нам на головы.
– Вперед, товарищи! Только вперед! – торопил Жаров.
Но бойцы не прошли и сотни метров вдоль дороги, как впереди возникла сильная перестрелка. Разведчики успели!
На дороге немецкие орудия, минометы. Чернеют туши перебитых лошадей. Раненые кони бьются в постромках. Много убитых немцев. Оставшиеся в живых бежали в горы.
Роты спустились вниз. Заслуженный отдых! Но девиз Жарова – действовать и действовать! И как ни тяжело, а Самохин, не возвращаясь в Койшов, уходит в ночную темь, чтоб захватить село по ту сторону перевала. Бойцы устали и изнурены, им нельзя не посочувствовать, и в сердце не раз шевельнется желание оставить их тут до утра – пусть отдохнут. Однако сочувствие это опасно: за то, что сегодня им удастся взять без боя, завтра придется расплачиваться большой кровью, а то и жизнью. Лучше пусть идут сегодня!
3
Невыспавшийся, но радостный и бодрый, Андрей сделал гимнастику, выпил кружку чаю и, взглянув на часы, заспешил на улицу.
Утро выдалось ясное, морозное. Сверкая зимним убором, гребнистые горы со всех сторон обступили израненный Койшов, мирно задымивший сейчас из своих труб. Больше всего Жарова радовало чистое небо. Значит, ничто не помешает прилететь самолету. Еще вчера полковник связался с Виногоровым. Поздравляя с успехом, комдив обещал боеприпасы и продовольствие сбросить на парашютах.
В назначенный час появился самолет. Он сделал большой круг и по сигналу ракетами скинул несколько парашютов.
– Человек, человек! – закричали вдруг бойцы. – Парашютист!
В самом деле: на всех парашютах тюки, а на одном ясно различима-человеческая фигура. Кто же это такой? Кто? Несколько томительных минут ожидания. Оказывается, Максим Якорев!
Оля так и обомлела. Подумать только, Максим! Растолкав солдат и пробившись к офицеру, бросилась ему на шею. Пусть думают, что угодно, а она не скрывает, как безмерно рада и счастлива. Ее не смущают даже добродушные смешки бойцов, чуть присоленные их незлобивой завистью. Пусть! Пересилив свои желания, она с трудом выпустила его из рук и вместе с ним зашагала к Жарову. Максима как-то смущали ее восхищенные глаза. Но он ясно видел в них и ласку, и нежность, и преданность, и верность, и безмерную любовь. На душе у него потеплело, а в глазах появились азарт и нежность одновременно.
Максим привез приказ комдива. Отряду Жарова предстояло выйти в тыл немецкой дивизии, отрезать ей пути отхода.
4
Стих бой, и все неузнаваемо преобразилось: и лес, и горы. Пылкий Никола с изумлением поглядел вокруг. Крепко рванули сегодня! Побросав оружие и сбившись в кучи, перепуганные немцы, только что остервенело бившиеся врукопашную, тянули вверх белые флажки. Лес на склонах казался теперь гуще, а горы ниже и ровнее. Низкое солнце скупо освещало их холодным красноватым светом. А искрящийся снег, слепивший им глаза и набивавшийся за воротники полушубков и в валенки, с трудом таявший на обмерзших щеках и подбородках, стал сейчас бледно-фиолетовым на солнце и тускло-синеватым в тени.
Весь день они мерзли в снегу. К немцам подбирались ползком по канавам, прячась в воронках от снарядов. Незадолго до атаки Никола под огнем сделал перекличку, чтобы хоть примерно определить потери. Люди не видели друг друга, не могли поднять голов, но узнавали своих по голосам. Сколько они проползли за всю войну!
На тылы немецкой дивизии Жаров обрушился в точно назначенный срок и отрезал ей пути-дороги. А Думбадзе с Костровым ударили с фронта. Немцам ничего не оставалось, как капитулировать или погибнуть. На этот раз победил здравый смысл, и вот они скучились, хмурые и испуганные.
Разместив роты в горном селении, Никола заспешил к Жарову. Но отыскать его в сутолоке после такого боя не так просто.
Приняв рапорт, Андрей по-братски обнял Николу, тепло поздравил с успехами в боях за Буду и пригласил на обед.