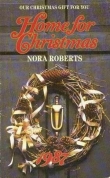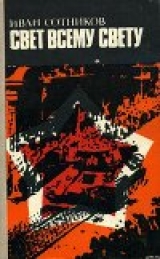
Текст книги "Свет всему свету"
Автор книги: Иван Сотников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
– Да вы что, боитесь? – в упор посмотрел майор на разведчика. – Самохину труднее было – выстоял же.
– Нет, что вы! – потупил взгляд Ярослав. – Я не боюсь.
– По глазам вижу, боитесь, – настаивал замполит. – Кто еще боится, товарищи? – Помалкивая, бойцы со смехом поглядывали на Бедового.
– Да всем, думаю, малость боязно, – смягчая общую неловкость за товарища, тихо заговорил Голев. – А долг свой все исполнят.
– Помните, друзья, завтра самый большой праздник! – Березин заговорил о времени, когда никого из разведчиков еще не было на свете. Лишь немногие из них родились в гражданскую войну. Их отцы тоже воевали, и им было труднее. Голод. Разруха. Кровопролитные бои.
Максим слушал, и все, давно известное еще из учебников, сейчас воспринималось совсем иначе. Да, были и «Аврора», и Зимний, и Колчак с Деникиным, и нашествие четырнадцати государств. Потом мирные годы, индустриализация, пятилетки. Все казалось таким нужным и должным: отцы боролись и строили – они учились. Сегодня же им, комсомольцам, еще ближе и понятнее подвиг отцов, дело всей их жизни, которое надо отстоять и упрочить...
Закончив беседу, Березин подошел к Ярославу:
– Вы на какой лодке едете?
– На третьей, товарищ майор.
– Я тоже с вами.
Отойдя в сторону, Максим поманил за собой Ярослава, взял его за руку повыше локтя и тихо зашагал рядом.
– Ты что?
Разведчик потупил голову и ответил не сразу:
– Понимаешь, Максим, на земле привык, а как на воду – жуть берет.
Максим чуть крепче сжал руку товарища и с минуту шел молча. О чем сказать ему сейчас? О воинском долге и присяге? О мужестве? Сколько говорено и переговорено об этом еще в Румынии! А душа у бойца опять не на месте. О чем же напомнить ему, чем подбодрить?
– Ну ладно, – заговорил он, приостановившись, – пули ты боишься, а позора? Ты почему тогда в Румынии выскочил плясать на бруствер, боялся, засмеют? А если засмеют теперь? Этого ты не боишься?
– Больше смерти! – прошептал Ярослав.
– Крепись, дружок, стисни зубы и делай что надо. Сам увидишь, страх исчезнет...
Ярослав доверчиво припал к плечу Максима, и они молча пошли дальше...
3
Первые залпы вздыбили землю у самого берега, и над ним встало черное облако. Предрассветные сумерки растаяли в огне немецких ракет, феерический отблеск которых в Тиссе будто поджигает ее с глубокого дна. Тысячи трассирующих пуль расцвечивают воду. А потом река вдруг и в самом деле вспыхивает узкой полоской пламени: немцы, видимо, спустили в реку много нефти или бензина и метущееся пламя с метр вышиной создает растущий на глазах огневой барьер.
Начали! – возвестили две красные ракеты: одна в небе, другая в воде. Артиллерийский вал откатился дальше за реку, к насыпи. Огневой барьер полыхающей Тиссы разорван на части, но большие огневые круги все еще плывут по реке и острыми языками пламени как бы пытаются уцепиться за воду. Лодки разведчиков как раз на подходе к огневой завесе.
– А пройдем ли? – забеспокоился Ярослав, крепче уцепившись свободной рукой за сиденье. Свое тело казалось ему ужасно тяжелым – не сдвинешь с места.
– Взбалтывай воду веслами! – вскрикнул Березин.
Впрочем, сила огня оказалась слабее, чем представлялось издали, отражение удваивало величину пламени. От взмахов весел оно качнулось в стороны, освободив лодке чернеющий проход, и снова сомкнулось за ее кормой. Густая трасса искрящихся пуль прошла низко над головами, и все инстинктивно пригнулись. Березин тесно прижался к Бедовому, заслонив его собою, и Ярославу сделалось не по себе. Сколько слышал он о войсковом товариществе, о выручке в бою, о бойцах, принимавших смерть, защищая командира. А тут сам командир заслонил бойца. В душе у него разом смешались все чувства: и признательности за участие, и стыда за малодушие. Исполненный решимости стряхнуть с себя эти проклятые страхи, он рывком сорвался с сиденья.
– Вперед, друзья! – первым прыгнул с лодки Березин.
Ярослав, не задумываясь, бросился следом и уже с берега на миг оглянулся назад. Черным строем приближались лодки Думбадзе, за ними шли плоты с танками. Их обгонял легкий паром с орудиями. А пушку Руднева уже вытаскивали на песчаную отмель. Раскатистое «ура» словно подтолкнуло Ярослава.
Треск, грохот, огневые вспышки, призрачные сполохи ракет, свист пуль, крики людей – все невообразимо смешалось и слилось уже в нераздельную картину боя. Ярославу показалось, что он ничтожная песчинка, подхваченная неведомой бурей.
Перескочив с маху траншею, он споткнулся и упал возле убитого немца с окровавленным лицом. Ярослав ощутил вдруг, как на него снова обрушились неподвластные ему страхи и с силой прижали его к земле. «Делай что надо!», «Делай что надо!» – звучали в ушах слова Максима, и Бедовой с злым упорством вскакивал и бежал, стреляя на ходу из автомата, падал, снова вскакивал и снова бежал.
Огонь с дамбы усилился, и цепь залегла. Максим с лета упал возле Ярослава. Шел второй час боя, и огневое сияние Тиссы чуть потускнело: передний край борьбы все более удалялся от берега. Максим увидел, как из кустарника поднялись вражеские цепи. Он узнал их по зеленовато-желтым шинелям, которые на солнце кажутся чуть ли не оранжевыми. Контратаку бойцы встретили огнем пулеметов. Мадьяры залегли, но тут же короткими перебежками пошли на сближение. Тем хуже для них. Максим дал зеленую ракету, и сразу – залп за залпом. Желтые кусты, через которые пробивались мадьяры, вмиг почернели.
Ярослав помог артиллеристам продвинуть пушку. Только установили ее, как навстречу выскочили три «пантеры». Одна из них летела на бешеной скорости. Секунда – и она сомнет пушку. Ярослав в испуге отполз в сторону, приготовив гранату. Наводчик же плотнее припал к прицелу. Грянул выстрел в упор. Хищница задрала бронированный нос, словно привстав на задние лапы, и застыла на месте с развороченным рылом.
– Эх, мать честная, – рассердился Руднев, вытирая рукою взмокший лоб, – сектор обстрела испортила. Меняй позицию!
Слова сержанта оборвал грохнувший вблизи разрыв.
– Эге, нас присмотрели! – понимающе оценил обстановку командир орудия. – А ну быстрее влево!
Ярослав переместился вместе с артиллеристами, а только что оставленная позиция уже дымилась от нового залпа.
– Каюк бы нам, задержись мы на том месте, – оглянулся Руднев.
Из кустов появились семь танков. Мчались прямо на разведчиков. Сжимая в правой руке гранаты, им навстречу поползли Зубец, Орлай, Бедовой. Первый танк летит прямо на Зубца. Разведчик привстал на четвереньки, отполз вправо. Что ой, испугался? Нет, нет. Пропустив машину, метнул вслед гранату, и стальная махина в пламени. Ай да Зубчик! Второму танку Ярослав угодил в борт и без передыху бросил еще гранату. Эх, погорячился! Две машины подбили артиллеристы. Остальные танки повернули вспять.
– За мной, на дамбу! – прокричал Максим и вместе с бойцами вырвался к земляному валу. – Что за черт, мины! – зло выругался он, разглядев их у самой насыпи. Из-под земли торчали высокие рукоятки, опутанные тонкой проволокой. Зацепись – и сразу на воздух. Только не залегать, иначе все пропало.
– По гранате на мины, по две – по насыпи, за мной! – и первым вымахнул на дамбу.
Сзади раздался взрыв, и рухнули сразу двое. У Максима больно защемило грудь. Вот цена его решимости. Но кто знает, какой бы страшной ценой заплатил он, не прояви этой решимости.
Противник бросил навстречу спешенную роту венгерских гусар в синих коротких куртках. Но подоспели тридцатьчетверки, и гусары рассеялись. Разведчики ворвались в венгерское село уже за насыпью. За крайними домиками в саду полно трупов. Синие куртки в крови, лица убитых перекошены и обезображены. Венгерских гусар за неудачу расстреляли немцы.
– Вот те и дружба! – сказал кто-то.
– Долго они вместе не навоюют, – добавил Якорев.
Лишь к полночи стихли немецкие контратаки. Дугообразная насыпь осталась за Жаровым. Однако Андрей тревожно прислушивался к шуму боя слева. Там полк Кострова отбивал ожесточенный натиск немцев, расходуя последние боеприпасы. У Жарова их тоже мало. Тем не менее, что мог, он послал туда. Переправа разбита. Комдив мобилизовал уцелевшие средства, чтоб помочь Кострову.
На дамбу примчался разгоряченный Моисеев. Он стал увереннее, и Жаров высоко ценил в нем талант организатора и руководителя полкового тыла, меньше нажимал на него, хотя Моисееву все еще нередко доставалось за промахи. Сейчас он привез три подводы с патронами и гранатами. Выдав свой обоз за подводы Кострова, начальник тыла пробился к переправе, проник на паром и ухарски подлетел к дамбе, зная, как дорог тут каждый патрон. Начальник штаба уже готов был распределить боеприпасы среди комбатов.
– По подводе? – обратился он к Жарову.
– Моисеев нарушил приказ комдива, – остановил тот начальника штаба, – и у нас один способ выполнить его – немедленно отправить подводы Кострову.
Начальник тыла смешался:
– Как отправить?..
– И немедленно! – повторил Жаров.
– У нас у самих ничего нет.
– Собьют Кострова – нам никакие боеприпасы не понадобятся.
Моисеев нехотя и с досадой взобрался на переднюю повозку. Никогда не знаешь, как поступит этот Жаров.
– Но, каурая!.. – хлестнул он нерасторопную лошадь. – Но-о!..
4
Когда стих бой, к Леону пришла Таня. Села рядом, молча прильнула к плечу, и у нее сразу потеплело на душе. Они столько выстрадали вчера и стольких похоронили сегодня! Сердце было полно жажды внимания, участия, заботы. Новые неудачи Леона растревожили Таню. Она всегда хотела, чтоб стал он энергичнее, упорнее и превзошел самого себя. Однако не безответная ли к ней любовь мешала ему быть таким? А вчера и сегодня в бою Леон был необычайно прост и человечен, он изумлял всех своим упорством, стойкостью, умением направить людей, и разве его вина, что противник подавлял силой.
– Я тебя очень люблю, – тихо сказала Таня.
Леон и обрадовался и насторожился. Что с нею? Сочувствие или жалость из-за его неудач? Только сомнения бессильны отравить ему радость. Его охватила необычайная нежность к ней, готовность ко всему, чего бы ни потребовала Таня. Он тихо обнял ее и осторожно поцеловал. А потом долго-долго сидел молча, пытаясь разобраться в ее чувствах. Вот и недавно вроде примирилась с ним, даже расцеловала, а сердечной близости все же не было. И какова она будет, их любовь, теперь?
Не зажигая света, он уложил Таню в землянке, заботливо укрыл своей шинелью и отправился в роту. А когда вернулся, Таня спала. Он присел у порога, глядя на звезды. Как смешно все-таки устроена жизнь, и как много искушений на пути человека. Как же преодолеть их и сделать самое главное, к чему ты призван в жизни? И как надо любить, чтобы любовь помогала жить? И судьба ли ему выжить, коль всюду столько страданий, крови, смертей? Он пристально глядел на Большую медведицу, словно искал у нее ответа, но она, опустив голову, все так же безмолвно глядела вниз.
Дня через три Самохина вывели в резерв и вызвали к командиру полка. «Не на проборку ли? – гадал он дорогой. – А за что? За дамбу? За потери? Или за все сразу? Ведь столько танков! Сначала семь. Затем двадцать. А под конец все тридцать. Чуть не по танку на бойца. Они по тебе из орудий, а ты из автоматов. Сдержи попробуй. Будь бы хоть гранат вволю. Правда, помогли бронебойщики. Но это же не артиллеристы. Ведь врукопашную приходилось. Так и скажу, врукопашную! Только где доказать!» – морщился Самохин.
Жаров встретил его как-то сдержанно и, как показалось Леону, хитро посматривал исподлобья. Поздоровался, а сесть не пригласил, что было недобрым предзнаменованием.
– Ну что, Самохин?
– Товарищ подполковник, невозможно было стоять.
– А стояли...
– Пятились, конечно, иначе отрезали б...
– А не поддались.
– К самому берегу прижали.
– А не сбросили.
Леон никак не мог понять, в чем тут ирония и чего в конце концов хочет от него Жаров?
– Поздравляю, – протянул Андрей руку, – от души поздравляю! На, сам читай, – подал ему радиограмму.
Леон удивленно взглянул на командира. Неужели орден? Вот чудо. А сам уже развернул загадочный листок. Что такое? Не может быть! Он метнул взгляд на Жарова, опять взглянул на листок. Неужели? Он даже протер глаза.
– Товарищ подполковник!
– От души поздравляю... – повторил тот, понимая состояние офицера, – с высоким званием Героя Советского Союза!
– Товарищ подполковник... служу Союзу... Советскому Союзу служу... – махнул он рукою, окончательно запутавшись.
– Все по заслугам! Геройски получилось. Смотри, сколько танков набили. Ведь врукопашную, можно сказать. Так и писал комдиву.
– Я просто оглушен, – улыбнулся наконец Самохин. – Думал, проборка, всю дорогу объяснения обдумывал. А тут...
– А теперь садись, сейчас придет Березин, будем завтракать.
5
В доме венгра-учителя звучный рояль, и Думбадзе всех заворожил своей игрой. Черезов утонул в кресле, положив подбородок на переплетенные пальцы рук. Откинувшись на спинку, молча сидел на диване Березин. Поодаль от него – дочь хозяина, красавица Илона, в простом элегантном платье. Нет-нет, она взглянет на Николу, и в глазах ее неподдельный интерес. Жаров, скрестив на груди руки, застыл у окна.
Знакомые мелодии Чайковского словно оживили родной и любимый мир, не сравнимый ни с чем на свете, и Андреем сразу овладело сладостное оцепенение. Задушевная музыка, убаюкивая и навевая сон, заставила его закрыть глаза.
Возник мир, полный солнечного блеска, зеленеющей травы, золотых и серебряных цветов. Где-то звонко журчит ручей и манит ключевой прохладой. Шумит белоствольная роща. Чувствуется свежесть ветра, навстречу которому так и хочется распахнуть грудь. Потом он усиливается, обещая грозу, и будто уже льет прохладный живительный дождь. Над рекой и лесом встает семицветная радуга, а с лодки, похожей на чайку, доносится песня, дивная и зовущая.
Песня! И будто стоишь ты под липой в медвяном цвету и любишь все и радуешься всему, и тебя вдруг охватывает жажда счастья, жажда действия, бурного и неудержимого, а руки и мысли твои полны пламенеющей силы, готовой и созидать и разрушать.
Звучным аккордом Никола оборвал любимую мелодию, и Жаров открыл глаза с чувством, будто все еще стоит под той липой.
Направляясь к роялю, Илона что-то сказала Думбадзе. Ее слова перевел местный толмач[42]42
Переводчик.
[Закрыть]. Девушка восхищена русской музыкой, и она вызвалась сыграть Листа. Никола предупредительно уступил ей место.
– Венгерская рапсодия! – кокетливо полуобернулась она в сторону офицеров, чуть придержав взгляд черных глаз на Думбадзе.
В музыке почувствовался иной мир, иные звуки и краски, и в душу Жарова на минуту прокралась щемящая грусть. Будто опустился сумрак: то ли вечер, то ли ночь. Лес из синеватых деревьев с хищными птицами, которые хлопают крыльями. Мельница и омут с опрокинутым небом, в котором с кулак звезды. Потом вдруг музыка будто стихает и смолкает совсем, а картины сменяются одна за другой. Уже независимо от музыки. Всплывают то феерический отблеск ракет, то багровый накал пожаров, то полыхающая река. А все звуки мелодий, идущих будто из-под земли, все настойчивее вытеснялись речитативом пулемета, скороговоркой автомата, бухающими разрывами орудийных снарядов. Это вдали за селом снова разгорался бой.
Пока Илона играла, из-за драпировок двери в соседнюю комнату робко выглядывала семнадцатилетняя монашка Барбара, младшая сестра Илоны. Она затянута в строгое черное платье с белой крахмальной пелериной и безмолвна, как изваяние.
Она как бы отрешилась от жизни и забыла ее прелести. Но вот пришли чужие люди, и покорность, которой полно еще ее любое движение, голос, взгляд, то и дело уступает место жадному любопытству к новому миру, какой принесли сюда эти люди из далеких и неведомых ей городов, к их музыке и песням, к их силе и авторитету, к их оружию.
Андрей решил познакомиться с молодой мадьяркой. Он прошел за портьеру и, откинув ее, с помощью толмача заговорил с Барбарой.
– А у вас есть девушки-монашки? – робко спросила она.
– Наших девушек ни в какой монастырь не заманишь – слишком сильно они любят жизнь! – ответил Андрей.
В глазах Барбары неподдельное любопытство, и она сама чем-то напомнила вдруг свежий цветок, только что распустившийся, но безжалостно вырванный из земли с корнем и затоптанный в грязь. И казалось, еще не поздно поднять его и, бережно оправив корни, опустить их в почву.
– Вам бы учиться, – сказал ей Жаров, – а там бы и детей учить. Вот жизнь! А в монастыре загубите себя.
– Нет, нет, я служу господу богу, – смиренно ответила девушка.
Но в больших голубых глазах ее Андрей увидел явный бунт мыслей и чувств. Он еще в зародыше, этот бунт, но пройдет время, и ей самой покажется странным и ненужным это строгое платье с белой крахмальной пелериной, смиренные речи и тупая покорность. Жизнь и молодость возьмут свое.
глава шестая
БЕССМЕРТИЕ ПРАВДЫ
1
От сорока батарей к берегу Бодрога бегут бесчисленные нити проводов, и каждый из них мчит команду за командой. Штормовой огонь уже с час бушует за рекою. Железнодорожная насыпь, из-за которой только что били немецкие гаубицы, рассечена надвое, и рельсы ее торчком уставились в небо. Густая роща, откуда целые сутки завывали шестиствольные минометы, сметена с земли.
На месте кирпичного здания с панцирной крышей, где из слухового окна маячила стереотруба наблюдателя, – одни руины. Низколобые неприступные доты, изрыгавшие огонь, разворочены и чуть не до колен выковыряны из почвы. Зигзаги траншей, укрывавших пехоту, превращены в ухабы и рытвины. Все пригорное займище, за которым в смертельной тоске притих большой город, залп за залпом вздымается на воздух.
Шаторальяуйхей скучился у подножия приземистых гор, что нависают над ним сзади. Полк Жарова наступает на южную окраину, куда подходит железная дорога из Будапешта. Левее атакует полк Кострова.
Огонь вплотную подступил к городу. Андрею ясно, еще команда – и артиллерийские залпы сметут Шаторальяуйхей. Значит, либо разрушать город, либо искать успеха иным путем.
Как же все-таки выбить отсюда противника? Видимо, лишь угрозой с тыла. Тщательно обдумал решение, подготовил маневр. Как раз позвонил Виногоров. Он не хочет мириться ни с какой задержкой. Ломать и ломать! Даром противник не отдаст окружного центра.
Жаров вызвал Хмырова, рота которого у него в резерве. Окинул его долгим взглядом и как-то заколебался. Не лучше ли все-таки заменить? Куда надежнее послать Самохина или Румянцева. Но время, время! А потом, что за дело: как сложная задача, так подавай лишь лучших. Сегодня один, завтра другой, а послезавтра? И зачем тогда держать командира, если в нужную минуту ему нельзя доверять? Не шутки же шутим.
Хмыров ожидал молча. Долговязый, немного сутулый, с узким сухим лицом и длинными руками, чем-то он не располагал к себе. Упрямая голова! Возни с ним было немало. Тянули и подталкивали, учили и помогали. Случалось, и наказывали, а заслуживал – награждали. Пошло ли все ему впрок? Правда, стал сдержаннее. Пожалуй, и крику меньше, и порядку больше.
– Вы готовы, Хмыров?
– Так точно...
– И сможете действовать отлично?
– Изо всех сил.
Ответ Жарову понравился.
– Тогда смотрите. Видите высоту, вон ту, с часовней в ограде? Да, да, над центром города. Это ваш объект. Выйдете к подножию высоты – дадим налет реактивными. Ваша задача – занять и закрепиться, угрожая противнику с тыла... – и подробно уточнил задачу.
– Разрешите идти?
Лицо командира твердо и решительно.
– Высота, Хмыров, – ключ к городу.
– Возьмем,товарищ подполковник.
– От вас зависит успех полка, дивизии.
– Не подведем, – загорелся Хмыров.
– Тогда с честью!
Пока выдвигалась рота, сражение успело перекинуться в самый город. Но продвижение очень медленное.
Где нет немцев, венгры охотно сдаются в плен: режим салашистов их не устраивает. А где немцы и засилье салашистов, мадьяры еще не складывают оружия: их удерживает угроза расстрела.
Направляя роты, Андрей с нетерпением ждал условного сигнала у горы с часовней. Как дорога сейчас каждая минута!
– Красная ракета! – радостно воскликнул наблюдатель.
Ага, Хмыров! Грянули залпы «катюш». Синие молнии блеснули на склонах высоты. Путь теперь расчищен. В бинокль хорошо видно, как по крутому склону карабкаются вверх бойцы Хмырова. Успел все-таки. Сейчас общий натиск, и немцам деваться некуда...
2
Поздно вечером Жарову позвонил начподив:
– Слышал приказ?
– Никак нет, товарищ полковник, только что с передовой.
– Всем благодарность, салют, и в приказе твоя фамилия.
Андрей долго не мог опомниться. На всю страну прозвучал новый победный приказ, салют Москвы. В душе ничем не измеримый вихрь чувств. Это вера партии, ее знамени, с которым каждый день в бою. Он знает, все силы души, все силы его рук принадлежат ей сегодня, завтра, всегда!
Прихрамывая, вошел Березин. Подбили его в городе.
– Ты что такой сияющий, ай еще звездочку дали? – уставился он на Жарова.
– Да нет же...
– Наградили, значит?
– Есть приказ Москвы. Сейчас пришлют.
И Андрей пересказал свой разговор с начподивом.
– Тогда поздравляю! – обрадовался и Березин.
– И тебя поздравляю! – обнял его Жаров. – Твой Хмыров молодец!
– Почему же мой?
– Ладно, не скромничай. Не поддержи его ты, я бы снял...
– И считал бы себя правым?
– Конечно. Как бы я узнал, что он способен на большее?
– А командиру положено знать и предвидеть.
– Все это так, Григорий, и все не так. Тоже диалектика. Что только не мешает нам делать положенное! Тебе вот тоже положено в медсанбате отлеживаться, а ты тут. А должен бы иметь и замену, заранее. Нет, скажешь? Тоже диалектика! И кто знает, примиряясь со всем этим, мы с тобой укрепляем порядок и организованность или нарушаем. Верь не верь, а я, право, не знаю порой, как в таком случае провести грань между добром и злом.
– Все равно их не смешаешь...
Березин спешно собрал взводных агитаторов.
– Надо, чтобы каждый понял, – говорил им замполит, – это ему за его ратный труд, за подвиги в бою объявлена благодарность, ему гремел салют, его успехам радуются люди, Москва. О героях с огоньком расскажите, пусть все знают.
– Героев кругом полно – бой-то какой! – первым откликнулся Голев.
– Вот и хорошо, – одобрил майор, – а как бы, к примеру, вы рассказали, а? – приблизился он к парторгу.
Тарас чуть не растерялся от неожиданности.
– Да как было, так и сказал бы: ведь каждый человек на виду.
– Вот и расскажите, – не отступал Березин. – Пусть агитаторы послушают.
– Да хоть Закирова взять – герой! Сапер наш, – пояснил Голев. – Богатырь богатырем. Пушку везли на плоту сегодня. Бац – снаряд рядом. Плот на дыбы. Если б не Закиров, быть бы пушечке на дне. Из своей бронебойки три пулемета подбил, танк подпалил. Потом двух раненых из-под огня вынес. Разве не герой!
А пленных привел, – напомнил Максим. – Заскочил в бункер, видит – полно. Припер их и кричит в окно по-венгерски: «Сдавайся, не то всем капут!» Они – белый платок. Всех и привел.
– Герой и есть наш Закиров, – заключил Березин. – Так вот и о каждом рассказать надо. Пусть все знают.
3
Всю ночь Жаров просидел за наградными листами. Сколько отличившихся! Читая, он заново переживал весь штурм города.
«Рядовой Орлай – отважный воин, – читал в представлении. – Снял трех наблюдателей, выбил расчет орудия. Одним из первых ворвался в город. Представляется к ордену Красной Звезды».
Вот тебе и новичок. Не написали только, как, забравшись на колокольню, он вместе с Козарем всю улицу держал под огнем. И сколько пленных привели. И танк поджег. Как умолчать об этом! Нет, пусть перепишут реляцию. Да и Красной Звезды ему мало. К Отечественной Войне первой степени надо.
«Рядовой Матвей Козарь, – читал он дальше, – первым ворвался в немецкую траншею. В рукопашной схватке убил четырех и семерых взял в плен, в том числе офицера-эсэсовца. Представляется к ордену Отечественной Войны II степени».
Жарову вспомнилось, как привел Матвей свою семерку. Немцы понурые, наверно, уж тысячу раз с жизнью простились, а он орла орлее. Да, этот гуцул не раз показал себя. Огневой солдат! Что ж, ему мало, а хорошо написали.
Андрей принялся за новую пачку.
Скупые реляции Черезова не удовлетворили Жарова, и он вызвал комбата.
– Как вам нравятся эти реляции?
– Есть и слабоватые... – потупился Черезов и заерзал на стуле.
– Так зачем же подписывали их?
Отвечать тому нечего.
– Видите, нехорошо получается. Давайте-ка посмотрим вместе.
Черезов уселся рядом.
– «Сержант Руднев, – читал Жаров вслух, – со своим орудием был впереди всех. Подбил танк и самоходку противника. Потеряв в бою орудие, отличился в атаке и захватил немецкую пушку. Представляется и ордену Отечественной Войны I степени». Хорошо, а неполно.
– Коротко же требуется... – оправдывался комбат.
– Ах, Черезов, Черезов, – встал из-за стола подполковник. – Слышал, дорогой мой, как вы беседуете с солдатами о том же самом. Живая картина прямо, сразу чувствуется, подвиг человек совершил. Ведь и писать так же надо. Вспомним-ка, что сделал наш Руднев... Немецкий танк летел как бешеный. Промахнулся один, второй. А Руднев первым выстрелом угодил. Не останови он танка – тот бы к реке вырвался, а там рота высаживалась. Дальше, помните, немецкие пулеметы распластали Самохина. Кто подавил их? Руднев. А захватил немецкую пушку, как ее, на тележных колесах, – семидесятипятку. Сколько он подбил из нее огневых точек? Он Красного Знамени достоин.
Черезов смущен.
– Посмотрим еще, – и Жаров зачитал несколько представлений. – Сухо, правда? Ни живого дела, ни человека не видно.
– Н-да.. – протянул Черезов, – говорил же, пишите полнее.
– Говорили – хорошо, а не проверили – плохо. Не только скажи, а и потребуй. Так ведь?
– Сделаем,товарищ подполковник.
Принесли чай, и завязался непринужденный разговор. Оказывается у комбата вовсе нет времени ни на газету, ни на книгу, ни на нормальный отдых. Как же так? Нету, и все. Вот уже с месяц читает лишь сводки. Жаров изумился. Как он не научил Черезова ценить время? А ведь нетерпимый к медлительности, Жаров часто обрушивался на его нерасторопность. Бывало, он все запаздывает, о многом забывает, хоть и работает не покладая рук. Не хватало ему сноровки, темпа, умения на лету схватывать необходимое. Может, это потому, что в армию Черезов пришел из большого колхоза, где был председателем. Он привык там подолгу обдумывать всякое дело. Но там один темп жизни, на фронте – другой. Комбат просто не успевает. «А я все гну и гну, хоть он потом обливается». А ведь слово поощрения на него действует крепче, чем самый назидательный выговор.
Во время штурма города комбат проявил много энергии и упорства. Что ж, это хорошо, но нельзя забывать и про его промахи, они почему-то показались сейчас редкими сорняками в необъятном поле хлебов, где каждый колосок – его достоинство. Что ж, можно любоваться хлебным полем, но рачительному хозяину нельзя забывать и про сорняки. Без них и поле чище, и сорт зерна выше.
– Вы и сами сегодня действовали отлично, – сказал Жаров комбату, – и сами достойны высокой награды!
Черезов смутился и встал.
Жаров проводил его долгим и добрым взглядом.
За низким окном полуподвального этажа чуть брезжил рассвет, слышалась перестрелка, которая то напряженно вспыхивала, то почти смолкала. Выпив еще стакан крепкого чаю, Андрей придвинул к себе новую стопку наградных листов.
«Лейтенант Хмыров, – читал он реляцию, – смело вел роту на штурм города. Скрытно обойдя его с юго-запада, он пробился к ключевой высоте и стремительным ударом овладел ею, водрузив на ней Красное знамя. В бою за город действовал умело и отважно, что облегчило успех атаки с фронта. Представляется к ордену Красного Знамени».
Андрей непроизвольно перевернул карандаш и не-очиненным концом тихо застучал по столу. Вот все верно, и ордена он достоин, и лист его будет подписан, а нет к нему доверия. Конечно, тут не личная неприязнь. Просто неприглядно его назойливое «ячество»: «Я взял», «Я продвинулся», а случится задержка – «Я сам пойду». Оттого и промахи его слишком заметны, а успехи, даже нередкие успехи, не находят в душе теплого отклика. Слишком уж привержен ко всему личному в противовес общим интересам, ценить которые командир не умеет.
Сегодня, во всяком случае, он действовал отлично: должное – должному, и Жаров размашистым росчерком подписал его лист. Едва он отложил его в сторону, как на пороге появился сам Хмыров. В лице – ни кровинки, в глазах лихорадочный блеск. Плечи обвисли. Весь он вроде осоловелый, хоть в судорожно сведенном лице ощутимо неизъяснимое напряжение: будто он хочет закричать – и не может.
– Что случилось, Хмыров? – вскочил Жаров.
– Немцы... на высоте...
– Немцы? Вы что!..
– Захватили они... – с трудом выдавил командир..
В мертвой тишине Жаров расслышал только, как хрустнули пальцы его рук, и он изо всех сил стиснул зубы, чтоб не раскричаться. Даже согнулся, готовый броситься на виновного.
– Рассказывайте толком! – потребовал он, выпрямляясь и не расслабляя рук; все в нем еще бурлило и клокотало: – Рассказывайте!
– С вечера все как по маслу... – с дрожью в голосе заговорил Хмыров. – Засели, окопались. Огонь как огонь. Обошел взводы. Два по скатам, третий – на самой вершине. После полуночи артналет и бой наверху. Сумасшедший. С маху туда. Подлетаю, а мои обратно – без патронов уже. Собрал людей – и наверх! А там не подступись! От взвода лишь семеро уцелели: все полегли. Как саранча на них набросились, товарищ подполковник...
Срывающийся голос офицера глух и накален.
Противник захватил у него лишь самую вершину. Но с нее весь город виден, как в пригоршне. Установи немцы орудия и минометы – ни пройти, ни проехать. Ясно – выбивать немедленно. Только трудно придется, ой трудно. Ее не возьмешь сейчас и батальоном.
Такой штурм, салют Москвы – и такая беда! «Эх, Хмыров, Хмыров! Дорого обойдется тебе высота с часовней, очень дорого».
– Значит, бросили роту – и ко мне...
– Никак нет, там комбат остался, он сам послал меня...
Ясно, нужно докладывать комдиву. Как после салюта Москвы сказать ему, что ключевая высота у противника?
– Вы что, Жаров? – услышал он голос Забруцкого. – Что противника распустили: палит и палит.
Комдив отдыхает, и приходится докладывать его заместителю. Опять будет метать громы и молнии. Однако в прятки играть нечего, и время не терпит.
– Высота с часовней... – бухнул Андрей напрямки, – опять у противника, он и бьет оттуда. Будем сбивать.
– Вы что! – опешил Забруцкий. – С ума посходили! Как смели? Почему молчите? Почему бездействуете? Да вас под трибунал мало! Немедленно вернуть! Слышите, немедленно! Лично отвечаете.
– Будет исполнено, – тяжело вздохнул Жаров, опуская трубку.
Но Забруцкий, видно опомнившись, тут же позвонил сам и сердито потребовал объяснений. Жаров доложил.