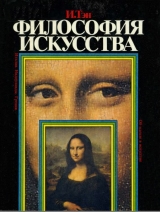
Текст книги "Философия искусства"
Автор книги: Ипполит Адольф Тэн
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
За примерами ходить недалеко: стоит пробежать несколько памятных записок того времени, чтобы увидеть, как глубоко укоренена была тогда привычка к насилию и самоуправству.
’’Двадцатого сентября, – говорит Стефано Инфессура, – произошло великое смятение в городе Риме и все купцы заперли свои лавки. Бывшие на полях или в виноградниках поспешно воротились домой, и все, как местные граждане, так и иногородцы, взялись за оружие, потому что в городе стали положительно утверждать, что папа Иннокентий III умер”.
Слабые узы, чуть соединяющие общество, вдруг порывались, и все возвращалось опять снова к дикому состоянию; каждый пользовался минутой, чтобы отделаться от своих врагов. Заметьте, что и в обыкновенное время насилия, хотя встречались не так часто, были, однако же, не менее жестоки. Частые войны между фамилиями Колонна и Орсини велись вокруг Рима по всем окрестностям; эти вельможи имели своих драбантов и созывали своих крестьян; каждая шайка разоряла неприятельские земли; едва заключенное перемирие тотчас же опять нарушалось, и каждый предводитель, застегивая свою кольчугу, посылал доложить папе, что противник первый на него напал.
”В самом городе, днем и ночью, совершалось много убийств, и не проходило ни одного дня, чтобы кого-нибудь не умертвили... В третий день сентября некто Сальвадор напал на своего неприятеля, синьора Бенеаккадуто, с которым у него, однако же, был заключен мир, обеспеченный залогом в 500 червонцев”.
Это значит, что оба они представили по 500 червонцев, которые должны быть потеряны для того из них, кто первый нарушит перемирие. Гарантировать таким образом данную клятву было тогда в обычае по неимению других средств поддержать хоть несколько общественное спокойствие. В расходной книге Челлини собственноручно записана им следующая заметка: ’’Отмечаю для памяти, что сегодня, 26 октября 1556 г., я, Бенвенуто Челлини, вышел из тюрьмы и заключил с моим неприятелем перемирие на год. Каждый из нас представил залогу по 300 скуд”. Но денежная гарантия слишком ничтожна против силы темперамента и свирепости нравов. Поэтому Сальвадор и не мог удержаться, чтобы не напасть на Бенеаккадуто. ”Он нанес ему два удара шпагой и смертельно его ранил, так что тот испустил дух”.
Тут наконец вмешиваются слишком оскорбленные власти и принимает в деле участие народ почти так же, как это бывает и теперь в Сан-Франциско, когда закон Линча приводится в исполнение. В Сан-Франциско, при сильном учащении смертоубийств, купцы, все более важные и почтенные лица в городе, в сопровождении толпы добровольно вызвавшихся соучастников отправляются за виновными в тюрьму и вешают их тут же на месте. Подобно этому, ”на четвертый день, папа послал своего вице-камерария с консерваторами и всем народом разорить дом Сальвадора. Разорив его, они, того же четвертого сентября, повесили Иеронима, брата сказанного Сальвадора”, вероятно, потому, что сам Сальвадор ускользнул от них. При этих шумных народных экзекуциях каждый отвечает за своих.
Есть до пятидесяти подобных примеров; люди того времени привыкли к насилию, и я говорю не только о черни, но и о лицах, которые, по своему высокому положению или образованию, казалось, должны были бы несколько владеть собой. Гвиччардини рассказывает, что однажды Тривульцио, губернатор Милана, поставленный французским королем, собственноручно убил на рынке нескольких мясников, ’’которые, с обычной такого рода людям дерзостью, воспротивились сбору податей, от которых они не были освобождены”. Вы привыкли, в настоящее время, смотреть на художников как на светских людей, мирных граждан, которым совершенно уместно надеть вечером черную пару и белый галстук. В записках Челлини вы встретите одного ювелира, именем Пилото, ’’человека храброго”, но предводителя разбойничьей шайки. В другом месте ученики Рафаэля собираются убить Россо, потому что Россо, человек, очень невоздержный на язык, сказал что-то дурное про Рафаэля; Россо благоразумно покидает Рим: после таких угроз путешествие было, разумеется, необходимо. Самой ничтожной причины казалось достаточно, чтобы укокошить человека. Челлини рассказывает еще, что Вазари имел обыкновение отращивать очень длинные ногти и что ’’однажды, ночуя на одной постели со своим учеником Манно, он думал почесаться сам и нечаянно оцарапал ногу Манно, а тот непременно хотел его за это убить”. Повод, кажется, невелик. Но в то время человек был до того запальчив, до того привык к кулачной расправе, что кровь мгновенно бросалась ему в глаза и он готов был ринуться, как разъяренный бык, чтобы пырнуть кинжалом, если не рогами.
Зрелища, разыгрывавшиеся тогда в Риме и его окрестностях, поистине ужасны. Наказания достойны какой-нибудь восточной монархии. Считайте, если можете, все убийства этого прекрасного и остроумного Цезаря Борджии, сына папы, герцога Валентинуа, чей портрет вы увидите в Риме, в галерее Боргезе. Это человек со вкусом, великий политик, любитель праздников и остроумных бесед; тонкий стан его обхвачен курткой из черного бархата; руки у него прелестны, взгляд покоен, как у знатного вельможи. Но он умеет заставить уважать себя и собственными своими руками пускает в ход шпагу и кинжал.
”Во второе воскресенье, – говорит Бурхард, папский камерарий, – какой-то замаскированный человек, в Борго, произнес несколько оскорбительных выражений против герцога Валентинуа. Герцог, узнав об этом, велел схватить его; ему отрубили руку и конец языка, который и был прикреплен к мизинцу отрубленной руки”. Без сомнения, в пример прочим. В другой раз, подобно кочегарам 1799 года, ’’слуги того же герцога повесили за руки двух стариков и восемь старух, предварительно разведши под их ногами огонь, чтобы вынудить у них признание, где спрятаны деньги, те, не зная этого или не желая открыть, умерли в жестокой пытке”.
В другой раз герцог приказал привести на внутреннюю дворцовую площадь осужденных gladiandi (кинжальщиков) и, разряженный в самом изящном костюме, перед многочисленным и избранным кружком зрителей, собственноручно перестрелял их из лука. ”Он убил также, под плащом самого папы, любимца его, Перотто, так что кровь брызнула в лицо его святейшеству”. В семействе этом резались то и дело. Он приказал убийцам напасть со шпагами на его зятя; тот был только ранен, и папа велел охранять его; ’’тогда герцог сказал: что не успелось к обеду, то сделается к ужину. И однажды, 17 августа, он вошел в его комнату, когда молодой человек уже вставал; он выслал вон его жену вместе с сестрой; потом, позвав трех убийц, приказал задушить названного юношу”. Кроме того, он умертвил своего родного брата, герцога ди-Гандия, и тело его велел бросить в Тибр. После многих розысков открыли, что один рыбак был на берегу при совершении преступления. Когда его спросили, почему он не донес о случившемся губернатору, ”он отвечал, что, по его мнению, на это не стоит обращать внимание, так как в жизни своей ему доводилось по ночам видеть более ста трупов, выброшенных в том же месте, и никто никогда об них не заботился”.
Правда, что все Борджии, эта привилегированная фамилия, обладали, по-видимому, каким-то особенным вкусом и талантом ко всякого рода отравлениям и убийствам; но в мелких итальянских государствах вы найдете множество частных лиц, принцев и принцесс, достойных быть современниками Борджий. Князь Фаэнцкий подал повод к ревности своей жене; она прячет под кроватью четырех убийц, с тем чтобы они напали на него, когда он придет ложиться; князь храбро защищается, тогда она соскакивает с постели, хватает кинжал, висевший у изголовья, и сама, зайдя с тылу, убивает своего мужа. За это ее отлучили от церкви; но отец ее просит Лоренцо Медичи, пользующегося большим весом у папы, ходатайствовать об избавлении ее от церковного покаяния, приводя в основание своей просьбы, между прочим, то, что он ’’намеревается снабдить ее другим мужем”. В Милане герцог Галеаццо был зарезан тремя молодыми людьми, имевшими привычку читать Плутарха; один из них погиб на месте преступления, и труп его выбросили свиньям; другие, перед четвертованием, объявили, что они затеяли убийство потому, что ’’герцог не только соблазнял женщин, но и разглашал потом их позор; не только убивал людей просто, но еще подвергал их наперед самым неслыханным истязаниям”. В Риме папа Лев X едва не был убит своими кардиналами: его хирург, подкупленный ими, должен был отравить его при перевязке фистулы; кардинал Петруччи, главный зачинщик, был за это умерщвлен. Теперь если взять дом Малатеста в Римини или дом Эсте в Ферраре, то найдешь и там подобные же наследственные привычки к убийству и отравлению. Если, наконец, вы обратитесь к стране, управление которой представляется, по-видимому, более правильным, к Флоренции, глава которой один из Медичей – человек умный, либеральный, честный, то и здесь вы встретите ту же дикую расправу, как и те, о которых сейчас говорено. Например, Пацци, раздраженные тем, что вся власть в руках у Медичей, составляют с архиепископом пизанским заговор умертвить обоих Медичей, Юлиана и Лоренцо; папа Сикст IV является соучастником. Они избирают для этого убийства обедню в церкви Санта-Репарата, и сигналом должно послужить поднятие святых даров. Один из заговорщиков, Бандини, пронзил кинжалом Юлиана Медичи, а Франческо-деи-Пацци с такой яростью устремился на труп, что сам себя поранил в ногу; он убил затем одного из друзей дома Медичи. Лоренцо был тоже ранен, но не сробел; он успел выхватить шпагу и обернуть вокруг руки свой плащ вместо щита, все друзья обступили его и, кто своей шпагой, кто телом, защитили так удачно, что он успел скрыться в ризнице. Между тем остальные заговорщики, с архиепископом во главе, в числе тридцати, овладели городской ратушей, чтобы захватить в руки бразды правления. Но губернатор, еще при самом вступлении своем в должность, позаботился устроить двери таким образом, чтобы, раз запертые, они уже не могли быть отворены изнутри. Заговорщики попались, как в мышеловку. Вооруженный народ сбегался со всех сторон. Схватили архиепископа и повесили его в полном облачении рядом с главным зачинщиком, Франческо-деи-Пацци; вне себя от ярости, умирая на виселице, прелат вцепился зубами в тело своего соучастника и искусал его. ’’Около двадцати лиц из семейства Пацци были тогда изрублены в куски, столько же пострадало и из дома архиепископа, а перед окнами дворца повешено было до шестидесяти человек”. Один живописец, про которого я вам рассказывал, Андреа дель Кастаньо, убийца своего друга с целью украсть у него изобретение масляной живописи, приглашен был написать эту висельную расправу, отчего и прозвали его потом – Андреа Висельничий.
Я не кончил бы никогда, если б стал передавать вам все тогдашние истории, отличающиеся подобными чертами; вот, однако же, вам еще одна, которую я избираю потому, что действующее в ней лицо должно сейчас же опять предстать на сцену, и потому, что рассказчиком тут является Макиавелли: ’’Оливеротто да Фермо, оставшись в малолетстве сиротой, был воспитан одним из дядей своих по матери, именем Джованни Фольяни. Потом он обучился военному делу у его братьев. Обладая от природы умом и будучи ловок и силен телом и душой, он в короткое время сделался одним из первых людей в его шайке. Но, рассудив, что унизительно быть затертым в толпе, он решился, при помощи нескольких граждан из Фермо, овладеть городом и написал своему дяде, что, пробыв несколько лет вдали от своего отечества, он желал бы возвратиться, чтобы увидеть его и город, да и взглянуть кстати на свое наследие. Он прибавлял, что если вынес столько трудов, то единственно из-за славы, а чтобы сограждане не упрекнули его в напрасной потере времени, он намеревался приехать в сопровождении ста всадников, его друзей и слуг и просил дать приказ, чтобы в Фермо встретили его с почетом, что принесет честь не только ему, Оливеротто, но и самому Джованни, который ребенком взял его к себе на воспитание. Джованни сделал все, о чем его просили; он велел жителям Фермо с почетом принять его и поместил его у себя в доме... Оливеротто, распорядившись в несколько дней всем, необходимым для злодейства, задал торжественный праздник, на который пригласил Джованни и всех первостатейных граждан Фермо. Под конец... нарочно сведши разговор на важные предметы, на величие папы Александра и его сына, на разные их замыслы, он вдруг поднялся с кресла и сказал, что для беседы о подобных вещах нужно место поукромнее. Он пошел в одну комнату, куда последовали за ним Джованни и все другие. Но едва уселись они там, как из тайников, устроенных в этой комнате, вышли вдруг солдаты и умертвили Джованни и всех остальных. После этого душегубства Оливеротто сел на лошадь, проехал по городу и осадил главного сановника в городской думе, так что перепуганные жители вынуждены были повиноваться ему и учредить правительство, главой которого он себя поставил. Он предал смерти всех недовольных, которые могли вредить ему... и в один год успел сделаться грозой для своих соседей”.
Предприятия подобного рода встречаются сплошь и рядом; жизнь Цезаря Борджиа изобильна ими, и подчинение Романьи святому престолу было непрерывным рядом измен и смертоубийств. Таков настоящий феодальный быт, где каждый человек, предоставленный самому себе, нападает на другого или обороняется, доводя свое честолюбие свое злодейство или свою месть до последних крайностей и не боясь ни правительственного вмешательства, ни грозы закона.
Но между Италией XV века и средневековой Европой есть то громадное различие, что итальянцы обладали тогда значительной культурой. Вы только сейчас видели многочисленные доказательства этой дикой культуры. В силу какого-то необыкновенного контраста, несмотря на то что приемы сделались изящны и вкусы много утончились, характеры и сердца оставались свирепыми. Люди эти – ученые, знатоки в искусстве, краснобаи, самые вежливые представители светскости, и в то же время они драбанты, разбойники, душегубцы. Они поступают, как дикари, а судят, как цивилизованные люди; это смышленые волки, не более. Теперь вообразите, что волк рассуждает о своей породе; по всей вероятности, он составит целый кодекс убийств. То именно и случилось в Италии: философы возвели в теорию ужасные проделки, которых они насмотрелись, и кончили тем, что думали или по крайней мере говорили, будто для существования и для успехов на этом свете необходимо злодейски поступать. Самым глубоким из таких теоретиков был Макиавелли, великий, даже можно сказать, честный человек, патриот, гений высшего разряда, написавший книгу ’’Государь”[26] с целью оправдать или по крайней мере управомочить предательство и убийство. Или, скорее, он не оправдывает и не управомочивает ничего; он перешел за грань негодования и оставил в стороне совесть; он анализирует, он объясняет, как ученый, как полнейший знаток людей; он сообщает документы со своим собственным на них толкованием; он посылает флоре-нтинским властям руководящие и положительные мемуары, писанные таким спокойным слогом, как рассказ о какой-нибудь удачной хирургической операции. Донесение свое он озаглавливает так:
Описание того, как распорядился герцог Валентинуа, чтобы умертвить Вителоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, сеньора Паголо и герцога Гравину Орсини
’’Высокостепенные синьоры, так как Ваша Милость не получили всех моих писем, в которых заключалась большая часть синигальского события, то я счел уместным описать его в подробности и полагаю, что это будет приятно Вам по самому свойству дела, во всех отношениях редкого и достопамятного”.
Герцог был разбит этими вельможами, и бороться с ними оказалось ему не под силу. Он заключил мир, наобещал им много, кое-что и действительно дал, рассыпался в самых дружеских уверениях, сделался их союзником и, наконец, предложил им совещание по одному общему делу. Некоторые опасения заставили их долго колебаться. Но обещания его были так соблазнительны, он так ловко умел подстрекнуть их надежды и корыстолюбие, прикинулся таким кротким и прямодушным, что они явились, правда с войсками, но допустили заманить себя, под предлогом изящного гостеприимства, во дворец, занимаемый герцогом в Синигальи. Они въезжают верхом на лошадях, и герцог приветствует их как нельзя вежливее, но ’’едва слезли они с лошадей у жилья герцога и вошли с ним в потайную комнату, как тотчас же стали его пленниками”.
’’Герцог немедленно сел на коня и велел грабить людей Оливеротто и Орсини. А солдаты его, не удовольствовавшись этим грабежом, принялись опустошать Синигалью, и, не сдержи герцог наглости их тем, что многих из них положил на месте, они разорили бы ее, пожалуй, всю”.
Мелкота привыкла разбойничать точно так же, как и старшие; то было всеобщее господство силы.
’’Когда настала ночь и смятение утихло, герцог признал удобным порешить с Вителоццо и Оливеротто; он велел отвести их в одно место и там удавить. Вителоццо молил только об одном – чтобы ему испросили у папы полное разрешение от грехов. Оливеротто плакал, сваливая на Вителоццо все зло, какое причинили они герцогу. Наголо и герцог Гравина были оставлены в живых до тех пор, пока герцог не узнал, что папа овладел кардиналом Орсини, архиепископом Флорентинским и мессиром Джакопо да-Санта-Кроче. По получении этой вести, 18 января, в замке Пиэве, они были удавлены таким же образом”.
Это один только рассказ; в других местах Макиавелли не ограничивается сообщением фактов, а выводит свои заключения. По примеру Киропедии Ксенофонта он пишет полуправдивую и полувымышленную книгу ’’Жизнь Каструччо Кастракани”, которого предлагает итальянцам за образец совершеннейшего государя. Этот Каструччо Кастракани был найденыш; за двести перед тем лет он сделался правителем Лукки и Пизы и достиг такого могущества, что смело угрожал Флоренции. Он совершил ’’много таких дел, которые, по своей доблести и удаче, могут служить прекрасными образцами, и оставил по себе столь добрую память, что друзья его сожалели о нем более, чем о каком бы то ни было государе и в какие бы то ни было времена”. Вот один из прекрасных поступков этого столь любимого и достойного вечной хвалы героя.
Когда семья Поджио возмутилась против него в Лукке, Стефано Поджио, ’’человек преклонных лет и миролюбивый”, остановил мятежников и обещал им свое посредничество. ’’Они сложили тогда оружие так же неосторожно, как и подняли”. Каструччо возвращается; ’’Стефано, полагая, что Каструччо должен быть ему обязан, отправился к нему и, считая излишним просить его за себя лично, стал ходатайствовать за других членов своего дома, умоляя его многое простить молодости, попомнить старую его дружбу и те одолжения, какими он, Каструччо, был обязан их семье. Каструччо отозвался на это радушно и обнадежил старика во всех отношениях, говоря, что его больше радует прекращение бунта, нежели сердит то, что он был поднят. Он ободрил Стефано, уговорил привести к нему всех виновных, прибавив, что благодарит Бога за ниспослание ему случая оказать великодушие и милость. Веря слову Стефано и Каструччо, они явились и были все до единого, в том числе и сам Стефано, захвачены в плен и умерщвлены”.
Другой герой Макиавелли – Цезарь Борджиа, величайший душегубец и самый ловкий предатель своего времени, человек совершенный в своем роде, всегда смотревший на мир точно так, как гуроны и ирокезы смотрели на войну, т. е. как на положение, в котором притворство, обман, измена, подсиживание составляют право, долг и подвиг. Он пускал их в ход относительно всех, даже своих односемейных и приверженцев. Однажды, чтобы унять слухи, ходившие о его жестокости, он велел схватить своего губернатора в Романье, Ремиро д’Орко, оказавшего ему большие услуги, которому Борджиа обязан был усмирением всей той страны. На другой день граждане с удовлетворением и ужасом увидели Ремиро д’Орко на площади, располосованным надвое, с окровавленным ножом невдалеке. Герцог велел оповестить, что наказал его за чрезмерную строгость, и этим он приобрел славу доброго владыки, покровителя и защитника народа. Макиавелли рассуждает по этому поводу так:
’’Каждый знает, как похвально со стороны государя держать данное слово и жить правдой, а не коварством. Тем не менее мы видим, в наше время, по опыту, что именно те из государей ознаменовали себя великими делами, которые мало дорожили своим словом, а умели с помощью коварства свертывать людям головы и в конце концов губили тех, кто полагался на их совесть... Благоразумный властитель не может или не должен держать своего слова, когда это ему вредит и когда причин, вынудивших у него обещание, более не существует. К тому же у государя никогда не может быть недостатка в законных поводах, чтобы скрасить свое вероломство. Но необходимо скрашивать получше и быть большим плутом и притворщиком.. . А люди так просты и так легко подчиняются наличной необходимости, что обманщик всегда еще найдет кого-нибудь, кто даст себя надуть”.
Ясно, что подобные нравы и подобные правила должны сильно влиять на характеры. Во-первых, это совершенное отсутствие правосудия и полиции, этот полный разгул посягательств и убийств, эта необходимость мстить без милосердия и бысть страшным только для того, чтобы существовать, этот постоянный вызов к силе – разве не закаляли они дух? Человек тут невольно привыкает к крайним и внезапным решениям; ему необходимо уметь самому убить или распорядиться убийством в один миг.
Притом, живя под страхом беспрерывной и крайней опасности, он полон великих тревог и страстей, самых трагических; ему не до тонкого разбора оттенков в своих чувствах, ему не до любознательной и спокойной критики. Охватывающие его волнения велики и, однако ж, просты. Дело идет не о какой-нибудь подробности следующего ему почета или не о какой-нибудь частице его достояния; тут на карте вся жизнь его и жизнь его близких. С самой высоты он вдруг может пасть как нельзя ниже и, подобно Ремиро, Поджио, Гравине, Оливеротто, проснуться под ножом или петлей палача. Жизнь полна бурь, и воля напряжена до крайности. Душа зато сильнее и всегда готова развернуться вполне.
Мне хотелось бы собрать все эти черты воедино и представить вам не отвлеченную идею, а живое лицо. Есть одно такое лицо, оставившее нам собственноручные свои записки; они изложены самым простым языком и тем более поучительны, что лучше всякой другой книги покажут вам, как чувствовали, мыслили и жили их современники. Бенвенуто Челлини можно считать как бы рельефным собранием тех яростных страстей, тех отчаянных жизней, тех самородных и могучих гениев, тех богатых и опасных способностей, которые произвели в Италии Возрождение и, разгромив общество, породили искусство.
Первое, что поражает в нем, это – сила внутренней упругости, энергичный, мужественный характер, могучий почин, навык к самым внезапным и крутым решениям, великая способность действовать и переносить страдания – короче, неукротимая сила цельного еще темперамента. Таково было чудное животное, всегда готовое к нападению и к обороне, которое вскормили нравы средних веков, которое смягчено у нас продолжительностью мира и полицией. Ему было шестнадцать лет, а брату его, Джованни, – четырнадцать. Раз Джованни, будучи оскорблен другим юношей, вызвал его на дуэль. Они пошли к городским воротам и сразились на шпагах; Джованни обезоружил противника, ранил его и все еще продолжал бой, как вдруг являются родные раненого и осыпают победителя градом шпажных ударов и каменьев, так что бедное дитя падает наземь без чувств. Случайно подходит Челлини, подымает шпагу и бросается на противников, уклоняясь по мере возможности от каменьев и не покидая брата ни на шаг; смерть была уже от него близко, но несколько прохожих солдат, придя в восхищение от его храбрости, вмешались в дело и помогли ему отбиться. Тогда он взял брата на плечи и отнес его в родительский дом. Вы найдете сотни случаев, обнаруживающих в нем подобную же энергию. Если он не был двадцать раз убит, так это чудо; в руках у него всегда шпага, мушкет или кинжал – на улице, по дорогам, против личных врагов, против беглых солдат, против разбойников, против соперников всякого рода; он обороняется, а чаще нападает. Самое удивительное его похождение – бегство из замка Св. Ангела, куда его заперли после одного убийства. Он спустился с этой громадной вышины по веревкам, свитым из простынь; повстречал часового, который, испугавшись его страшной решимости, притворился, что его не замечает; с помощью какого-то бревна перелез он через вторую ограду, привязал последнюю свою веревку и начал по ней спускаться, но веревка оказалась слишком короткой; он упал и переломил ногу под самым коленом; он бинтует себе ногу и, истекая кровью, ползет до городских ворот, они заперты; прорыв землю кинжалом, он прошмыгнул под воротами; тут напали на него собаки; он распарывает брюхо одной из них и, повстречав носильщика, приказывает нести себя к одному посланнику, его приятелю. Он считал себя вне опасности и заручился словом папы, но вдруг его хватают опять и сажают в гнилое подземелье, куда свет заходит лишь часа на два в день. Явился палач и, тронутый жалостью, еще пощадил его на этот раз. Затем наказание ему ограничили одной тюрьмой; вода сочится по стенам, солома под ним гниет, раны его не закрываются. Так провел он несколько месяцев; его крепкое здоровье выдерживает все. Тело и душа такого склада как будто построены из гранита и мрамора, тогда как наши нынешние просто из мела и штукатурки.
Но богатство духовных сил в нем так же велико, как и крепость телосложения. Ничего не может быть гибче и многограннее этих новых, свежих и здоровых душ. Пример для себя он находил в своем семействе. Отец его был архитектор, хороший рисовальщик, страстный музыкант, игравший на виоле и певший про себя, один, для своего собственного удовольствия; он делал превосходные деревянные органы, клавикорды, виолы, лютни, арфы; хорошо резал на кости, был весьма искусен в постройке машин, играл на флейте в оркестре синьории, понимал по-латыни и писал стихи. Люди того времени были решительно на все руки. Не говоря о Леонардо да Винчи, Пико делла Мирандоло, Лоренцо Медичи, Леоне Баттисте Альберти и вообще высших гениях, даже такие личности, как просто деловой и торговый люд, монахи, ремесленники, по своим вкусам и привычкам подымались тогда до уровня тех занятий и удовольствий, которые кажутся теперь исключительным достоянием самых образованных людей и натур самых утонченных. Челлини был из их числа. Он стал превосходно играть на флейте и рожке—заметьте, против воли, чувствуя к этим инструментам отвращение и занимаясь ими только в угоду отцу. Притом с весьма ранних пор он сделался отличным рисовальщиком, ювелиром, черневщиком, финифтщиком, ваятелем и литейщиком. Он в то же время инженер и оружейник, строитель машин, крепостей, мастер заряжать, направлять и прицеливать орудия лучше артиллеристов. При осаде Рима коннетаблем Бурбоном Челлини своими бомбардами производит страшные опустошения в неприятельском войске. Чудный стрелок из мушкета, он убил коннетабля своей рукой; он сам изготовлял оружие и порох и попадал в птицу пулей в каких-нибудь двухстах шагах. Ум его был так изобретателен, что в любом искусстве и в любом промысле он открывал особенные приемы, которые содержал в тайне и которые вызывали всеобщий восторг. Это век дивной изобретательности, творчества; все здесь самородно, рутины нет и следа, а умы плодотворны до такой степени, что, к чему бы они ни прикоснулись, тотчас оплодотворят собой все.
Когда духовная природа столь сильна, одарена так богато, так производительна, когда способности действуют так бойко и верно, так постоянно и грандиозно, тогда обычным тоном души является избыток радости, могучее вдохновение и веселье. Мы видим, например, что после трагических и ужасных похождений Челлини тотчас же отправляется в путь. ’’Всю дорогу, – говорит он сам, – я не переставал петь и смеяться”. Такое быстрое душевное обновление зачастую встретишь в Италии, особенно в тот век, когда души еще так просты. ’’Сестра моя Липерота, – говорит он, – поплакав со мной немножко об отце, сестре, муже и маленьком ребенке, которых она лишилась, озаботилась приготовить ужин. Весь вечер о смерти не было уж и помина, а говорили о тысяче веселых и забавных вещей, так что ужин вышел один из самых приятных”. Внезапные нападения, разгромы лавок, беспрерывная опасность быть убитым или отравленным, среди которых он живет в Риме, то и дело перемешиваются с ужинами, маскарадами, смехотворными затеями, любовными шашнями, до того явными, без-околичными, лишенными всякой бережности и тайны, что они напоминают широкую наготу венецианских и флорентинских картин того времени. Вы прочтете их в его книге; это до такой степени голо, что не может показываться в обществе; но оно, впрочем, только голо; его нигде не портит утонченная грязь или площадная шутка; человек поддается тут смеху и свободному удовольствию, как вода течет по скату; здоровье души и нетронутых еще молодых чувств, избыток животного пыла обнаруживаются у него в сладострастии, точно так же как в его произведениях и во всех его поступках.
Такой нравственный и физический склад естественно ведет к тому живому воображению, которое я вам сейчас только что описал. Человек этого склада не подмечает предметов клочками, урывками и лишь при посредстве слов, как делаем мы; он, напротив, схватывает их целиком и при помощи одних образов. Мысли его не розняты по суставам, не классифицированы, не замкнуты в отвлеченные формулы, как наши; они бьют у него ключом, цельные, колоритные и живые. Мы судим и рядим, а он видит. Оттого ему часто случается видеть небывальщину. Эти головы, столь полные живописных образов, они вечно бушуют и бурлят. У Бенвенуто есть ребяческие верования, он суеверен не лучше простолюдина. Некто Пиэрино, понося его и все его семейство, в порыве гнева закричал: ’’Если я говорю неправду, пусть обрушится на меня мой дом!” Через некоторое время дом в самом деле повалился, и хозяину перешибло ногу. Бенвенуто уж конечно признал в этом перст Провидения, хотевшего наказать Пиэрино за ложь. Он пресерьезно рассказывает, что, будучи в Риме, познакомился с одним магом, который, заведя его ночью в Колизей, бросил какого-то порошку на уголья и при этом произнес свои заклинания; тотчас же все здание как будто наполнилось чертями. Очевидно, в этот день у него была галлюцинация. В тюрьме голова его горит; если он переносит и боль от ран, и испорченный воздух, то единственно благодаря обращению своему к Богу. У него идут долгие беседы с его ангелом-хранителем; ему хочется увидеть опять солнце во сне или наяву, и вот однажды он перенесен и поставлен пред великолепным солнцем, из которого выходят Иисус Христос и потом Богородица; они показывают ему знаки своего милосердия, и он видит отверстое небо с сонмом ангельских чинов. Подобные видения бывали в то время сплошь и рядом в Италии. После разгульной и бесшабашной жизни, часто в минуты самого крайнего разврата, с человеком вдруг совершается переворот. Герцог Феррарский, ’’заболев весьма тяжким недугом, от которого не мог мочиться в течение сорока восьми часов, прибегнул к Господу Богу и велел немедленно уплатить все выслуженные оклады”. Эрколе д’Эсте, прямо из какой-нибудь шумной оргии, шел петь обедню с хором своих французских музыкантов; перед распродажей своих пленных он приказал выколоть по одному глазу и отсечь по одной руке у двухсот "восьмидесяти человек, а в великий четверг отправлялся собственноручно мыть ноги бедным. Так же точно папа Александр, известись об умерщвлении своего сына, бил себя кулаками в грудь и исповедовал свои грехи перед собравшимися кардиналами. Воображение, вместо того чтобы работать в смысле удовольствия, работает здесь в смысле страха, и, благодаря подобному же повороту внутренней механики, ум этих людей поражается вдруг религиозными образами, не уступающими в живости тем чувственным, какие одолевали их прежде.








