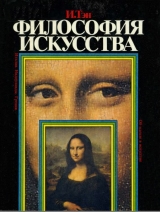
Текст книги "Философия искусства"
Автор книги: Ипполит Адольф Тэн
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)

Я подхожу теперь к великому примеру, соединяющему в себе все прочее: это – всеобщая история живописи, и прежде всего живописи итальянской, которую я излагаю вам уже в течение трех лет. Целый ряд опытов и обратных им проверок показывает здесь, в продолжение пяти веков, живописное значение того характера, который выведен теорией как сущность физического человека. В известный момент животная сторона человека, это одетый мышцами костяк, это мясо и кожа, столь колоритные и столь чувствительные, были поняты и одушевлены ради самих себя и поставлены выше всего прочего: это и есть великая эпоха; оставшиеся нам от нее произведения слывут самыми прекрасными по единогласному приговору всех; все школы ищут в них для себя образцов и поучений. В другие времена чувство тела было или недостаточно, или смешано с другими стремлениями, подчинено иным любимым целям: это – эпохи детства, порчи или упадка; как бы ни были даровиты художники, они производят тогда только менее значительные или второстепенные создания; талант их дурно применяется к делу, они вовсе не уловили или уловили плохо основной характер видимого человека. Таким образом, повсюду ценность произведения соразмерна степени преобладания этого характера; для писателя главное – создавать живые души, для скульптора и живописца главное – создавать живые тела. На основании этого-то начала распределяются, как вы видели, последовательные периоды искусства. От Чимабуэ до Мазаччо живописец не знает перспективы, лепки, анатомии; осязательное и плотное тело он видит лишь как бы сквозь дымку; крепость, жизненность, действенный строй его, движущиеся мышцы туловища и конечностей нимало его не интересуют; фигуры выходят у него простыми только очертаниями или тенями живых людей, иногда же прямо воспрославленными или бесплотными душами. Религиозное чувство преобладает над пластическим инстинктом; оно представляет глазам богословские символы у Таддео Гадди, нравоучения у Орканьи, серафимские видения у Беато Анджелико. Живописец, задержанный духом средних веков, долго стоит, стучась у дверей великого искусства. Входит же он туда только благодаря открытию перспективы, поискам рельефов, изучению анатомии, употреблению в красках масла – входит с Паоло Уччелло, Мазаччо, Фра Филиппо Липпи, Антонио дель Поллайоло. Верроккьо, Гирландайо, Антонелло да Мессина, которые все воспитались в лавке золотых дел мастера, были друзья или преемники Донателло, Гиберти и других великих ваятелей того времени, все страстно изучили человеческое тело, все язычески удивлялись мышцам и животной энергии, все до того были проникнуты чувством физической жизни, что произведения их, хотя еще старобытные, не гибкие, страждущие буквальным подражанием, отводят им тем не менее единственное в своем роде место и сохраняют за ними всю их цену еще и теперь. Превзошедшие их после мастера только развили ведь далее их же собственное начало; славная школа флорентийского Возрождения признает в них своих основателей; Андреа дель Сарто, Фра Бартоломмео, Микеланджело – все это их ученики; Рафаэль приходил к ним учиться, и половина его гения, конечно, принадлежит им. Там центр итальянского искусства и великого искусства вообще. Господствующей у всех этих мастеров идеей была идея живого, здорового, энергичного, деятельного тела, одаренного всеми атлетическими и животными свойствами. ’’Главное в пластическом искусстве, – говорит Челлини, – уменье хорошо сделать нагих мужчину и женщину”. И он с восторгом говорит об удивительных костях черепа, ”о лопатках, которые, при всяком усилии руки, описывают черты, эффектные до чрезвычайности, о пяти нижних ребрах, которые, при всяком наклонении торса вперед или назад, образуют вокруг пупка очаровательные впадины и рельефы”. ”Ты нарисуешь затем кость, которая помещается между бедрами; она очень красива, и зовут ее крестцом”. Один из учеников Верроккьо, Нанни Гроссо, умирая в больнице, отвернулся от обыкновенного распятия, которое ему было поднесли, и велел подать себе другое, работы Донателло, говоря, что ’’иначе он умер бы с отчаянием в душе – до того ему противны плохо выполненные создания его искусства”. Лука Синьорелли, потеряв нежно любимого сына, велел донага раздеть милый труп и срисовал у него до последней мелочи все мышцы; они были для него главным в человеке, и он запечатлел в памяти мышцы своего ребенка. Тут остается ступить еще один только шаг, чтобы вполне завершить физического человека; надо больше напереть на верхнюю оболочку одетого мышцами остова, на мягкость и на тон живой кожи, на нежную и разнообразную жизненность чувствительных мясистых частей; последний этот шаг совершают Корреджо и венецианцы, и искусство тогда останавливается. С той поры расцвет его закончен, чувство человеческого тела нашло себе полное выражение. Оно начинает затем понемногу ослабевать; оно умаляется, теряет часть своей искренности и серьезности у Джулио Романо, у Россо, у Приматиччо, потом переходит в школьную условность, в академическое предание, в рецепт для мастерских. С этой самой минуты, несмотря на все добросовестные усилия Карраччей, искусство уже портится; оно становится не таким пластическим и более литературным. Трое Карраччей, их ученики и преемники, Доменикино, Гвидо, Гверчино, Бароччи, ищут драматических эффектов, кровавых мученичеств, трогательных сцен и сентиментальных экспрессий. Пошлые сладости дамских прихвостней (чичисбеев) и ханжей примешиваются теперь к остаткам героического стиля. Поверх атлетических тел и взбуравленной мускулатуры вы видите вдруг грандиозные головки, улыбки, полные умиления. Светская, манерная шаловливость проглядывает в ликах мечтательных мадонн, красивых Иродиад, обворожительных Магдалин, каких требует минутный вкус того времени. Живопись пытается передать те самые оттенки, которые предстоит выразить зарождающейся опере. Альбано – чисто будуарный живописец, Дольчи, Чиголи, Сассоферрато – переутонченные, почти не нынешние уже души. С Пьетро да Кортона и Лукой Джордано величавые сцены христианской или языческой легенды превращаются в щегольской салонный маскарад; художник теперь не более как блестящий импровизатор, занимательный и модный, и живопись кончается в то самое время, как начинается музыка, как человеческое внимание перестает всматриваться в энергию тела, чтобы прильнуть к волнениям души.
Если теперь вы обратитесь к великим иноземным школам, то найдете, что условием их процветания и совершенства было преобладание того же характера и что то же самое чувство физической жизни вызвало и в Италии, и здесь великие произведения искусства. Школы различны друг от друга только тем, что каждая представляет собой темперамент, свойственный ее климату и краю. Гений мастеров в том именно и состоит, чтобы создавать тело известной породы, племенное; в этом смысле они – физиологи, точно так же как писатели – психологи; они показывают вам все следствия и все видоизменения темпераментов желчного, флегматичного, нервного или сангвинического, как великие романисты и драматурги показывают все ходы и повороты, все разнообразие фантастической, рассудительной, цивилизованной или непочатой еще души. Вы видели у флорентинских художников тот длинный, тонкий, мускулистый тип с благородными инстинктами и способностями, какой может развиться только у трезвой, изящной, деятельной, остроумной породы, и в сухой притом стране. Я показывал вам у венецианских художников округлые, волнистые и правильно развернутые формы, полное и белое тело, рыжие или светло-русые волосы, тот чувственный, полный ума и счастливый тип, какой может развиться в светлом и, однако ж, влажном крае, посреди таких итальянцев, которые по климату близки к фламандцам и настоящие поэты в деле сладострастия. У Рубенса вы можете видеть белого или бледного, розового или красного, лимфатического или сангвинического германца, охотника до мяса, большого едока, высокого, но довольно толстого уроженца северного и болотистого края; формы у него неправильные, расплывшиеся, преизбыток тела, грубые и распущенные инстинкты, его рыхлое тело тотчас краснеет при наплыве ощущений, легко портится от непогоды и страшно искажается под рукой смерти. Испанские живописцы поставят перед вами тип своего племени, сухое, нервное существо с крепкими мышцами, отвердевшими на суровом ветре его Сьерр (горных хребтов) и под зноем его солнца, – существо упорное и неукротимое, все кипящее чуть сдерживаемыми страстями, все пылающее внутренним огнем, черное, строгое и высохшее среди резкотонных темных тканей и туч угольного дыма, которые, вдруг раскрывшись, покажут вам иногда чудный розовый колорит, живой румянец молодости, красоты, любви, энтузиазма, разлитый по свежим, как полевой цвет, щекам. Чем выше художник, тем глубже проявляет он темперамент своего племени; сам того не подозревая, он, подобно поэту, доставляет истории самый плодотворный, документальный материал; он извлекает и дополняет коренную основу физического существа точно так, как поэт извлекает и дополняет коренную основу существа нравственного, и вот, при помощи картин, историк распознает телостроение и телесные инстинкты данного народа, как по литературным памятникам он распознает умственный строй и умственные наклонности известной цивилизации.
VI
Заключение. – Характер сообщает художественному произведению степень своего собственного значения.
Соответствие тут, стало быть, полное, и характеры вносят с собой в художественное произведение ту именно ценность, какую сами они имеют в природе. Смотря по степени своего собственного значения, они сообщают эту степень и произведению искусства. Проходя сквозь дух писателя или художника, чтобы из мира реального перейти в мир идеальный, они не теряют ни малейшей доли того, что они есть, и после этого путешествия оказываются теми же, какими были до перехода; по-прежнему это – силы более или менее могучие, более или менее устойчивые, способные произвести более или менее обширные и глубокие действия. Теперь понятно, почему иерархия художественных созданий повторяет в себе иерархию характеров. Во главе природы есть верховные силы, властвующие над всеми остальными; во главе искусства есть такие художественные произведения, которые также превосходят все остальные; обе эти вершины стоят друг с другом в уровень, и самые высшие силы природы выражаются самыми превосходными художественными созданиями.
Отдел второй. Степень благотворности характера
Характеры должно сравнить между собою и с другой еще точки зрения. Они ведь естественные силы и поэтому могут оцениваться двояким образом: известную силу можно рассматривать, во-первых, по отношению ее к другим и затем – по отношению к самой себе. Рассматриваемая по отношению к другим, она, конечно, значительнее, когда не только дает им отпор, но и уничтожает остальные. Рассматриваемая по отношению к самой себе, она значительнее тогда, когда общий ход действий этой силы ведет ее не к самоуничтожению, а, напротив, к возрастанию. Таким образом, для нее существуют две разные меры, потому что она подлежит двум разным проверкам или испытаниям: во-первых, подвергаясь действию других сил, затем – подвергаясь своему собственному действию. Первое наше исследование показало нам первый из двух опытов и выяснило тот закон, что более или менее высокое место, занимаемое характерами, зависит от степени их прочности, от того, как долго остаются они сохранными перед напором одних и тех же разрушительных причин. Второе исследование сейчас покажет нам другого рода опыт и определит то более или менее высокое место, какое достается в удел характерам, смотря по тому, насколько, предоставленные самим себе, они сами клонятся к своему уничтожению или же, напротив, к собственному своему развитию через уничтожение или развитие той особи и группы, в которых они совмещены. В первом случае мы постепенно снизошли к тем стихийным, элементарным силам, которые составляют основной корень природы, и вы видели, какая родственная связь соединяет искусство с наукой. Во втором случае мы станем постепенно восходить к тем высшим формам, которые составляют конечную цель природы, и вы увидите здесь родственную связь искусства с нравственностью. Мы сначала рассмотрели характеры по большей или меньшей степени их важности, теперь нам предстоит рассмотреть их по большей или меньшей степени благотворности.
I
Связь и различие двух этих точек зрения. – В чем состоит благотворность нравственного характера. – В единичном лице. – Ум и воля. – В обществе. – Сила любви. – Порядок или чин различных степеней благотворности в нравственном характере.
Начнем с нравственного человека и с выражающих его художественных произведений. Известно, что характеры, свойства, какими он одарен, могут быть благотворны или зловредны или, наконец, смешанны, разнородны, посредственны. Ежедневно мы видим такие отдельные лица и целые общества, которые благоденствуют, увеличивают свою мощь, испытывают неудачи в своих предприятиях, разоряются, гибнут; и всякий раз, как мы взглянем на их жизнь в целой ее совокупности, мы найдем, что падение это объясняется каким-нибудь недостатком общего строя, преувеличенностью известного стремления, несоразмерностью известного положения и известной наклонности, равно как причиною успеха их была стойкость внутреннего равновесия, власть умерить в себе какое-нибудь страстное желание или особенная энергия той либо другой какой-нибудь способности. В бурном потоке жизни характеры являются или отягчающими гирями, или, напротив, облегчающими поплавками, которые то тянут нас на дно, то поддерживают на поверхности. Так устанавливается вторая шкала; характеры распределяются в ней смотря по большей или меньшей степени своей пользы или зловредности, по величине того пособия или затруднения, какое вводят они в нашу жизнь для того, чтобы сохранить ее или чтоб загубить.
Итак, все дело здесь в жизни и для каждого отдельного лица жизнь имеет два главных направления: человек или познает, или действует; поэтому в нем можно различить две главные способности – ум и волю. Отсюда следует, что все характеры, все свойства воли и ума, помогающие человеку в знании и деятельности, благотворны, а все противные тому – вредны. У философа и ученого первыми будут наблюдательность и верная память подробностей в соединении с быстрой разгадкой общих законов и с величайшей осторожностью, подвергающей всякое предположение контролю продолжительных и методических проверок. У государственного человека и дельца такими характерами можно признать известный лоцманский такт, неослабно бдительный и надежный, упорную стойкость здравомыслия, всегдашнюю способность ума быстро приноравливаться к переменам, род внутренних весов, готовых тотчас прикинуть на себе любую из окружающих сил, сдержанное и направленное к практическим целям воображение, невозмутимое чутье на распознание возможного и действительного. У художника это – тонко восприимчивая чувствительность, животрепетная симпатия, внутреннее и невольное воссоздание вещей, быстрое и своеобразное понимание их господствующего характера и самородное творчество всех окружающих тот характер гармоний. В каждой отрасли умственного труда вы найдете группу подобного рода особых расположений. Все это различные силы, ведущие человека к его цели, и ясно, что каждая из них благотворна в своем кругу, так как от порчи, недостаточности или отсутствия этой силы зависит сухость и бесплодность всей подведомой ей области. Аналогично и в том же смысле воля есть также сила, могущество и, рассматриваемая в себе самой, она, конечно, своего рода благо. Мы восхищаемся непоколебимостью решения, которое, будучи раз принято, спокойно выдерживает и острый укол физической боли, и долгую осаду нравственного страдания, бурю мгновенных потрясений, прелесть изысканнейшего соблазна, все разнообразие искусов, которые путем насилия или ласки, умопомрачения или телесного ослабления тщетно пытаются побороть его. Что бы ни было опорой этой решимости – исступление мученика, стоический разум, бесчувствие дикаря, врожденное упрямство или приобретенная гордость, – она сама по себе прекрасна, и не только все элементы ума – ясность, гениальность, находчивость, рассудительность, такт, утонченность, но и все элементы воли – храбрость, почин, деятельность, твердость, хладнокровие – все это составные части того идеального человека, которого мы пытаемся теперь построить; ибо все эти качества – отдельные черты того благотворного характера, который мы сейчас лишь изобразили.
Нам надо теперь взглянуть на этого человека в его социальной группе. Какое именно положение в ней сделает жизнь его благотворною для общества, в котором он живет? Мы знаем те внутренние рычаги, которые полезны для него лично; где же теперь та внутренняя пружина, которая сделает его полезным для других?
Есть одна лишь такая пружина – способность любить; потому что любить – значит ставить себе целью счастье другого, подчиниться ему, отдаться вполне заботам о его благе. Нельзя не признать в этом характера, благотворного по преимуществу; очевидно, он должен быть первым в составляемой нами шкале (благотворных характеров). Нас трогает уже один его вид, в какой бы ни предстал он форме – в форме великодушия, человечности, кротости, нежности или врожденной доброты. Наша симпатия невольно возбуждается присутствием этого чувства, каков бы ни был предмет его, будет ли оно любовью в собственном смысле слова, когда одна человеческая личность всецело отдается личности другого пола и явится союз двух жизней, как бы нераздельно слившихся в одну, или будут то какие-либо семейные привязанности, близкие отношения между родителями и детьми, между братом и сестрой, или же, наконец, раскроется оно в крепкой дружбе, в полном доверии, взаимной верности двух лиц, не соединенных между собой узами крови. Чем обширнее предмет любви, тем мы находим ее прекраснее, потому что благотворность ее расширяется вместе с объемом группы, на которую она действует. Вот отчего в истории, как и в жизни, мы всего больше восхищаемся проявлениями преданности, посвященной службе общим интересам, – восхищаемся патриотизмом, какой видим в Риме во времена Ганнибала, в Афинах – при Фемистокле, во Франции – в 1792 и в Германии – в 1813 году; великим чувством той всеобщей любви к ближнему, которая вела буддистских или христианских миссионеров в среду самых варварских племен; тем страстным рвением, которое поддерживало в трудах множество бескорыстных изобретателей и вызвало в области искусства, науки, философии и практической жизни массу прекрасных и благодетельных подвигов и учреждений; всеми высшими доблестями, которые под именем прямоты, справедливости, чести, готовности на самоподчинение какой-нибудь великой общей идее развивают человеческую цивилизацию и которых заповедь, а вместе и пример дали нам, во-первых, стоики, и в особенности Марк Аврелий. Едва ли нужно говорить, что в этой построенной нами теперь шкале противоположные характеры занимают и обратные, конечно, места. Порядок этот найден уже издавна: благодарные нравоучения древних философов установили его с удивительной верностью суждения и с простотой метода, поистине бесподобной; Цицерон с чисто римским здравомыслием дал краткий их перечень в своем трактате Об обязанностях. Если позднейшие эпохи развили их несколько далее, зато они допустили сюда и много заблуждений; правил как для нравственности, так и для искусства мы все-таки должны искать у древних. Тогдашние философы говорили, что стоик соглашает свой разум и дух с Юпитеровыми[130]; а тогдашние люди могли бы пожелать, чтобы Юпитер соглашал свой разум и свою душу с разумом и душой стоика.
II
Соответствующий порядок в шкале литературных ценностей. – Типы реалистической или комической литературы. – Примеры. – Анри Монье. – Плутовские романы. – Бальзак. – Филдцнг. – Вальтер Скотт. – Мольер. – Типы драматической и философской литературы. – Шекспир и Бальзак. – Типы эпической и народной литературы. – Герои и боги.
Этой классификации нравственных ценностей отвечает ступенью в ступень классификация ценностей литературных. При одинаковых во всем остальном условиях произведение, выражающее благотворный характер, выше произведения, выражающего характер злотворный. Из двух данных произведений, если в обоих, при одинаково талантливом исполнении, выведены одинаково крупные природные силы, произведение, представляющее нам героя, лучше того, в котором изображен негодяй; и в галерее живучих созданий искусства, составляющих окончательно музей мысли человеческой, мы попытаемся, на основании нашего нового начала, установить новый распорядок мест.
На самых низших ступенях находятся типы, предпочитаемые реалистической литературой и комедией, т. е. лица ограниченные, плоские, глупцы, эгоисты, бесхарактерные и пошляки. Это именно те типы, какие дает нам обиходная жизнь или которые невольно вызывают насмешку. Нигде вы не встретите такой полной коллекции подобных типов, как в Сценах из мещанской жизни Анри Монье. И почти во всех лучших романах второстепенные лица набираются таким образом: Санчо в Дон Кихоте, мошенники-обдергаи испанских плутовских романов, мелкие помещики, богословы и горничные у Филдинга, скупые сельские дворяне и злые на язык проповедники у Вальтера Скотта, целая бездна сволочи, кишащая в Человеческой комедии у Бальзака и в современном английском романе, – все это доставит нам много новых еще образчиков. Эти писатели, положив себе задачей изображать людей такими, как они есть, были вынуждены представить их несовершенными, разнокалиберными, вообще плохими, с невыработавшимся или неудавшимся характером, а не то угнетенными общественным положением. Что касается комедии, то достаточно назвать Тюркарета, Базиля, Оргона, Арнольфа, Гарпагона, Тартюфа, Жоржа Дандена, всех мольеровских маркизов, слуг, педантов и лекарей; ей вообще свойственно выставлять на свет все человеческие недостатки. Но великие художники, которые, по требованиям избранного ими рода или по любви к нагой истине, взялись за изучение этих жалких типов, пускали в ход две разные сноровки для того, чтобы прикрыть посредственность и положительную невзрачность изображаемых ими характеров. Или типы эти служат у них только придаточным и оттеночным средством, чтобы тем яснее высказать какое-нибудь главное действующее лицо; такой прием чаще других встречается у романистов; вы можете проследить его в Дон Кихоте Сервантеса, в Евгении Гранде Бальзака, в Госпоже Бовари Гюстава Флобера. Или же они обращают всю нашу симпатию против подобного лица: ведут его от неудачи к неудаче, вызывают против него осуждающий и казнящий вместе смех, нарочно выдают все горькие последствия его несостоятельности, преследуют и искореняют преобладающий в нем недостаток. Восстановленный против него зритель очень доволен этим; видеть уничтожение эгоизма и глупости так же для него приятно, как видеть полное развитие силы и добра; кара злу стоит торжества блага. Это главный прием у всех комиков, но к нему прибегают и романисты, так что успешность его вы можете видеть не только в Смешных жеманницах (Precieuses ridicules), в Школе женщин, в Ученых женщинах и во многих других пьесах Мольера, но и в истории Тома Джонса, найденыша, Филдинга, в Мартине Чезлвите Диккенса и в Старой деве Бальзака. Тем не менее вид этих умаленных или искалеченных душ не может не оставить в читателе смутного чувства какой-то истомы, отвращения, даже раздражения и горечи; если их уж очень много или они занимают главное место, то вас просто берет тошнота. Стерн, Свифт, английские комики времен Реставрации (восстановления монархии при Карле II), многие из современных комедий и романов, сцены Анри Монье под конец отталкивают читателя; удовольствие или одобрение смешивается у него с невольным отвращением; неприятно смотреть на какую-нибудь гадину, даже когда ее давишь; нам лучше хочется видеть создания покрупнее и ростом и характером.
Тут, на этой ступеньке лестницы, помещается целая семья типов, пожалуй и могучих, но все-таки неполных и вообще неуравновешенных. Известная страсть или способность, какое-нибудь предрасположение ума или характера развились в них через меру, как иной гипертрофированный орган в ущерб всему остальному телосложению, среди всякого рода болей и страданий. Такова обычная тема драматических или философских литератур; ведь лица этого разбора способнее всех других доставить писателю неистощимый запас трогательных и ужасных происшествий, случаев борьбы и перелома чувств, всяких вообще внутренних терзаний, необходимых ему для драмы; с другой стороны, они более всех способны обнаружить перед глазами мыслителя различные механизмы ума, роковые черты человеческого строя, все темные силы, действующие в нас помимо нашего сознания и слепо властвующие над нами в жизни. Такие типы вы найдете у греческих, испанских и французских трагиков, у лорда Байрона и Виктора Гюго, в большей части произведений великих романистов, начиная с Дон Кихота до Вертера и Госпожи Бовари. Все они показывали нам разладицу человека с самим собою и с миром, его окружающим, преобладание одной какой-нибудь господствующей страсти или идеи, захватившей все: в Греции это – гордость, озлобление, военный пыл и задор, душегубное честолюбие, мстительность из детской любви, все естественные и самородные в человеке чувства; в Испании и Франции это – рыцарская честь, восторженная любовь, религиозная ревность, все монархические и цивилизованные чувства; а в Европе, в наши дни, – это внутренний недуг человека, недовольного самим собой и обществом. Но ни у кого эта порода пылких и страждущих душ не расплодилась в столь могучих, полных и явственных видах, как у двух великих сердцеведов, Шекспира и Бальзака. Они всегда предпочтительно изображают силу гигантскую, но зловредную для других или для себя. В десяти случаях из двенадцати главное действующее лицо у них мономан или злодей; он одарен самыми утонченными и мощными способностями, иногда чрезвычайным великодушием и нежностью чувств; но вследствие какой-нибудь погрешности внутреннего строя или неуменья владеть собой силы эти ведут его к гибели или обрушиваются зловредно на других; чудная машина разлетается на ходу сама или давит вдребезги прохожих. Прочтите всех шекспировских героев: Кориолана, Готспура, Гамлета, Лира, Тимона, Леонта, Макбета, Отелло, Антония, Клеопатру, Ромео, Джульетту, Дездемону, Офелию – самых героических и самых чистых; все они увлечены пылом слепого воображения, судорожным трепетом безумной чувствительности, тиранией плоти и крови, галлюцинацией идей, неудержимым приливом гнева или любовной страсти; присоедините к ним чудовищные, кровожадные души, которые как львы бросаются на стадо людей, – какого-нибудь Яго, Ричарда III или леди Макбет, всех тех, что выдавили из своих жил ’’последнюю каплю молока человеческой природы”. И у Бальзака вы встретите две группы соответственных фигур: с одной стороны, маньяков Гюло, Клаэса, Горио, кузена Понса, Луи Ламбера, Гранде, Гобсека, Сарразина, Фрауэнгофера, Гамбару – страстных собирателей, смертельно влюбленных, записных художников и отъявленных скупцов; с другой – просто хищных зверей, Нусингена, Вотрена, дю Тилье, Филиппа Бридо, Растиньяка, дю Марсе, Марнеффов, самца и самку, – ростовщиков, мошенников, развратниц, честолюбцев, дельцов; все это сильные чудовищные создания, возникшие из того же замысла, что и у Шекспира, но порожденные с гораздо большим уже трудом, в атмосфере, которой передышало и которую заразило дыханием несравненно большее число человеческих поколений, не с такой уже молодой кровью в жилах и со всеми безобразиями, всеми болезнями, всею испорченностью старой цивилизации. Это самые глубокие литературные создания; они проявляют лучше всех других важнейшие характеры, изначальные силы, что ни есть основные пласты человеческой природы. Читая их, испытываешь какое-то грандиозное волнение – волнение человека, посвящаемого в тайну вещей, допущенного к созерцанию законов, управляющих душой, обществом и историей. Тем не менее произведенное ими на нас впечатление поистине тяжко: мы видели слишком уж много грязи и преступлений; непомерно развитые страсти, в своих неудержимых столкновениях, выставили уже слишком много опустошений и бед. Перед тем как читать книгу, мы смотрели на предметы с наружной их стороны, покойно, машинально, как любой мещанин глядит на обычные однообразные движения какого-нибудь военного развода. Писатель взял нас за руку и повел вдруг прямо на поле битвы; мы видим перед собой яростную схватку целых армий под смертоносным градом картечи, видим, как земля вокруг устилается трупами.
Поднимемся еще ступенью выше, и мы встретим уже типы совершенные, типы настоящих героев. Их много в драматической и философской литературе, о которых я вам говорил. Шекспир и поэты его времени расплодили совершенные образы невинности, благодушия, добродетели, женской нежности; в течение нескольких веков их замыслы появлялись затем под различными формами в английском романе или драме; последних дочерей Миранды и Имогены вы найдете в какой-нибудь Эсфири и Агнесе Диккенса. У самого Бальзака попадаются благородные и светлые характеры: Маргарита Клаэс, Евгения Гранде, маркиз д’Эспар, деревенский лекарь – настоящие образцы в своем роде. На обширном поприще литератур можно даже найти многих писателей, которые с умыслом выводили на сцену чувства самые прекрасные и души самого высшего разбора; таковы Корнель, Ричардсон, Жорж Санд. Один в Полиевкте, Сиде и Горации изображает полный рассудочности героизм; другой в Памеле, Клариссе и Грандисоне заставляет говорить протестантскую добродетель; Жорж Санд в романах Мопра, Франсуа-найденыш, Чертова лужа, Жан де ля Рош и многих еще новейших рисует врожденное великодушие. Наконец, иногда высшего разряда художник, например Гете в своей поэме Герман и Доротея, и особенно в своей Ифигении в Тавриде, Теннисон в Королевских идиллиях и в Принцессе, пытался подняться до самой вершины идеальных небес. Но мы ведь давно уж упали оттуда, и если они туда возвращались, то разве лишь увлеченные художественной пытливостью, своими отшельническими думами и любовью к археологическим поискам. Что касается других, то они выводят на сцену совершенные личности или как моралисты, или как наблюдатели; в первом случае – с тем, чтобы отстоять какое-нибудь положение, причем у них заметен оттенок холодности или решительно предвзятой мысли; во втором случае – с примесью разнообразных человеческих черт – коренных погрешностей, местных предрассудков, старых, вскоре ожидаемых или только возможных заблуждений, которые, правда, приближают идеальное лицо к лицам действительным, реальным, но зато и туманят блеск его красы. Воздух зрелых годами цивилизаций неблагоприятен для идеальной личности; она уместна в эпических и чисто народных литературах, когда неопытность и невежество еще предоставляют воображению полную свободу. Для каждой из трех групп типов и для каждой из трех групп литератур есть своя пора, особое свое время; одни стремятся заявить себя в эпоху упадка известной цивилизации, другие – в период ее зрелости, третьи – в ранний ее возраст. Во времена утонченно высокого образования, у народов, несколько устаревших, в эпоху гетер в Греции, в гостиных Людовика XIV и в наших появляются самые мелкие и самые верные жизни типы – литературы комические и реалистические. В пору взрослости, когда общество развертывается вполне, когда человек наполовину уже прошел какое-нибудь великое поприще, в Греции, например, в V веке до Р. X., в Испании и Англии в конце XVI, во Франции в XVII столетии и теперь являются могучие и страждущие типы, являются литературы драматические и философские. В промежуточные, средние эпохи, которые, с одной стороны, представляют зрелость, а с другой – упадок, в эпохи, какова, например, и настоящая, обе поры смешиваются благодаря обоюдным захватам, так что каждая из них наряду со своими собственными созданиями производит и создания, принадлежащие другой. Но творения подлинно идеальные появляются в изобилии только в первобытные, безыскусственные эпохи, и надо воротиться к отдаленным временам, к начальному происхождению народов, к детским грезам человечества для того, чтобы найти героев и богов. У каждого народа есть свои; он извлек их из своего сердца и вскармливает их своими сказаниями; постепенно подвигаясь в неведомую даль новых для него времен и грядущей истории, он не сводит глаз с бессмертных этих образов, сияющих перед ним, как благотворные гении, которым суждено руководить его и охранять. Таковы герои настоящих эпопей, Зигфрид в Нибелунгах, Роланд в древнефранцузских поэмах (Chansons de gestes), Сид в Романсеро, Рустем в Книге Царей, Антар в Аравии, Улисс и Ахиллес в Греции. Еще выше, и уже в верхней сфере неба, помещаются вещие прорицатели, спасители и боги. Греция изобразила их в поэмах Гомера, Индия – в ведийских гимнах, в древних эпопеях, в буддистских легендах, иудея и христианство – в псалмах, в евангелиях, в апокалипсисе и в той непрерывной цепи поэтических откровений, последними чистейшими звеньями которой являются (под конец средних веков) Фиоретти (Цветки) и Подражание Иисусу Христу. Преображенный и превознесенный человек выступает здесь в совершенной полноте и целостности; в нем, обоготворенном или напрямик божественном, нет уже никакого недостатка; если его ум, сила или доброта имеют еще какие-нибудь пределы, то это разве только в наших глазах и с нашей лишь точки зрения. На взгляд его времени и его века пределов этих нет; верование придало ему все, что было тогда постижимо воображением; он истинно наверху величия, и тут же, рядом с ним, во главе художественных произведений, стоят те возвышенные и вполне искренние создания, которые несли в себе его идею, не сгибаясь под ее тяжестью.








