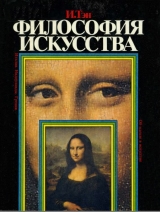
Текст книги "Философия искусства"
Автор книги: Ипполит Адольф Тэн
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
То остановившийся вдруг хор, вперемежку с полухорами, развертывает, все с возрастающей силой, великолепные звукосочетания катящейся, как триумфальная колесница, оды: ”На земле и в неукротимом Океане только нелюбые Зевсу существа ненавидят голос Пиэрид. Таков этот божий враг, Тифон, стоглавое чудовище, пресмыкающееся в гнусном Тартаре. Сицилия гнетет косматую его грудь. Столп, высящийся до неба, снежистая Этна, вечная кормилица суровых стуж, сдерживает его порывы... и из пучин своих изрыгает он потоки огня, к которым нет подступа. Днем подымаются от них облака багрового дыма, а ночью вихри красного пламени низвергают с грохотом скалы в глубокое море... Дивно глядеть на страшное это чудовище, заточенное под высокими вершинами и черными борами Этны, под спудом целой равнины, как ревет оно под тяжкими своими узами, бороздящими и колющими распростертый хребет его”.
Поток образов так и льется, все возрастая, прерываемый на каждом шагу такими неожиданными взрывами, поворотами и скачками, что их смелость, их громадность не поддаются переводу ни на какой другой язык. Очевидно, что эти греки, столь трезвые и ясные в своей прозе, приходят здесь в какое-то опьянение, переступают всякую меру под влиянием восторга и лирического неистовства. Вот это-то и есть крайности, не под стать нашим притупленным органам и нашей рассудочной цивилизации. Однако же мы все-таки разгадываем их настолько, чтобы понять, что могла доставить подобная культура художествам, изображающим человеческое тело. Она образует человека хором; она научает его позам, жестам, скульптуральному действию; она ставит его в группу, которая сама уже подвижной барельеф; вся она ведет к тому, чтобы создать из него самородного актера, играющего по призванию и для своего собственного удовольствия, который не налюбуется сам собой и вносит гордость, серьезность, свободу и простое достоинство гражданина в упражнения театрального фигуранта и в мимику записного плясуна. Орхестрика доставила скульптуре ее позы, ее движения, ее драпировку, ее группы; мотивом фризу Парфенона послужил ведь торжественный ход панафинейских праздников, а пиррическая пляска подала мысль к изваяниям Фигалии и Будруна.
II
Гимнастика. – Чем она была во времена Гомера. – Возобновление и преобразование ее дорийцами. – Коренное начало государства, воспитания и гимнастики в Спарте. – Подражание дорийским нравам или заимствование их другими греками. – Восстановление и развитие всенародных игр. – Гимназии. – Атлеты. – Важность гимнастического воспитания в Греции. – Влияние его на тело. – Совершенство форм и поз. – Вкус к физической красоте. – Образцы, доставляемые гимнастикой ваянию. – Впоследствии образцом является статуя.
Наряду с орхестрикой в Греции было другое, еще более народное учреждение, составлявшее вторую часть воспитания, – гимнастика. Мы встречаем ее уже у Гомера: герои борются, метают диск, бегают пешие и гоняются на колесницах; неискусный в телесных упражнениях слывет ’’торгашом”, человеком низшего разряда, который, плотно нагрузив свой корабль, только и думает что о барыше да о съестном запасе[106]. Но учреждение это еще нестройно, не очистилось от сторонних примесей и не достигло полноты. Играм нет ни определенного места, ни сроков времени. Их устраивают случайно, по поводу смерти какого-нибудь героя, богатыря или в честь заезжего гостя. Множество упражнений, развивающих ловкость и силу, еще неизвестны; зато допускают в игры бой оружием, кровавый поединок, стрельбу из лука, метание копьем. Только в последующий период одновременно с орхестрикой и лирической поэзией игры эти начинают развиваться, устанавливаются окончательно и принимают ту форму и то значение, с каким они стали потом известны нам. Первый знак к такой перемене был подан дорийцами, новым народом чисто греческого племени, который, вышедши из своих гор, занял Пелопоннес и, подобно нейстрийским (т. е. западным) франкам, внес с собой свою тактику, водворил свое влияние и подновил свежими соками племенной, национальный дух. Это были люди энергические и суровые, довольно похожие на средневековых швейцарцев, далеко не так блестящие и живые, как ионийцы, привязанные к преданиям старины, учтивые уже от природы, инстинктивно склонные к дисциплине, наделенные высокой, мужественной и спокойной душой и положившие печать этого духа на строгую важность своего богослужения, на героический и нравственный характер своих богов. Главный род их, спартанцы, водворился в Лаконии посреди эксплуатируемых или порабощенных старожилов края; девять тысяч семейств победителей гордых и суровых, засевши в городе без стен, держат в повиновении себе сто двадцать тысяч мызников и двести тысяч рабов (илотов); это была армия, ставшая постоянным лагерем среди неприятеля, который вдесятеро превышал ее числом.
От этой главной черты зависят все остальные. Мало-помалу порядок, обусловленный положением, упрочился и к эпохе возобновления Олимпийских игр водворился уже вполне. Все личные интересы и прихоти стушевались перед идеей общественного блага. Дисциплина вводится такая, как в полку, которому грозит беспрерывная опасность. Спартанцу запрещено торговать, заниматься какою бы то ни было промышленностью, отчуждать свой земельный надел, увеличивать с него ренту; он должен думать только о том, чтобы быть воином. В дороге он может воспользоваться лошадью, рабом и съестными запасами своего соседа; между товарищами взаимные услуги обращаются в право и собственность не принимается в строгом своем значении. Новорожденное дитя приносят в особый совет старшин, и если оно признано слишком слабым или безобразным, его просто убивают; в армию допускаются ведь только здоровые, а здесь каждый – рекрут с колыбели. Старик, неспособный иметь детей, сам выбирает молодого человека и вводит его к себе в дом, потому что рекруты берутся с каждого дома, без различия. Люди зрелых лет для того, чтобы поближе сойтись, взаимно ссужают друг друга женами: лагерная жизнь не слишком щепетильна в домашнем обиходе, и часто много становится тут общим. Едят вместе братчинами или артелями, из которых у каждой свои правила, и тут любой братчик вносит свою долю деньгами или натурой. Военное дело впереди всего. Позорно корпеть дома; солдатчина преобладает над семейной жизнью. Новобрачный сходится с женой только тайком и по-прежнему проводит весь свой день в военной школе или на учебной (плац-парадной) площади. По той же причине и дети держатся на военном положении, воспитываются вместе и с семи лет разделяются на отряды (agelai). Перед ними каждый взрослый человек уже старшой или ’’дядька” (paidonomos); он властен при случае и наказать их без всякого возражения со стороны отца. Босые, прикрытые одним плащом, все одним и тем же и зиму и лето, они идут по улице молча и потупясь, как новобранцы, только еще выслуживающие право носить оружие. Наряд у них форменный, осанка и поступь определены правилами. Спят они на охапке тростника, ежедневно купаются в холодных водах Эврота, едят понемногу, и то наскоро, в городе живут хуже, чем в полевом стане, – все это для закалки будущего воина. Разделенные на сотни каждая под начальством молодого сотника, они дерутся руками и ногами также для подготовления к войне. Захотят они что-нибудь прибавить к скудной своей трапезе, пусть стараются уворовать по соседним домам или мызам; солдат ведь должен уметь жить на чужой счет. Иногда их нарочно пускают в засады по дорогам, и вечером они убивают запоздавших илотов; полезно-де присмотреться к крови и заранее изловчить руку на смерть.
Искусства здесь только те и есть, какие подобают ратному ополчению. Они принесли с собой особый музыкальный тип, единственный, быть может, чисто греческого происхождения[107]. Характер его серьезный, мужественный, возвышенный, чрезвычайно простой, даже суровый, как нельзя более способный внушать терпение и энергию. Он не зависит от личного произвола; закон не позволяет вводить в него вариации, смягчения, прикрасы какого бы ни было чужого стиля; это – нравственное общенародное учреждение; подобно барабанам и сигналам наших полков, он руководит и движениями войск, и их парадами; есть наследственные флейтисты, вроде ’’пиброчников” в шотландских кланах[108]. Самая пляска у них военное упражнение, род церемониального марша. С пяти лет мальчиков учат пиррической пляске, пантомиме вооруженных бойцов, подражающих всем оборонительным и наступательным движениям, всякого рода позам и жестам, какие принимаются и делаются для того, чтобы нанести или отбить удар, отскочить, прыгнуть, нагнуться, выстрелить из лука или метнуть копье. Есть и другая пляска, называемая ’’анапале”, где мальчики (прыжками и жестами) подражают борьбе и кулачному бою. Для юношей существуют свои особые упражнения, для молодых девушек – свои, с отчаянными прыжками, ’’скачками лани”, быстрой беготней, когда, ’’как жеребята и распустив по ветру волоса, вздымают они за собой столбы пыли” (Аристофан). Но самые главные упражнения – это гимнопедии, обширные смотры, на которые собирается весь народ, разделенный на несколько хоров. Хор стариков поет: ”И мы были некогда полными сил юношами”; хор взрослых мужчин отвечает: ”Мы же сильны вот теперь; попытай, коли есть охота”; детский хор прибавляет в свою очередь: ”А мы со временем будем и еще сильнее”. Все с детства изучали и беспрерывно повторяли каждый шаг, каждую эволюцию, каждый тон, каждое движение; нигде хоровая поэзия не соединяла столь обширных и прекрасных совокупностей. Если бы в настоящее время мы хотели отыскать сколько-нибудь аналогическое этому зрелище, мы нашли бы его разве, быть может, в Сен-Сире[109], с его парадами и эволюциями, или еще лучше – в военно-гимнастической школе, где солдаты учатся, между прочим, и хоровому пению.
Ничего нет удивительного, если подобная городская община могла организовать и вполне создать гимнастику. Под страхом смерти один спартанец дожен был стоить десяти илотов, так как каждый из них был тяжеловооруженный пехотинец (гоплит) и дрался грудь с грудью в линии, стоя твердой ногой, то совершеннейшим воспитанием считалось то, которое вырабатывало самого проворного и мощного гладиатора. Для этого принимались меры еще до рождения и в противность всем остальным грекам спартанцы подготовляли не только мужчину, но и женщину, чтобы дитя, наследуя качества обоих родителей, получало храбрость и силу равно от матери, как и от отца[110]. Есть гимназия для девочек, где, подобно мальчикам, они упражняются совсем нагие или в коротких туниках, бегают, прыгают, метают диск и копье; у них есть свои хоры; в гимнопедиях участвуют они вместе с мужчинами. Аристофан, хотя и с оттенком афинской насмешливости, любуется, однако, их свежестью, цветущим здоровьем и несколько животной силой[111]. Кроме того, закон определяет брачный возраст и избирает момент и обстоятельства, самые благоприятные для удачного зарождения. Есть вероятность, что от таких родителей произойдут красивые и сильные дети; это – система конских заводчиков, и ей подлинно следуют до конца, так как неудачные продукты решительно отбрасываются. Едва дитя начинает ходить, его не только закаляют и натаскивают, но методически школят и укрепляют. Ксенофонт говорит, что из всех греков только одни лакедемонцы одинаково упражняют все части тела – шею, руки, плечи, ноги, и притом не только в ранней молодости, но и всю жизнь и каждый божий день, в стане даже по два раза ежедневно. Следствия подобной дисциплины скоро обнаружились. ’’Спартанцы, – говорит Ксенофонт, – здоровеннейшие из всех греков; между ними найдешь самых красивых в Греции мужчин и женщин”. Они покорили себе мессенцев, бившихся со всей пылкостью гомеровских времен; они стали руководителями и вождями Греции, и в эпоху персидских войн влияние их так было упрочено, что не только на суше, но даже и на море, где у них почти не было судов, все греки, не исключая и афинян, безропотно принимали от них полководцев.
Когда какой-нибудь народ становится первым на политическом и военном поприще, соседи перенимают у него в большей или меньшей степени те учреждения, которые доставили ему первенство. Мало-помалу греки[112] заимствуют у спартанцев и у дорийцев вообще очень важные черты их нравов, их управления и их искусства: дорийскую гармонию, высокую хоровую поэзию, многие фигуры плясок, архитектурный стиль, более простую и мужественную одежду, более стойкий военный порядок, полную наготу атлета, возведенную в систему гимнастику. Множество слов, относящихся к военному искусству, музыке и палестре, обличают свое дорийское происхождение или, по крайней мере, принадлежность к дорийскому диалекту. Уже в IX столетии новое значение гимнастики обнаружилось восстановлением прерванных перед тем игр, и бездна фактов подтверждает, что с той именно поры они год от года становятся все популярнее. С 776 года Олимпийские игры служат эрой и исходной точкой, связывающей ряд годов. В течение двух следующих веков учреждаются Пифийские, Истмийские и Немейские игры. Они ограничивались сначала бегом на обычном ристалище, к ним последовательно присоединились тот же бег на двойном ристалище, борьба, пентафл[113], кулачный бой; ристание в колесницах, борьба в совокупности с кулачным боем, скачки верхом; потом упражнения для детей: бег, борьба, кулачный бой и совокупность двух последних, разные другие еще игры – всего двадцать четыре упражнения. Лакедемонские обычаи преобладают в них над гомеровскими преданиями: победитель получает уже не ценный подарок, а просто лиственный венок; на нем не остается уже и древнего (широкого) пояса; начиная с четырнадцатой Олимпиады, он раздевается весь, донага. По именам победителей видно, что на игры стекались со всей Греции, со всей Великой Греции, с островов и из отдаленнейших колоний. С тех пор нет уже ни одной гражданской общины без гимназии; это признак, по которому всегда можно отличить греческий город от других[114]. В Афинах первая гимназия восходит приблизительно к 700-му году. При Солоне считалось уже три большие общественные и множество мелких. С 16 до 18 лет юноша проводил там каждый день, как в открытой школе, учрежденной только не для развития ума, а для усовершенствования тела. Кажется даже, что к этому именно времени прекращалось изучение грамматики и музыки, с тем чтобы ввести молодого человека в высший и более специальный уже класс. Гимназия была большой квадрат с портиками и яворовыми аллеями, обыкновенно близ источника или реки, украшенный статуями богов и увенчанных атлетов. Она имела своего начальника и надзирателей, специальных репетиторов, свое празднество в честь Гермеса; в промежутки гимнастических упражнений юноши играли; гражданам предоставлялся туда свободный вход; много мест было устроено вокруг бегового поля; туда заходили для прогулки и чтобы посмотреть на молодых людей – это было место для бесед, впоследствии там зародилась философия. В такой школе, имевшей своей задачей устройство состязаний, соревнование доходило до крайностей и производило чудеса: вы видите перед собой людей, готовых упражняться в течение целой жизни. По уставу игр, выходя на арену, они обязаны были присягнуть, что провели в упражнениях не менее десяти месяцев со всевозможным тщанием и без перерывов; но они делают несравненно более этого, тренировка их длится целые годы и до зрелого даже возраста; они строго держатся известной диеты: едят много, но лишь в определенные часы; мышцы свои укрепляют употреблением холодной воды и банной скребницы; берегутся всяких нежащих и раздражающих удовольствий и обрекают себя на умеренность. Многие из них возобновляли подвиги сказочных героев. Милон, говорят, носил на плечах быка и, хватаясь с тыла за упряжную колесницу, останавливал ее движение. Надпись под статуей кротонца Фаилла свидетельствовала, что одним скачком он перепрыгивал пространство в пятьдесят пять футов и бросал на расстояние девяносто пяти футов восьмифунтовый диск. В числе пиндаровских бойцов есть настоящие гиганты.
И заметьте, что в греческой цивилизации эти чудные тела не редкость, не произведения одной лишь роскоши, а не так, как в наше время, – только бесполезные маки, случайно расцветшие на хлебных полях; их следует, напротив, сравнить с высокими колосьями, переросшими всю жатву. Государство нуждается в них; общественные нравы их требуют. Эти геркулесы пригодны не на один только показ. Милон водил своих сограждан в битву, а Фаилл был начальником кротонцев, пришедших на помощь грекам против мидян. Полководец в то время был не вычислитель, располагающийся с картою и подзорною трубой где-нибудь на высоте: с копьем в руках он бился в голове своего отряда, грудь к груди, как настоящий солдат. Мильтиад, Аристид, Перикл и даже, гораздо позже, Агесилай, Пелопид, Пирр участвуют в бою не одним умом, но и руками, наносят и отбивают удары, идут на штурм, пешком или на коне врываются в жесточайшую свалку; Эпаминонд, политик и философ, будучи смертельно ранен, утешается, как простой гоплит, тем, что выручен его щит. Победитель в пентафле Арат был последним в Греции военачальником и не раз пользовался своей ловкостью и силой в предпринимаемых им штурмах и внезапных нападениях; Александр несся при Гранике в атаку, как гусар, и не хуже вольтижера первый вскочил в город Оксидраков. При таком способе вести войну врукопашную и в одиночку первейшим гражданам и самим даже государям приходилось быть лихими атлетами. К этим требованиям опасности прибавьте еще и заманчивые побуждения народных праздников; церемонии так же, как и битвы, требовали выправленных на славу тел: невозможно было с честью появиться в хорах, не прошедши наперед курса в гимназии. Я рассказывал, как поэт Софокл проплясал нагой победный пеан после Саламинской битвы; те же нравы держались еще и в конце IV столетия. Александр, прибыв в Трою, разделся донага, чтобы в честь Ахилла обежать со своими спутниками вокруг колонны, обозначавшей могилу героя. Несколько далее в Фаселиде, увидев на общественной площади статую Феодекта, он после ужина проплясал вокруг нее и закидал ее венками. Чтобы удовлетворить таким вкусам и таким потребностям, гимназия была единственной школой. Она походила на те академии наших последних веков, куда все молодое дворянство (или шляхетство) стекалось учиться фехтованию, верховой езде и танцам. Свободные граждане были ведь те же дворяне древности, поэтому каждый свободный гражданин непременно должен был посещать гимназию: при этом только условии он делался благовоспитанным человеком, иначе его причислили бы к ремесленникам, людям низкого происхождения. Платон, Хрисипп, поэт Тимокреон были сперва (записными) атлетами; о Пифагоре сказывали, что он получил награду за кулачный бой; Еврипид был увенчан как атлет на Элевсинских играх. Клисфен, тиран сикионский, принимая у себя женихов своей дочери, вывел их на арену ”с тем, – говорит Геродот, – чтобы изведать их породу и воспитание”. В самом деле, следы гимнастического или рабского воспитания тело сохраняло до конца; это сразу можно было узнать по его статности, походке, движениям, по умению драпироваться, как прежде у нас ловкого и облагороженного школой джентльмена отличали от деревенского увальня, невзрачного мастерового.
Даже нагое и неподвижное тело грека свидетельствовало красотой своих форм о тех упражнениях, среди которых оно развивалось. Кожа его, загоревшая и окрепшая от солнца, масла, пыли, банной скребницы и холодных купаний, не казалась совсем голою; она привыкла к воздуху, была в нем как будто в своей стихии; разумеется, она не дрожала, ежась от холода, не пестрилась синими жилками, не покрывалась ознобной сыпью – это была здоровая ткань, прекрасного тона, обличающая вольную и мужественную жизнь. Агесилай, чтобы ободрить своих воинов, велел однажды раздеть пленных персов; взглянув на их белые, изнеженные тела, греки расхохотались и пошли вперед, полные презрения к своим противникам. Все мышцы у них были укреплены и доведены до крайней податливости; ничто не было упущено из виду; различные части тела находились в полном равновесии; надлокотники, столь тощие теперь, худые и малоподвижные лопатки становились полнее и приходили в соразмерность с бедрами; учителя, как истые художники, упражняли тело, с тем чтобы сообщить ему не только силу, упругость и быстроту, но также симметричность и изящество. ’’Умирающий Галл”, принадлежащий пергамской школе, показывает при сравнении его со статуями атлетов, насколько неразвитое тело отстает от развитого; с одной стороны, клочковатые и жесткие, как грива, волосы, мужицкие ноги и руки, толстая кожа, неподатливые мышцы, острые локти, вздутые жилы, угловатые очертания, терпко сталкивающиеся линии – словом, чисто животное тело здорового дикаря; с другой – все формы, видимо, облагорожены, стоптанная и рыхлая прежде пята[115] теперь сложилась отчетливым овалом, нога, прежде слишком распущенная и выдающая свое обезьянье происхождение, подобралась теперь в высокий подъем и стала упруже для прыжка; коленная чашка, вообще сочленения, весь остов, некогда торчавшие наружу, теперь полусглажены и лишь слегка оттенены; плечевая линия, сперва горизонтальная и жесткая, смягчена теперь приятным изгибом; повсюду гармонии частей, которые как бы продолжают одна другую и, взаимно подходя, сливаются; повсюду юность и свежесть текущей жизни, столько же естественной и простой, как жизнь любого цветка или дерева. В Менексене, Соперниках или Xармиде Платона вы найдете множество мест, схватывающих как бы на лету некоторые из этих положений; воспитанный таким образом человек умеет ловко нагнуться, стоять прямо на ногах, прислониться плечом к колонне и быть во всех этих позах прекрасным, как статуя; подобно этому, какой-нибудь дореволюционный дворянин, раскланиваясь, нюхая табак или к чему-либо прислушиваясь, всегда сохранял ту чисто кавалерскую грацию, которую мы встречаем на тогдашних гравюрах и портретах. Но в приемах, движении и позе грека вы видите не придворного, а питомца палестры. Вот вам один из них, нарисованный рукой Платона таким именно, каким сложился он под влиянием наследственной гимнастики, среди избранной породы.
’’Оно естественно, Хармид, что ты первенствуешь перед всеми другими; ведь никто здесь, я думаю, не укажет скоро двух семейств в Афинах, которых союз мог бы породить людей красивее и лучше тех, от кого ты произошел. В самом деле, семья твоего отца, семья Крития, Дропидова сына, прославлялась Анакреонтом, Солоном и многими другими поэтами как знаменитая красотой, добродетелью и всеми иными благами, в которых полагают счастье. Таковая же была и семья твоей матери: никто, говорят, не был прекраснее и рослее дяди твоего Пирилампа, когда бывало, отправляют его послом к великому царю или к какому-нибудь другому государю; да и вся эта семья ни в чем не уступит той. Происшедши от таких родителей, естественно, что ты во всем первый. И начать с того, тем именно, что у всех на виду, то есть твоей наружностью, ты, дорогое дитя Главка, не срамишь, мне кажется, ни одного из своих предков”.
В самом деле, прибавляет в другом месте этого разговора Сократ, ”он подлинно удивлял меня ростом и красотою... Если он казался таким нам, зрелым людям, это еще не диво, но я заметил, что и из детей никто не глядел от него в другую сторону, никто, самые даже малютки... все любовались им, что статуей какого-нибудь божества”. А Херефонт старается выхвалить Хармида еще больше: ”Уж на что он, кажется, пригож лицом, Сократ, не правда ли? Ну, а захоти он только раздеться, ведь лицо пошло бы ни во что: до того прекрасны формы его тела”.
В этой небольшой сцене, которая переносит нас далеко назад от своего времени, к лучшей поре телесной наготы, все знаменательно и драгоценно. Тут видны и предания крови, и действие воспитания, и общенародный вкус к изящному – все существенные зачатки совершенной скульптуры. Гомер называет Ахилла и Нерея прекраснейшими из всех греков, собравшихся под Троей; Геродот указывает на спартанца Калликрата как на красивейшего из греков, выступивших против Мардония. Все праздники богам, все большие церемонии вызывали состязание в красоте. В Афинах выбирали самых красивых стариков нести ветви на панафинеях; в Элиде зрелые красавцы должны были подносить жертвы богине. В Спарте, в гимнопедиях, полководцы и знаменитые люди, не отличавшиеся ростом и благородством наружности, при церемониальном шествии хора размещались в задних рядах. Лакедемоняне, по словам Феофраста, присудили своего царя Архидама к денежной пене за то, что он взял малорослую жену, которая, по их убеждению, даст им корольков вместо царей. Павсаний нашел в Аркадии состязания в красоте между женщинами, существовавшие уже около девяти столетий. Когда один перс, родня Ксерксу и самый рослый из его войска, умер в Аханте, жители принесли ему жертву как герою (полубожественному существу). Эгестяне построили небольшой храм на могиле одного бежавшего к ним кротонца, Филиппа, победителя на Олимпийских играх, красивейшего из греков его времени, и еще при Геродоте приносили ему жертвы. Таково чувство, вскормленное воспитанием и, в свою очередь, ставившее ему целью выработку красоты. Конечно, греческое племя было и само собой красиво, но оно еще украсило себя систематически; воля усовершенствовала природу, а ваяние довершило то, чего природа даже и при тщательной возделке достигала только вполовину.

Итак, в течение двух столетий оба совершенствующие человеческое тело учреждения, орхестрика и гимнастика, возникли, развились, из точек их первоначального появления распространились на весь греческий мир, дали орудие войне, украшение богослужебному культу, эру хронологии, поставили телесное совершенство главной целью жизни человеческой и восхищение изящною везде формой довели наконец до явной порочности[116]. Медленно, постепенно и всегда лишь поодаль искусство, производящее статую из металла, дерева, слоновой кости или мрамора, следует за воспитанием, создающим живую статую. Оно идет не тем же шагом, что и последнее; будучи ему современно, оно в продолжение двух веков стоит ниже, в качестве простого копииста, слепщика. О правде стали думать раньше, чем о подражании; действительным телом заинтересовались прежде, чем телом, воспроизведенным искусственно; озаботились наперед составлением живого хора, а потом уже его изваянием. Всегда физический или нравственный образец предшествует своему воспроизведению, но предшествует незадолго; в момент, когда создается воспроизведение, необходимо, чтобы образец был еще в памяти у всех. Искусство есть гармонический, и усиленный притом отголосок; оно получает совершенную отчетливость и полноту в тот именно момент, когда бледнеет жизнь, которой оно служит эхом. Так точно и было с греческим ваянием; оно достигает зрелости в тот самый миг, когда оканчивается век лиризма, в полустолетие, наставшее за Саламинской битвой, когда вместе с прозой, драмой и первыми философскими исследованиями начинается новая культура. Тогда от точного подражания искусство переходит вдруг к прекрасному творчеству. Аристокл, эгинские ваятели, Онат, Канах, Пифагор из Региона, Каламид, Агелад еще весьма близко копировали действительную форму, подобно Верроккьо, Поллайоло, Гирландайо, Фра-Филиппо и самому Перуджино; но в руках лучших учеников их: Мирона, Поликлета, Фидия – выделяется уже идеальная форма, как в руках Леонардо, Микеланджело и Рафаэля.
III
Религия. – Религиозное чувство в V веке. – Аналогия между этим временем и эпохой Лоренцо Медичи. – Влияние первых философов и физиков. – Человек еще чувствует божественную жизнь природы. – Он распознает еще ту естественную основу, откуда вышли божеские личности. – Чувство афинянина на великих панафинеях. – Хоры и игры. – Процессия. – Акрополь. – Эрехтейон и легенда про Эрехтея, Кекропса и Триптолема. – Парфенон и легенда о Палладе и Посейдоне. – Фидиева Паллада. – Характер статуи, впечатление зрителя, идея художника.
Греческое ваяние создало не одних только красивейших в мире людей. Оно создало также богов, и, по отзывам всех древних писателей, эти боги были венцом греческого искусства. К глубокому чутью телесного и атлетического совершенства у публики и лучших художников присоединялись своеобразное религиозное чувство, миросозерцание, ныне совсем утраченное, особенный способ постигать, чтить и боготворить естественные и божеские силы. Вот этот-то особый род чувства и веры необходимо представить себе, когда хочешь поглубже проникнуть в душу и гений Поликлета, Агоракрита или Фидия.
Достаточно прочитать Геродота[117], чтобы увидеть, до какой степени в первой половине V столетия еще была у греков жива вера. Не только сам Геродот благочестив и даже набожен до того, что не дерзает объяснить то или другое священное имя, передать ту или другую легенду, но и весь еще народ вносит в свой богослужебный культ ту величавую и страстную вместе важность, какую в то же самое время выражают стихи Эсхила и Пиндара. Боги еще живы, они тут, они говорят, их видели, как видели деву Марию и Святых в XIII, например, веке. Когда Ксерксовы послы были умерщвлены спартанцами, то внутренности жертв дали недобрые предзнаменования, потому что убийство это оскорбило покойника, память славного гонца Агамемнонова, Талфивия, которому спартанцы учредили культ. Для ублажения Ксеркса двое богатых и знатных граждан отправляются в Азию добровольно отдаться ему в руки. При появлении персов все города обращаются за советом к оракулу; он велит афинянам призвать на помощь к себе ’’зятя”; те вспомнили, что ведь Борей похитил некогда Орифию, дочь первого предка их Эрекфея, и выстроили ему молельню близ Илисса. В Дельфах бог объявил, что будет защищаться сам; молния падает на варваров, скалы обваливаются и давят их, между тем как из храма Паллады-Пронеи раздаются голоса и ратные клики и два местных героя, Филак и Автоной, окончательно прогоняют устрашенных персов. Перед Сала-минской битвой афиняне привозят из Эгины статуи Эакидов, чтобы они помогли им в бою. Во время сражения путники около Элевсиса видят страшные столбы пыли и слышат голос мистического Якха, идущего на помощь эллинам. После битвы в жертву богам приносятся три взятых у неприятеля корабля; один из трех назначен собственно для Аякса, и из общей добычи выделяется серебро, потребное для принесения в Дельфы статуи в двенадцать локтей вышиной. Я никогда бы не кончил, если б стал перечислять все выражения народной набожности; она была очень еще пламенна и пятьдесят лет спустя. ’’Диопиф, – говорит Плутарх, – издал закон, повелевавший доносить на тех, кто не признает бытия богов или распространяет новые учения о небесных явлениях”. Аспазия, Анаксагор, Еврипид подверглись тревогам или преследованиям, Алкивиад был осужден на смерть, а Сократ и действительно умерщвлен за мнимое или доказанное нечестие; гнев народного негодования обрушился против тех, кто глумился, представляя мистерии, или разбивал статуи богов. Конечно, в этих подробностях вместе с устойчивостью древней веры видно уж и появившееся вольномыслие: вокруг Перикла, как вокруг Лоренцо Медичи, собрался небольшой кружок умствователей и философов; в среду его был допущен Фидий, как позднее – Микеланджело. Но в ту и другую пору предание и легенда всецело занимали и полновластно направляли воображение и поступки. Когда отголосок философских бесед потрясал душу, полную образов, он только очищал и возвышал для нее этим прежние лики богов. Новая мудрость не уничтожала веры, она истолковывала ее и возводила к коренной ее основе, к поэтическому чувству естественных сил. Грандиозные догадки первых физиков оставляли мир по-прежнему живым и лишь придавали ему еще более величия; быть может, только благодаря слышанному от Анаксагора о Нусе (вселенском разуме) Фидий смог создать своего Зевса, свою Палладу, свою небесную Афродиту и довершить, как говорили греки, величие богов.








