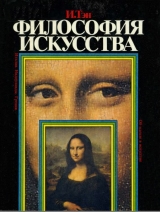
Текст книги "Философия искусства"
Автор книги: Ипполит Адольф Тэн
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
В это время Англия, покончив с одной вековой борьбой, вовлекается в новую ужаснейшую резню, известную под названием войн Алой и Белой Розы, где люди хладнокровно губили друг друга и вдобавок, после сражения, избивали еще безоружных детей. До самого 1550 года она остается страной варваров, охотников, мызников и солдатских шаек. В каком-нибудь городе, внутри края, насчитывалось всего не более двух или трех порядочных печей; дома самих сельских дворян были жалкие, крытые соломой избушки, обмазанные самой грубой глиной и освещаемые простым в стене отверстием. Средний люд спал на соломе, ”с добрым кругляком под головой”. ’’Подушки предназначались, по-видимому, только для родильниц”; посуда была даже не оловянная, а просто деревянная. В Германии свирепствует жестокая и непримиримая война гуситов; император немощен; дворянство невежественно и нагло; вплоть до времен Максимилиана господствует кулачное право, т. е. разрешение всех споров силой и привычка к самоуправству; из застольных речей Лютера и из записок Ганса Швейнихена можно видеть, до какой степени безобразия доходили в то время у дворян и ученых пьянство и грубость нравов. Что до Франции, то это был самый плачевный период в ее истории: страна порабощена и опустошена англичанами; при Карле VII волки заходят в предместья Парижа; по изгнании англичан кожедеры, предводители бродячих шаек, живут прямо за счет крестьянина, грабят и разоряют его сколько душе угодно; один из этих воровских разбойничьих атаманов, Жиль де Ретц, послужил героем одной народной легенды про Синюю Бороду. До самого конца этого столетия цвет народа, дворянство, остается крайне грубо и дико. Венецианские послы говорят, что у французских вельмож ноги изогнуты и искривлены, потому что они всю жизнь проводят на коне. Рабле покажет вам, в середине XVI столетия, грязную огрубелость и изумительное зверство готических нравов. Граф Бальдассарре Кастильоне около 1525 г. писал: ’’Французы и не знают другой заслуги, кроме воинской, а все прочее не ставят ни во что; они не только не уважают науки, но даже гнушаются ею и считают всех ученых самыми ничтожными из людей; по их мнению, назвать кого-нибудь клерком, грамотеем – значит нанести ему величайшее оскорбление”.
Короче, по всей Европе феодальные порядки держатся еще в полной силе, и люди, подобно свирепым и сильным животным, только и делают, что пьют, едят, дерутся и всячески упражняют члены своего тела. Напротив, Италия – страна почти новой культуры. Под верховенством Медичей во Флоренции водворился мир; граждане царят в ней, и царят спокойно; подобно главам своим, Медичам, они создают фабрики, занимаются торговлей, банковскими операциями и наживают деньги, с тем чтобы издерживать их, как подобает умным людям. Заботы войны не тревожат их более, как прежде, опасностями суровых и трагических катастроф. Они ведут ее наемными руками кондотьеров, а те, как сметливые торгаши, обращают войну в ряд кавалерийских разъездов; если они и убивают друг друга, то лишь чисто невзначай; повествуется о некоторых сражениях, где на поле битвы оставалось каких-нибудь три солдата, даже иногда всего один. Дипломатия заступает место силы. ’’Итальянские правители, – говорит Макиавелли, – думают, что достоинство государя состоит в умении оценить любую остроумную отповедь в писателе, сочинить отличное письмо, обнаруживать в своих речах живость и утонченность, хитро провести какой-нибудь обман, украшаться дорогими камнями и золотом, спать и есть великолепнее, чем все остальные люди, и окружать себя всякого рода чувственными утехами”. Они становятся знатоками, начитанными, любителями ученых бесед. Впервые после падения древней цивилизации мы встречаем общество, дающее первое место умственным наслаждениям. Видными, передовыми людьми этого времени были гуманисты, страстные восстановители литературы греческой и латинской: Поджио, Филельфо, Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Халкондил, Эрмолао Барбаро, Лоренцо Валла, Полициано. Они роются в библиотеках Европы, с тем чтобы открывать и издавать рукописи; они не только разбирают и изучают найденное, но сами вдохновляются им; сами становятся древними умом и сердцем, пишут почти так же чисто по-латыни, как современники Цицерона и Вергилия. Слог сразу делается отличным, и ум сразу созревает. Когда от тяжеловесных гекзаметров и надуто-высокопарных посланий Петрарки перейдешь к изящным двустишиям Полициано или к красноречивой прозе Валла, то проникаешься чуть не физическим даже удовольствием. И пальцы, и ухо невольно скандируют легкое движение поэтических дактилей и полное, широкое развитие ораторских периодов. Сделавшись ясным, язык стал в то же время благороден, а ученость, перейдя из монастырских стен во дворцы, перестала быть какой-то машиной словопрения и изменилась в орудие удовольствий.
В самом деле, эти ученые не составляют уже маленькой, безвестной кучки, замкнутой в библиотеках, удаленной от общественной благосклонности. Напротив, имя гуманиста достаточно теперь для того, чтобы вызвать к человеку внимание и благодеяние государей. Герцог Лодовико Сфорца в Милане приглашает в свой университет Мерулу и Димитрия Халкондила, а министром к себе берет ученого Симонетту. Леонардо Аретино, Поджио, Макиавелли становятся поочередно секретарями флорентийской республики. Антонио Бекаделли был секретарем при неаполитанском дворе. Папа Николай V является величайшим покровителем итальянских ученых. Один из них посылает неаполитанскому королю древнюю рукопись, и король благодарит его за подарок, как за истинную почесть. Козимо Медичи основал философскую академию, а Лоренцо возобновил платоновские пиры. Друг его Ландино сочиняет разговоры, в которых действующие лица, отправившись на прогулку в монастырь камальдулов[19], спорят в течение нескольких дней о том, какая жизнь выше: деятельная или созерцательная. Петр, сын Лоренцо, учреждает в Санта-Мария-дель-Фиоре диспуты об истинной дружбе и в награду победителю назначает серебряный венок. Князья торговли и владетельные особы окружают себя философами, художниками и учеными; здесь вы встретите Пико делла Мирандолу, Марсилио Фичино, Полициано, Леонардо да Винчи, Мерулу, Лет Помпония; собирают они их для того, чтобы в зале, украшенном дорогими бюстами, перед рукописями, которые начертала древняя мудрость, беседовать с ними отборным и изящным языком, без этикета и чинопочитаний, с тем приветливым и благородным любопытством, которое, расширяя и украшая науку, преобразует удушливую замкнутость схоластических прений в широкое празднество мыслящих людей.
Ничего нет удивительного, если и народный язык, почти совершенно забытый со времен Петрарки, доставляет теперь, со своей стороны, новую литературу. Лоренцо Медичи, главный банкир и первый сановник в городе, является и первым из новых итальянских поэтов. Наряду с ним Пульчи, Боярдо, Берни, несколько позднее Бембо, Макиавелли, Ариосто представляют решительные образцы законченного стиля, серьезной поэзии, шаловливой фантазии, тонкого веселья, язвительной сатиры и глубокой мысли. Ниже их – множество рассказчиков, забавников и гуляк; Мольца, Биббиена, потом Аретино, Франко, Банделло стараются заслужить благоволение государей и привлечь общественное внимание своим шутовством, выдумками и остротами. Сонет – орудие похвалы или сатиры – так и переходит из рук в руки. Художники взаимно обмениваются им; Челлини говорит, что, когда появился его Персей, в тот же день вышло на него до двадцати сонетов. В то время без поэзии не обходилось ни полного праздника, ни хорошего обеда; однажды папа Лев X дал 500 червонцев поэту Тебалдео за эпиграмму, которая ему понравилась. В Риме другой поэт, Бернардо Аккольти, до того был любим всеми, что, когда у него назначалось публичное чтение, все лавки затворялись и все стекалось слушать его; он читал в большой зале, при свете факелов; тут бывали и прелаты, окруженные стражей из швейцарцев; его называли единственным. Чрезвычайно искусные стихи его блистали тонкими concetti и различными литературными прикрасами, вроде тех фиоритур, которыми итальянские певцы испещряют даже и самые трагические свои арии; все это так хорошо понималось публикой, что дружные рукоплескания раздавались со всех сторон.
Итак, вот умственная культура, утонченная и всеобщая, вновь появляющаяся в Италии одновременно с новым искусством. Я бы хотел поближе ознакомить вас с ней, но не в общих фразах, а раскрыв перед вами полную ее картину: обстоятельный пример один может дать точное понятие о вещи. Есть книга этого времени, заключающая в себе изображение примерных кавалера и дамы, т. е. двух таких лиц, которых современники могли считать для себя образцом; вокруг этих идеальных фигур, на различном расстоянии, вращаются действительные фигуры; перед вашими глазами – салон 1500 года, с его посетителями, его разговорами, убранством, танцами, музыкой, остротами, прениями, – салон, правда, более скромный, более рыцарский и более умный, чем салоны Рима и Флоренции; но, впрочем, он представлен верно и в облагороженных своих привычках показывает как нельзя лучше самую светлую и самую благородную группу образованных и высшего разбора лиц. Чтобы увидеть этот салон, достаточно пробежать II Cortegiano графа Бальдассарре Кастильоне.
Граф Кастильоне состоял на службе у Гвидо Убальдо, герцога Урбинского, потом у наследника его Франческо-Марии-делла-Ровере и написал эту книгу в воспоминание тех бесед, которые слыхал у своего первого господина. Так как герцог Гвидо был слаб и весь одержим ревматизмом, то каждый вечер небольшой двор собирался у его супруги, герцогини Елизаветы, женщины добродетельной и очень умной. Вокруг нее и ее ближайшего друга, госпожи Эмилии Пиа, стекались разного рода замечательные люди, приезжавшие со всех сторон Италии: сам Кастильоне, Бернардо Аккольти д’Ареццо, знаменитый поэт, Бембо, сделавшийся впоследствии секретарем папы и кардиналом, синьор Оттавиано Фрегозо, Джульано Медичи и многие другие; папа Юлий II останавливался там на некоторое время в одно из своих путешествий. Место и обстановка беседы были достойны таких лиц. Они собирались в великолепном дворце, построенном отцом герцога; здание это, ”по отзыву многих”, было самое прекрасное в Италии. Комнаты были роскошно убраны серебряными вазами, золотыми и шелковыми обоями, античными статуями и бюстами из мрамора и бронзы, картинами Пьеро делла Франческа и Джованни Санти, отца Рафаэля. Со всей Европы там собрано было множество латинских, греческих и еврейских книг, покрытых, из уважения к их содержанию, золотыми и серебряными окладами. Двор был один из самых блестящих в Италии. Праздники, танцы, единоборства, турниры и беседы продолжались беспрерывно. ’’Приятные разговоры и благородные развлечения этого дома, – говорит Кастильоне, – делали из него истинный приют веселья”. Обыкновенно, поужинав и натанцевавшись, гости забавлялись разного рода шарадами; удовольствия эти сменялись дружеской беседой, серьезной и вместе веселой, в которой принимала участие герцогиня. Все шло без церемонии; места занимались, где кому угодно; каждый усаживался возле дамы, и начиналась беседа, не стесненная никакими формальностями; изобретательности и оригинальности был тут полный простор. На одном вечере Бернардо Аккольти, по просьбе своей дамы, импровизирует премилый сонет в честь герцогини; потом герцогиня велит госпоже Маргарите и госпоже Констанце Фрегозе протанцевать; обе дамы берутся за руки, и, когда любимый музыкант Барлета настроил свой инструмент, они танцуют под звуки музыки сперва медленно, а потом несколько живее. К концу четвертых суток, проведя в изящных разговорах целую ночь, они заметили появление рассвета.

”Со стороны дворца, обращенной к вершине горы Катари, отворены были окна, и тогда увидели, что на востоке показывается уже прелестная Аврора цвета роз. Все звезды исчезли, кроме одной нежной вестницы Венеры, которая занимает грань между ночью и днем; от нее, казалось, исходило какое-то отрадное веяние, своей резкой свежестью наполнявшее небо и начинавшее пробуждать сладостный концерт прелестных птичек в глуби шепчущих лесов, раскинутых по соседним холмам”.
По этому отрывку вы можете уже судить, как приятен, изящен, даже цветист этот стиль; один из собеседников здесь Бембо, самый образцовый, цицероновски благозвучный из итальянских прозаиков. Общий тон бесед таков же. Там вы найдете множество выражений вежливости, комплименты дамам за их красоту, их грацию, их добродетель, комплименты кавалерам за их храбрость, ум, знания. Все оказывают уважение и стараются взаимно угождать друг другу, что составляет главный закон уменья жить в свете и самую утонченную прелесть хорошего общества. Но вежливость не исключает собой веселья. В качестве некоторого рода приправы вы встретите там подчас легкие ссоры и перестрелки, да тут же и разные остроты, шутки, анекдоты, небольшие веселые и живые рассказы. Зашел разговор о том, что такое истинная вежливость, и одна дама рассказывает, в виде образчика, про недавно бывшего у нее с визитом какого-то старосветского кавалера, человека военного и несколько огрубевшего в деревне; повествуя, сколько он убил неприятелей, он довел наглядность изложения до того, что захотел непременно показать ей, как именно колют и рубят шпагой. Улыбаясь, она прибавляет, что это ее немножко испугало и она с беспокойством поглядывала на дверь, боясь каждую минуту, чтобы он не убил ее. Подобные черты поминутно сменяют серьезность беседы. Но говорится тем не менее и много дельного. Вы видите, что мужчины хорошо знакомы с греческой и латинской литературой, знают историю, многое читали по философии, даже и по той, которая составляет принадлежность школе. Дамы иногда вмешиваются в разговоры, журят мужчин и приглашают их обратиться к более доступным предметам; они не слишком долюбливают появление в разговоре Аристотеля, Платона и их скучных комментаторов, рассуждение о теориях тепла и холода, о форме и субстанции. Собеседники тотчас же возвращаются к текущим вопросам светского разговора и приятными, изысканно-вежливыми речами заставляют извинить свои книжные и метафизические выходки. Прибавьте ко всему этому, что, как бы ни был труден предмет разговора и как бы ни был оживлен спор, они всегда говорят изящно и прекрасно. Они очень осторожны в выборе слов, рассуждают о качествах выражений; они пуристы, подобно изящным ораторам отеля Рамбулье, современникам Вожеласа и основателям французской классической литературы. Но взгляд у них поэтичнее, да и язык их более музыкален. Богатством своих ритмов и звучных окончаний итальянский язык придает красоту и гармонию самым обыкновенным вещам и обрамляет благородным и роскошным украшением предметы, сами по себе уже прекрасные. Описывает ли итальянец хоть, например, гибельные действия старости, – слог его, как небо Италии, проливает золотящий свет даже на развалины и мрачное зрелище превращает в прекрасную картину.
”В это время увядают и опадают в нашем сердце сладкие цветы радости, как осенью древесные листья. Вместо светлых и ясных мыслей, подобно мрачной туче, надвигается печаль, сопровождаемая тысячами бедствий, так что не только тело, но и ум изнывает в болезни и от всех прошлых радостей сохраняет лишь упорное воспоминание и образ той драгоценной поры, того нежного возраста, когда (если мы вернемся к нему мысленно), кажется, небо, земля и все окружавшее нас улыбалось в наших глазах по-праздничному, а в душе нашей, как в чудном, прелестном саду, распускалась и цвела упоительная весна веселья. Вот почему, когда холодной зимой солнце наших дней склоняется к своему закату и лишает нас всех радостей, было бы, пожалуй, хорошо утратить вместе с ними память о них и найти такое искусство, которое научило бы нас забвению”.
Предмет разговора никогда не в ущерб последнему. Каждый, по просьбе герцогини, принимается объяснять некоторые из качеств, необходимых кавалеру или даме для полного совершенства; доискиваются, какое именно воспитание может лучше всего образовать душу и тело не только по отношению к гражданским обязанностям, но и к приятностям светской жизни. Посмотрите-ка, что требовалось тогда от человека хорошо воспитанного, – какая утонченность, какой такт, какое разнообразие знаний! Мы считаем себя очень цивилизованными, и, однако ж, после трехсот лет воспитания и культуры многое для нас могло бы послужить здесь еще примером и наставлением.
”Я хочу, чтобы наш придворный был более чем посредственно знаком с литературой; по крайней мере с той, которая называется изящной, и чтобы он знал не только латинский язык, но еще и греческий, ради множества и разнообразия божественных творений, писанных на этом языке... чтобы он хорошо знал поэтов, а равно ораторов и историков и, что важнее всего, умел бы сам хорошо писать стихами и прозой, главным образом на нашем простонародном наречии; ибо, кроме удовольствия, какое он найдет в этом для себя лично, у него не будет никогда недостатка в приятных выражениях с дамами, которые обыкновенно любят такого рода вещи.
Я не буду доволен нашим кавалером, если он притом еще не музыкант и если, кроме уменья и привычки читать ноты, он не умеет играть на различных инструментах... Ибо, кроме развлечения после забот, какое музыка доставляет каждому, она часто служит средством потешить дам, которых нежные сердца легко воспринимают гармонию и наполняются отрадой”. Здесь не требуется быть виртуозом и щеголять каким-нибудь исключительным дарованием. Таланты созданы лишь для света; их должно приобретать не из педантства, а для любезности; обнаруживать их должно не с целью заслужить себе удивление от других, но чтобы им доставить удовольствие. Вот почему не следует чуждаться ни одного из приятных искусств.
’’Есть еще одна вещь, которой я придаю большую важность, и наш кавалер отнюдь не должен оставлять ее без внимания: это именно уменье рисовать и знание живописи”. Живопись – одно из украшений высшей, культурной жизни, и потому образованный ум должен высоко ценить ее, как ценит он все изящное. Но тут, как и во всем прочем, не должно быть крайностей. Истинный талант, искусство, которому подчиняются все другие, – это такт, известная осторожность, рассудительность, ’’верный выбор, знание излишка и недостатка в любой вещи, того, чем она преувеличится и чем умалится, уменье все сделать вовремя и кстати. Например, хотя бы наш кавалер и знал, что расточаемые ему похвалы справедливы, ему не следует открыто соглашаться с этим... а лучше скромно от них уклоняться, всегда выдавая и действительно считая за главное свое дело военное искусство, а другие таланты допуская лишь в виде прикрасы к этому. Когда он танцует в присутствии многих лиц, в месте, полном народа, мне кажется, что он должен соблюдать известного рода достоинство, умеряемое однако ж вольною приятностью и грациозностью движений. Если он садится за музыку, пусть это будет для времяпрепровождения и только как бы поневоле... и будь он даже вполне мастером своего дела, мне хотелось бы, чтоб он не обнаруживал при этом того усиленного труда, какой, разумеется, необходим для приобретения полного знания в любой вещи; пусть он показывает всегда вид, что не придает особенного значения такого рода деятельности, хотя и исполняя ее очень хорошо, так, чтобы все относились к ней с великим уважением”. Ему не след открыто гнаться за ловкостью, приличной только людям, занимающимся этим по ремеслу. Он должен внушить уважение к себе другим, сам себя уважая, и потому никогда не забываться, а, напротив, сдерживаться и владеть собой. Лицо его должно быть покойно, как у испанца. Он должен быть опрятен и тщателен в одежде;
вкус его в этом должен быть мужской, а не женский, он должен предпочитать черный цвет, как признак более серьезного и положительного характера. Равным образом не должен он допускать себя до увлечений в веселости ли или в задоре, в порыве гнева или себялюбия. Ему следует избегать грубых выходок, грязных выражений, слов, которые могут ввести в краску дам. Он должен быть учтив и преисполнен уступчивости и вежливости ко всякому. Желательно, чтобы он умел при случае и пошутить, рассказать какую-нибудь забавную историю, но не выходя из границ приличий. Лучшее правило, какое можно ему дать, состоит в том, чтобы он всегда управлял своими поступками, ’’имея в виду понравиться благовоспитанной даме”. Вследствие такого ловкого перехода портрет кавалера приближается к портрету дамы, и тонкие черты, употребленные в первой картине, становятся еще нежнее во второй.
’’Так как нет на свете двора, как бы ни был он велик, который мог бы отличаться весельем, блеском или красотой помимо женщин, и так как нет кавалера, который мог бы обладать грацией, приятностью, отвагой, совершить блестящий, кавалерский подвиг, не посещая дам и не пользуясь их любовью и благосклонностью, то наше изображение кавалера осталось бы далеко не полным без вмешательства дам, которые сообщают ему частицу той грации, которой они украшают и довершают удовольствия придворной жизни.
Я говорю, что дама, живущая при дворе, прежде всего, должна обладать известного рода приветливой любезностью, благодаря которой она умела бы грациозно беседовать с каждым в выражениях приятных, вполне приличных и соответственных времени, месту и званию лица, с кем говорит. Она должна быть спокойна и скромна в своих приемах, должна соразмерять все свои поступки с приличием; но иметь при том также известную живость ума, которая бы удаляла ее от всего тяжелого, и вместе с этим ту особенную доброту, которая заставляла бы уважать в ней женщину, столько же осторожную, стыдливую и кроткую, сколько любезную, рассудительную и тонкую. Поэтому она должна держаться очень трудной середины, составленной как бы нарочно из противоположностей, и доходить только до известных пределов, не переступая за них никогда.
Итак, для того чтоб слыть достойной и добродетельной женщиной, дама эта не должна быть чересчур недоступна и совсем уж чуждаться общества и выражений даже сколько-нибудь вольных, удаляясь от них всякий раз, как случится ей их заслышать: не то могут, пожалуй, подумать, что она только на вид так строга и хочет прикрыть этим такие вещи, которые могли сведать о ней другие; к тому же манеры застенчивой дикарки вообще противны на взгляд. Но так же точно, для того чтоб выказать себя свободной и любезной, не должна она произносить неприличных слов и вдаваться в известного рода неудержную и беспорядочную фамильярность; иначе она заставит подумать о себе то, чего на деле, пожалуй, и не бывало. Но если случится ей попасть на нескромные речи, она должна выслушивать их стыдливо и с легкой краской в лице”. Если эта женщина ловкая, она тотчас может свернуть разговор на предметы более приличные и благородные. Ведь образованием стоит она немногим ниже мужчин. Она должна знать литературу, музыку, живопись, уметь хорошо танцевать и вести беседу. Дамы, участницы общего разговора, присоединяют личный пример к излагаемому правилу; их изящный вкус и ум обнаруживаются тут всегда в меру; они в восторге от энтузиазма Бембо и его благородных платонических теорий всеобъемлющей и чистой любви. Вы встретите в ту пору в Италии женщин, у которых, как у Вигтории Колонны, Вероники Гамбары, Костанцы д’Амальфи, Туллии д’Арагоны и герцогини Феррарской, высокие таланты соединяются с высоким образованием. Если теперь вы припомните портреты того времени, находящиеся в Лувре, – бледных и задумчивых венецианцев, одетых во все черное, пламенного и, однако ж, неподвижного Молодого человека, писанного Франчией, нежную Иоанну Неаполитанскую с ее лебединой шеей, Юношу со статуэткой кисти Бронзино, все эти умные и вместе спокойные лица, все эти богатые и строгие при этом одеяния, – вы, быть может, составите себе некоторое понятие об изысканной утонченности, обильных дарованиях и превосходной культуре общества, которое, за три столетия до нас, ворочало идеями, понимало красоту и знало правила светской жизни не хуже, а, пожалуй, и лучше нашего.
IV
1. Другое условие, необходимое для появления великой живописи. – Самородные образы.
2. Сравнение Италии XV века с народами нового времени. – Германия. – Вкус к отвлеченной философии. – Влияние спекулятивных привычек на немецкую живопись. – Преобладание делового характера. – Влияние практических занятий на английскую живопись. – Франция. – Сопоставление литературной живописи с живописью настоящей. – Чем дух XIX века отличается от духа XV века. – Труд, соревнование и возбужденность в централизованных и промышленных демократиях.
3. Италия в XV веке. – Умеренное величие городов. – Умеренная потребность роскоши. – Дорога менее открыта честолюбивым стремлениям. – Равновесие образов и идей.
4. Равновесие образов и идей нарушается цивилизацией. – Современное воображение скудно или болезненно. – Воображение в Италии XV столетия отличается богатством и здоровьем.
5. Подтверждение на костюмах и нравах. – Маскарады, выходы, кавалькады и великолепие обстановки вообще. – Торжества во Флоренции.
6. Искание приятного для глаз и вообще для чувств. – Эпикуреизм и неверие. – Мнение Лютера и Савонаролы. – Домашний быт и нравы Медичей. – Язычество римского двора. – Охоты и празднества Льва X. – Среднее умственное состояние между культурой недостаточной и слишком развитой.
Это наводит нас на другую черту в итальянской цивилизации и на другое условие великой живописи вообще. В иные времена умственная культура была столько же утонченна, но живопись не отличалась таким блеском. В наше время, например, люди, имея за собой, сверх знаний XVI века, еще три столетия новой опытности и открытий, несравненно ученее и более чем когда-либо обладают обилием мысли; однако же нельзя сказать, чтобы пластические искусства современной Европы производили столь же прекрасные создания, какие мы видим в Италии в эпоху Возрождения. Следовательно, чтобы объяснить себе великие художественные произведения 1500 года, недостаточно иметь в виду живость понимания и богатство культуры современников Рафаэля, а следует определить самый род этого понимания и культуры и, сравнив Италию с остальной Европой XV века, сравнить ее затем с той Европой, в которой мы живем теперь.
Пойдем сперва в страну, конечно, ныне самую ученую в Европе – в Германию. Там, особенно в северной ее половине, все поголовно умеют читать; сверх того, молодые люди проводят по пяти или шести лет в университетах, и делают так не только богатые или с достатком, но даже почти все из среднего класса, да некоторые и из низшего, завоевывая себе это ценой долгой нищеты и страшных лишений. Наука там в такой великой чести, что доходит подчас до аффектации – и нередко до педантства. Многие молодые люди, имея очень хорошие глаза, носят очки только для того, чтобы придать себе более ученую наружность. В голове двадцатилетнего немца господствует не страстишка пофигурировать на каком-нибудь танцевальном вечере или в кофейной, как это мы видим во Франции, но стремление усвоить себе какие-нибудь обобщающие взгляды на человечество, на мир, на сверхъестественные силы, на природу и на многое другое – короче, составить себе полную философию. Нет другой страны, где вы встретили бы такую наклонность, такой обычный интерес и такую врожденную понятливость к высоким отвлеченным теориям. Это отечество метафизики и систем. Но такое преобладание высшей мыслительности вредно отразилось на пластических искусствах. Немецкие живописцы силятся передать на полотне или в своих фресках гуманитарные или религиозные идеи. Краску и форму подчиняют они мысли; произведение их какой-то символ; они рисуют на стенах курс философии и истории, и если вы отправитесь в Мюнхен, то увидите, что величайшие из них – просто философы, случайно заблудившиеся в живописи, более способные говорить уму, чем глазам, и держать в руках перо, чем кисть и палитру.
Перейдем теперь в Англию. Там человек среднего класса еще очень молодым поступает в магазин или в какую-нибудь контору; он работает по десяти часов в день, берет к себе работу еще на дом и устремляет все силы своего ума и тела на то, чтобы достаточно заработать денег. Он женится и наживает много детей; трудиться ему надо еще более: конкуренция велика, климат тяжел, а потребностей очень много. Джентльмен, богач, аристократ – пользуется также ограниченным досугом. Он занят делами и озабочен важными обязанностями. Политика поглощает всеобщее внимание. Митинги, комитеты, клубы, газеты вроде Times, доставляющие каждое утро целый том разнообразного чтения, цифры, статистические данные, тяжелую массу неудобоваримых фактов, которые приходится все проглотить и усвоить; кроме того, трудные религиозные задачи, разные учреждения, предприятия, беспрерывные заботы об улучшении хода общественных и частных дел, финансовые вопросы, борьба за преобладание, за свободу совести, утилитарные или нравственные соображения – такова пища, даваемая здесь уму. Следовательно, живопись и другие искусства, обращающиеся больше к чувству, оттесняются или сами собой становятся на задний план. Некогда заниматься ими, мысли заняты более важными и спешными делами; на искусстве останавливаются только ради моды или приличия; оно предмет простого любопытства и может возбудить интерес к изучению разве в нескольких любителях. Конечно, и тут найдутся покровители, готовые дать денег на музеи, на покупку оригинальных картин, на учреждение школ; но они пожертвовали бы точно так же и на всякое иное благотворительное дело, на распространение Евангелия, на содержание покинутых детей, на больницу для эпилептиков. К тому же эти покровители более имеют в виду общественные и специальные интересы; они полагают, что музыка смягчает нравы черни и уменьшает пьянство по праздникам, а пластические искусства подготовляют хороших работников для мануфактурных фабрик и для золотых дел мастерских. Вкуса, собственно, нет; чувство красивых форм и изящных цветов является здесь лишь плодом воспитания, каким-то тепличным апельсином, с трудом выращенным дорогой ценой в жаркой оранжерее, и чаще всего кислым или прогорклым. Современные живописцы в этой стране – работники с точным, но притом и узким талантом; они изобразят вам кучу сена, складку одежды, какой-нибудь вереск с сухостью и мелочностью истинно противными; долгое усилие и беспрерывная напряженность всего их физического и нравственного механизма нарушили у них равновесие ощущений и образов; они стали нечувствительны к гармонии красок; они выливают горшками на полотно яркую, попугайную зелень, деревья делают из цинка или листового железа, тела пишут красными, как бычья кровь; помимо изучения физиономий и нравственных характеров живопись их вообще поражает неприятно, и их национальные выставки представляют глазам иностранцев собрание красок столь же резких и нескладных, как любой кошачий концерт.








