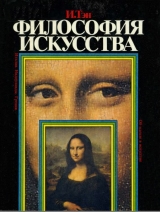
Текст книги "Философия искусства"
Автор книги: Ипполит Адольф Тэн
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
Рассмотрим это искусство повнимательней; в своих красках и формах оно проявляет все те инстинкты, какие выказались в народной деятельности и ее созданиях. До тех пор пока семь северных провинций и десять южных составляли все один народ, у них была и одна школа. Энгельбрехт, Лука Лейденский, Ян Скорел, старик Геэмскерк, Корнелий Гаарлемский, Блумарт, Гольциус пишут в том же стиле, как и современники их в Брюгге и Антверпене. Нет еще особой голландской школы, потому что нет еще особой школы бельгийской. При начале войны за независимость северные живописцы силятся стать итальянцами, точно так же, как и южные. Но начиная с 1600-х годов все изменяется как в живописи, так и в остальном. Прилив народной струи дает, очевидно, перевес народным инстинктам. Нет уже больше наготы; идеальное тело, красота животной стороны человека, взлелеянная ярким солнцем, благородная симметрия членов и поз, великая аллегорическая или мифологическая картина – все это не соответствует вкусу германского племени. К тому же господствующий у голландцев кальвинизм изгоняет все это из их храмов, у народа бережливых и современных тружеников нет пышного барского представительства, щегольства величавым эпикуреизмом, которое вызывает чувственную языческую картину в чертогах у других при многочисленном серебре, богатых ливреях и роскошной мебели. Когда Амелия де Зольм задумала соорудить памятник в подобном стиле своему мужу, статхаудеру Фридриху-Генриху, ей пришлось выписать в Орангезааль фламандских живописцев: ван Тульдена и Йорданса. Для таких реалистических воображений и среди таких республиканских нравов в стране, где какой-нибудь сапожник-судоснарядчик может вдруг очутиться вице-адмиралом, интересующая всех личность – это гражданин, человек с костями и телом, не раздетый или не полунагой, как грек, а в своем обычном наряде и в своей обычной позе, какой-нибудь хорошо управляющий сановник, какой-нибудь храбро бившийся офицер. Героический стиль употреблен в одном только случае: им пишут большие портреты, украшающие городские ратуши и другие общественные учреждения в память оказанных услуг. И действительно, тут появляется новый род живописи: обширная картина, заключающая в себе пять, десять, двадцать, даже тридцать портретов во весь рост – портретов устроителей какой-нибудь больницы, пищальников, идущих на стрельбу в цель, синдиков, заседающих вокруг присутственного стола, офицеров, предлагающих какой-нибудь тост на банкете, профессоров, что-нибудь наглядно объясняющих слушателям в амфитеатре аудитории. Все здесь сгруппированы.вокруг одной известной деятельности, сообразной их общественному положению; каждый изображен в обычной своей одежде, с оружием, значком, принадлежностями и обстановкой своей действительной жизни; это подлинно историческая картина, в высшей степени поучительная и выразительная, где Франс Халс, Рембрандт, Говаарт Флинк, Фердинанд Боль, Теодор Кейзер и Ян Равештейн изобразили героический век своего народа, где умные, энергичные, честные головы дышат благородством силы и совести, где прекрасный костюм эпохи Возрождения, эти перевязи-подлатники из буйволовой кожи, эти брыжи, отложные шитые воротники, эти черные епанчи и плащи обрамляют своей важностью и своим блеском степенную осанку бодрых тел и открытое выражение физиономий, где художник, то мужественной простотою своих средств, то искренностью и силой своего убеждения, становится в уровень своим героям.

Такова общественная живопись; остается живопись частная, украшающая дома частных лиц и, как своими размерами, так и сюжетами, приноравливающаяся к состоянию и характеру своих покупателей. "Нет такого бедняка из простых горожан, – говорит Париваль, – который не пожелал бы обзавестись подобными картинами”. Иной булочник платит шестьсот гульденов за одну какую-нибудь фигуру кисти Вермера Делфтского. Вместе с чистотой и приглядностью внутреннего убранства вообще это составляет всю роскошь у голландцев; ’’они не щадят на нее денег и скорее готовы сократить издержки на еду”. Здесь проявляется опять тот же национальный инстинкт, каким обнаруживался он в первую эпоху у Ван Эйков, Квентина Матсиса и Луки Лейденского, и это инстинкт прямо национальный; он до того заветен и живуч, что даже в Бельгии наряду с мифологической и декоративной живописью бежит он у Брейгелей и Тенирса, подобно ручейку, бок о бок с широкой рекой. Все, чего он требует и на что именно вызывает, – это изображение действительного человека и действительной жизни так, как видят их глаза: мещан, поселян, скот, мелочные лавочки, харчевни, комнаты, улицы, пейзажи. Их не нужно изменять, с тем чтобы облагородить; одним уже своим существованием они возбуждают интерес. Природа сама по себе, какова бы она ни была, человеческая, животная, растительная, неодушевленная, со всеми ее неправильностями, пошлостями, изъянами, вправе быть такою, какова есть; коль скоро поймешь ее, непременно полюбишь и станешь находить приятным ее вид. Цель искусства не изменять ее, а лишь истолковать ее в передаче; силою симпатии оно сообщает ей красоту. Понимаемая так живопись вольна изображать хозяйку, сидящую в избе за пряжей, столяра, стругающего рубанком на верстаке, хирурга, перевязывающего руку какому-нибудь мужику, кухарку, вздевающую на вертел живность или дичь, богатую барыню, которой подают умываться, все домашнее житье-бытье, от каморки и до гостиной, все типы от побагровевшей хари какого-нибудь пьяницы до спокойной улыбки благовоспитанной барышни, все сцены щегольской или простонародной жизни, карточную игру в зале с золотыми узорчатыми обоями, мужицкую гульбу в какой-нибудь совсем голой харчевне, катанье по замерзшему каналу на коньках, коров на водопое, барки на море и все бесконечное разнообразие неба, земли, воды, дня и ночи. Терборх, Метсю, Герард Дау, Вермер Делфтский, Адриан Броувер, Схалькен, Франс ван Миерис, Ян Стен, Вуверманс, оба ван Остаде, Вей-нантс, Кейп, Аарт ван дер Неер, Рейсдал, Гоббема, Паулюс Поттер, Ба-кгейзены, оба ван де Вельде, Филипп де Кениг, ван дер Гейден, да и сколько еще других! Нет школы, в которой было бы такое множество самобытных талантов; когда искусство берет не одну только ограниченную высь, а захватывает все широкое поле жизни, тогда готов в нем особый участок любимому дарованию; идеальное ведь тесно и потому дает простор всего каким-нибудь двум-трем гениям; мир действительности необъятен, и таланты найдут в нем себе место многими десятками. От всех этих созданий веет какой-то мирной и счастливой гармонией; право, отдыхаешь, на них глядя; душа художника точно так же, как и душа его лиц, здесь в полном равновесии; чувствуешь, что тебе было бы привольно и хорошо на полотне его картины. Очевидно, что его воображение дальше этого и не идет; кажется, сам он, подобно своим фигурам, совершенно доволен этой жизнью; вся природа представляется ему такою, как ей должно быть; если он что и добавляет к ней, то разве лишь известный распорядок, накладку одного тона вслед за другим, какой-нибудь особенный эффект света, подбор известных положений или поз; художник перед природой – что счастливо женившийся голландец перед милой ему женой; он и не желает в ней ничего другого, любит ее по привычке сердца и по задушевному соответствию; много-много, что в какой-нибудь день праздничный он попросит ее надеть красное платье вместо голубого. Он не похож на наших живописцев, утонченных наблюдателей, набравшихся из книг и журналов философией и эстетикой по горло и пишущих крестьянина и работника ни дать ни взять, как турка и арапа, т. е. будто интересное какое-нибудь животное или редкостный в своем роде экземпляр; в пейзажи свои вносят они разные тонкости и нежности, изысканную чувствительность поэтов и завзятых горожан – вносят, с тем чтобы пахнуть на вас жизнью затишья и молчаливою, безмолвною мечтой. Он, напротив, гораздо простодушнее; избыток мозговой деятельности не сбил его с пути и не раздражил чрезмерно; в сравнении с нами он – ремесленник; в сфере живописцев только и гонится за живописным; его менее затрагивает какая-нибудь неожиданная и поразительная подробность, чем крупная, простые и общие черты. Оттого его более здоровое и не так едкое произведение обращается к душам, менее охваченным культурой, и доставляет удовольствие гораздо большему числу людей. Между всеми этими живописцами только двое – Рейсдал, благодаря утонченной душе своей и превосходству своего воспитания, а в особенности Рембрандт, благодаря необыкновенному строению глаза и крайней нелюдимости его гения, – выдвинулись из своего народа и из своего времени и достигли тех общих родовых инстинктов, которые связывают одно с другим различные германские племена и служат переходом к чувству новейшей уже эпохи. Рембрандт, отшельник, собиратель, увлекаемый развитием чудовищной способности, жил, подобно нашему Бальзаку, каким-то магом и грезовидцем в мире, созданном им самим, и в мире, к которому ключ был только у него. Превосходя всех живописцев прирожденной тонкостью и остротой своих оптических ощущений, он постиг и выдержал во всех ее последствиях ту истину, что для глаза вся сущность любой видимой вещи заключается в представляемом ею пятне, что самый простой цвет бесконечно многосложен, что всякое зрительное ощущение есть продукт не только естественных элементов этого цвета, но и всего окружающего, что всякий предмет в поле зрения является только пятном, видоизменяемым (в своем цвете) другими пятнами, и что поэтому главным лицом в картине выходит колоритный, трепетный и все перемежающий собою воздух, в который живописные фигуры все погружены, как рыбы в пучину моря. Он сумел передать этот живой воздух осязательно и показал всю кишащую, затаенную в нем жизнь; он ввел в него освещение своего родного края, этот немощный, желтоватый свет, подобный свету лампады в погребе; он прочувствовал всю мучительную борьбу его с тенью, постепенное угасание редеющих лучей, которые наконец замирают во тьме углублений, дрожания слабых отблесков, напрасно пристающих к лоснящимся стенам, и всю эту смутную ватагу полумраков, которая, будучи невидимой для простого глаза, на его картинах и эстампах предстает каким-то подводным миром, чуть мерцающим сквозь бездну вод. По выходе из такого мрака полный свет явился глазам его ослепительным уже потоком; он произвел на него впечатление сверкающей молнии, какого-то волшебного озарения или целого снопа огневых стрел. Таким образом, в неодушевленном мире открыл он самую полную, самую выразительную драму, все контрасты и все столкновения, все, что есть подавляющего и смертельно мрачного в ночной тьме, все, что есть самого неуловимого и самого меланхолического в полутени, все, что есть самого рьяного и неудержного во вторжении внезапно врывающегося дня. Затем ему оставалось одно – на эту естественную драму нанести драму человеческую; построенный таким образом театр сам определяет для себя актеров. Греки и итальянцы знали в человеке и в жизни только одни самые прямые и самые высокие поросли, здоровый только цвет, какой может развернуться при сильном солнечном свете; он же видит, напротив, корневой комель всей этой растительности, все, что пресмыкается и плесневеет в тени, видит безобразные и чахлые недоростки, темный бедствующий люд, какое-нибудь амстердамское жидовство, грязное и страждущее население большого города и в дурном еще климате, кривоножку нищего, старую раздувшуюся идиотку, лысую голову истертого ремесленника, бледное лицо больного, весь гомозящийся рой тех дурных страстишек и гадостей, которые, как черви в гнилом дереве, кишат внутри наших цивилизаций. Ступив раз на этот путь, он мог постичь религию страдания, истинное христианство, мог наглядно истолковывать Библию, как любой лоллард, мог обрести вечного Христа, присущего вам и теперь, как прежде живущего в каком-нибудь подвале или в какой-нибудь харчевне Голландии, точно так же, как и под лучами иерусалимского солнца, утешителя и целителя скорбных и бедствующих, единственного им Спасителя, ибо Он был так же, как они, беден, а скорбен, конечно, еще больше их. Сам Рембрандт проникся оттого состраданием; стоя вместе с другими мастерами, которые кажутся живописцами аристократии, он перед ними истый народ; по крайней мере, он гораздо человечнее всех прочих; его широкие сочувствия обнимают природу до последней глубины, до дна; ему не противно никакое безобразие, никакая потребность благородства или веселости не скроют от него тайных отмелей сущей правды. Вот почему свободный от всяких пут и руководимый необыкновенной чувствительностью своих органов, он смог изобразить в человеке не только один общий строй и отвлеченный тип, которыми удовлетворяется классическое искусство, но вместе и все частности, все глубины особи, бесконечную и неуловимую многосложность нравственной личности, весь тот подвижной отпечаток, который на одном лице сосредоточивает вдруг целую историю души и сердца и который с такой изумительной ясностью умел прозревать один только Шекспир. В этом отношении Рембрандт самый своеобразный из художников нового времени; он выковывает конец той цепи, которой греки отлили начальное звено; все прочие художники – флорентинцы, венецианцы, фламандцы – стоят на перепутье, и если бы теперь наша болезненно-возбужденная чувствительность, наша гоняющаяся за оттенками пытливость, наше неотступное искание истины, наши гадания насчет сокрытых от нас далей и прошлого человеческой природы стали доискиваться своих предшественников и учителей, то какой-нибудь Бальзак и Делакруа могли бы найти их в Рембрандте и Шекспире.
Подобный расцвет искусства обыкновенно мимолетен, ибо создавшие его соки изводятся на него вполне. Около 1667 года после морских поражений Англии есть уже легкие признаки, свидетельствующие о начавшейся порче тех нравов и тех чувств, которые породили национальное искусство. Благосостояние слишком разрослось. Еще в 1660 году Париваль, говоря о благоденствии голландцев, в каждой главе своей приходит в восторг: ост-индские и вест-индские компании дают своим акционерам по 40 и 45 процентов дивидендов. Герои становятся мещанами, истыми буржуа; Париваль отмечает у них на первом плане жажду прибыли. К тому же "они терпеть не могут дуэлей, драк и ссор, говоря обыкновенно, что богатые не дерутся”. Они хотят только жить в свое удовольствие, и дома вельмож, которые венецианские посланники, в начале этого века, находили столь незатейливыми и голыми, теперь становятся уже роскошны; у всех ’’главных горожан” есть теперь обои, дорогие картины, ’’посуда золотая и серебряная”. Внутренность богатых жилищ на картинах Терборха и Метсю открывают нам щегольство нового совсем рода, светлые шелковые платья, бархатные корсажи, драгоценности, жемчуг, обои с золотым узором, высокие камины с мраморными колоннами. Прежняя энергия ослабевает. Когда в 1672 году Людовик XIV вторгнется в пределы края, он уже не встретит никакого сопротивления. Голландцы не заботились об армии; войска их разбегаются кто куда; города сдаются с первого выстрела; четыре французских кавалериста овладевают Мюйденом, этим ключом ко всей системе шлюзов; Генеральные Штаты вымаливают мир на каких бы то ни было условиях. В то же время слабеет народное чувство и в художествах, вкус, видимо, портится; Рембрандт в 1669 году умирает в нищете, всеми почти забытый; новая роскошь берет свои образцы в чужих краях, во Франции и в Италии. Еще в лучшую пору множество живописцев отправлялись в Рим писать фигурки и пей-зажики; Ян Бот, Бергхем, Карел Дюжарден, бездна других, даже сам Вуверманс, рядом с национальною школой заводят иную, полуитальянскую. Но школа эта была все-таки еще самородна и естественна: посреди гор, развалин, фабрик и лохмотьев заальпийского края дымчатая белизна воздуха, добродушие фигур, мягкость телесного колорита, веселое и доброе расположение духа в живописце обнаруживают устойчивость и свободу голландского инстинкта еще по-прежнему. Напротив, теперь инстинкт этот изнемогает под наплывом моды. На Кайзерграхте воздвигаются чертоги в стиле Людовика XIV, и фламандский живописец, основатель академической школы Герард де Лересс расписывает их своими учеными аллегориями и мифологическими ублюдками. Правда, национальное искусство не сразу уступает власть другому; оно тянется еще целым рядом образцовых произведений вплоть до первых годов XVIII столетия; в то же время национальное чувство, пробужденное уничтожением и опасностью, вызывает народный переворот, героические жертвы, добровольное наводнение края и все последовавшие затем успехи. Но самые успехи эти довершают окончательный подрыв энергии и энтузиазма, порожденных временным возвратом к старине. В течение всей войны за испанское наследство Голландия, статхаудер которой сделался королем английским, приносится в жертву союзному с ней краю; после трактата 1714 года она теряет первенство на море, нисходит на вторую уже ступень, а затем падает и еще ниже; вскоре великий Фридрих мог сказать, что Англия тянет ее за собой на буксире, как линейный корабль какую-нибудь шлюпку. Франция опустошает ее в войне за австрийское наследство; позже Англия вынуждает уступить ей право досмотра голландских судов на море и отнимает Коромандельский берег. Наконец, Пруссия является сюда для подавления республиканской партии и учреждения (наследственного) статхаудерства. Как все слабые, она подвергается обидам со стороны сильных, а после 1789 года и неоднократному завоеванию. Хуже врего то, что она мирится со своим положением и рада просуществовать хоть в качестве хорошего коммерческого и банкирского дома. Уже в 1723 году ее историк эмигрант Иоанн Леклерк плоско подшучивал над честными моряками, которые в войну за независимость предпочитали скорее взорвать корабль, чем сдаться неприятелю[61]. В 1732 году другой историк положительно говорит, ’’что голландцы только и думают о наживе”. После 1748 года армия и флот приходят в совершенный упадок. В 1787 году герцог Брауншвейгский покоряет страну почти без боя. Какое громадное расстояние между этими чувствами и теми, какие одушевляли спутников Молчаливого, Рёйтера и Тромпа! Вот отчего в силу изумительного соответствия вместе с практической энергией умирает и живописное творчество.
В первые десять лет XVIII века не остается в живых ни одного великого художника. Уже в течение целого поколения упадок заметен и по оскудевшему стилю, и по более ограниченному воображению, и по более мелочной отделке у Франса ван Миериса, Схалькена и других. Один из последних, Адриан ван дер Верф, своей холодной и вылощенной живописью, своими мифологическими затеями и наготой, своим телесным цветом, напоминающим слоновую кость, своими немощными попытками вернуться к итальянскому стилю свидетельствует явно, что голландцы забыли свой врожденный вкус и свое собственное вдохновение. Преемники его похожи на людей, которым и хотелось бы что-нибудь сказать, да нечего; воспитанные знаменитыми учителями или отцами, Петер ван дер Верф, Генрих ван Лимборг, Филипп ван Дейк, Миерис-сын, Миерис-внук, Николай Верколье, Константин Нетчер повторяют заученную фразу совершенно автоматически. Талант держится только у живописцев аксессуара и цветов: Жака де Витта, Рахили Рейш, Ян ван Гейзума – в мелком жанре, требующем меньше вымысла, и длится еще несколько лет, подобно кустарнику, упорно растущему на высохшей земле, тогда как все большие деревья кругом пропали. Но пропадает в свой черед и он, и местность тогда совершенно пустеет. Вот последнее подтверждение зависимости, связывающей индивидуальную своеобразность с общественной жизнью и соразмеряющей творческие способности художника с деятельною энергией данного народа.
ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА В ГРЕЦИИ
(Посвящается живописцу Генриху Леману)
Скульптура в Греции. – Что нам от нее осталось. – Скудость памятников. – Необходимость изучения среды.
В течение предыдущих лет я представил вам историю двух великих самобытных школ, которые в новые уже времена посвятили себя изображению человеческого тела, – итальянской и нидерландской. Заканчивая настоящий курс моих чтений, мне остается познакомить вас с величайшею и своеобразнейшею из всех них – древней греческой школой. На этот раз я не буду говорить о живописи. За исключением расписных ваз, нескольких мозаик да небольших стенных украшений в Помпее и Геркулануме, памятники античной живописи все погибли; мы ничего не можем сказать о них в точности. К тому же для изображения человеческого тела в Греции существовало искусство более национальное, более приспособленное к правам и умственному настроению общества, вероятно, более обработанное и более совершенное, – скульптура; предметом моих чтений на этот раз именно и будет греческая скульптура.
По несчастью, и здесь, как и во всем прочем, древность оставила по себе одни развалины. То, что уцелело нам от древних изваяний, можно сказать, ничто в сравнении с погибшим. Всего по двум только головам[62] мы должны гадательно воссоздавать себе колоссальных богов, в которых выразилась мысль того подлинно дивного века и величием которых наполнялись храмы Греции; у нас нет ни одного обломка, достоверно принадлежащего Фидиеву резцу; мы знаем Мирона, Поликлета, Праксителя, Скопаса и Лисиппа только по копиям и более или менее отдаленным и сомнительным подражаниям. Прекрасные статуи наших музеев относятся обыкновенно к эпохе римского владычества или много-много ко временам преемников Александра. Да и то лучшие из них попорчены, искажены. Ваш музей алебастровых слепков[63] похож на поле битвы после сражения: только и видишь в нем торсы, головы, разбросанные части. Наконец, ко всему этому добавьте еще и то, что у нас нет и жизнеописаний художников. Понадобились все усилия самой остроумной и терпеливой учености[64] для того, чтобы в какой-нибудь полуглаве Плиния, в нескольких плохих описаниях Павсания, в нескольких отрывочных фразах Цицерона, Лукиана, Квинтилиана открыть хронологию мастеров, данные для выводов о преемственности школ, о характере талантов, о развитии и постепенной порче искусства. Восполнить пробелы в этом отношении может только одно средство: за отсутствием обстоятельной, подробной истории у нас есть история общая; в данном случае более чем когда-либо для того, чтобы понять художественные произведения, нам необходимо рассмотреть создавший их народ, нравы, их внушившие, и среду, в которой они родились.
Отдел первый. Племя
Постараемся прежде всего представить себе возможно точнее это племя и для того рассмотрим внимательно край. Народ всегда ведь принимает отпечаток обитаемой им местности, но отпечаток этот тем сильнее, чем более народ был в диком и младенческом состоянии, когда впервые там водворился. Когда французы начали колонизировать острова Бурбон или Мартинику, когда англичане пришли заселять Северную Америку и Австралию, они принесли с собой оружие, механические снаряды, искусства, ремесла, учреждения, идеи – короче, полную старую цивилизацию, благодаря которой им нетрудно было удержать за собой однажды приобретенный ими тип и противостоять влиянию новой среды, в какую они попали. Но когда дикий и безоружный человек пустится в борьбу с природой, она схватывает его со всех решительно сторон, переделывает по-своему, выливает в свою форму, и нравственная глина, совершенно еще податливая и мягкая, сжимается и мнется под физическим давлением, против которого его прошлое не дает никакой ему опоры. Языковеды указывают нам первичную эпоху, когда индийцы, персы, германцы, кельты, римляне и греки имели один и тот же язык и одну и ту же степень культуры; указывают другую не столь древнюю эпоху, когда римляне и греки, уже отделенные от прочих своих братьев, были еще неразрывно соединены между собой[65], знали добывание вина, жили скотоводством и земледелием, имели весельные суда и к своим древним ведическим божествам присовокупили новое – Гестию или Весту, огонь домашнего очага. Это – едва лишь начальные зародыши первобытной культуры: они были если и не дикари, то все же еще варвары. С той поры две ветви, вышедшие из одного ствола, начинают расходиться; когда мы встречаемся с ними позже, их строение и плоды совсем уже не одинаковы, а, напротив, различны; дело в том, что одна пошла в рост в Италии, другая в Греции, и потому мы должны рассмотреть обстановку греческого отпрыска и сообразить, не объяснят ли нам вскормившие его воздух и почва данных особенности его формы и направления его развития.

I
Влияние физической среды на развитие младенческих народов. – Родство грека с латином. – Обстоятельства, побудившие два эти характера далеко разойтись. – Климат. – Влияние его мягкости. – Гористая и скудная почва. – Умеренность обитателей в пище и питье. – Повсеместное присутствие моря. – Удобство прибрежного плавания. – Греки моряки и странствователи. – Их врожденная тонкость и раннее воспитание.
Бросим взгляд на карту. Греция – полуостров в виде треугольника: упираясь основанием в Европейскую Турцию, он отделяется от нее, удлиняется к югу, врезывается в море, утончается у Коринфского перешейка и образует за ним другой, более южный полуостров Пелопоннес, нечто вроде шелковичного листа, соединяющегося тонким стебельком с материком. Прибавьте к нему еще сотню островов и лежащий напротив азиатский берег; это целая бахрома мелких землиц, пришитая к крупным материкам варварских народов, и целая гряда островов, рассеянных по синему морю, окаймленному той бахромой, – такова страна, вскормившая и образовавшая этот народ, скороспелый и умный. Она была удивительно для того приспособлена. На севере от Эгейского моря[66] климат еще суров, вроде климата средней Германии: в Румелии неизвестны плоды юга; по берегу ее не растет мирт. Но контраст истинно разителен, когда, спускаясь к югу, вы вступите в Грецию. Под 40-м градусом в Фессалии начинаются леса вечно зеленеющих деревьев; под 39-м во Фтиотиде влияние теплого морского и берегового воздуха позволяет выращивать сарацинское пшено, хлопчатник и маслину. В Эвбее и Аттике встречаются уже пальмы, а Кикладские острова обильны ими; по восточному берегу Арголиды тянутся густые лимонные и померанцевые рощи; в уголке на острове Крит найдете даже семью африканских финиковых пальм. В Афинах, этом средоточии греческой цивилизации, благороднейшие плоды юга растут сами собой, невозделанные. Морозы там бывают разве только лет через двадцать, не чаще; сильный летний жар умеряется морской прохладой; за исключением немногих порывов ветра со стороны Фракии и сирокко с юга, температура там отличная; и теперь даже[67] ’’народ с половины мая по самый конец сентября ночует обыкновенно на улицах, женщины спят на террасах”. В таком крае все живет на открытом воздухе. Сами древние признавали свой климат за особенный дар богов. ’’Кротка и приятна, – говорит Еврипид, – наша атмосфера; зимний холод у нас не суров, а летом не разят нас стрелы Феба”. В другом месте он прибавляет: ”0 вы, потомки Эрехфея, искони счастливые, любимые дети блаженных богов! В святой и никогда не побежденной своей родине вы собираете славную мудрость, как будто бы плод своей земли, и с чувством сладкого довольства постоянно гуляете в лучезарном эфире своего неба, где девять священных пиэридских муз вскармливают златокудрую Гармонию, общее ваше чадо. Говорят также, что богиня Киприда зачерпнула из светлоструйного Илисса несколько волн и нарочно разлила их по стране в виде отрадно прохлаждающих зефиров и что прелестная, увенчанная душистыми розами богиня всегда посылает амуров сопутствовать досточтимой Мудрости и поддерживать заодно с нею все доблестные дела”[68]. Это, разумеется, красные слова поэта, но сквозь оду проглядывает здесь истина. Народ, сложившийся под таким климатом, разовьется быстрее и гармоничнее другого; человека не изнуряет и не томит чрезмерный жар; ему не приходится коченеть и мерзнуть от сильного холода. Он не обречен ни на мечтательное бездействие, ни на безустанную подвижность; он не застрянет ни в мистических созерцаниях, ни в зверском варварстве. Сравните неаполитанца или провансала с каким-нибудь бретонцем, голландцем или индусом, и вы тотчас ощутите, как кроткая и умеренная физическая природа живит и уравновешивает душу, располагая бодрый и быстрый ум к мысли и деятельности.
Два существенные качества почвы действуют здесь заодно. Во-первых, Греция – это сеть гор. Пинд, главный хребет ее, продолжаясь на юг Офрией, Этою, Парнасом, Геликоном, Кифероном с их предгорьями, образует цепь, которой многочисленные звенья, проходя за Коринфский перешеек, вздымаются, перепутываются и загромождают собой Пелопоннес; окрестные острова – те же возникшие из воды хребты или одинокие горные выси. Вся изборожденная таким образом страна крайне бедна равнинами, везде выступает наружу горный кряж, подобно тому как у нас в Провансе; три пятых всего пространства негодны для земледелия. Взгляните на виды и пейзажи Штакельберга; повсюду голый камень; маленькие речки и ручьи оставляют между своим полупересохшим руслом и обнаженною скалою узкую гряду пахоты. Уже Геродот противопоставлял Сицилию и южную Италию, этих располневших кормилиц, чахлой Греции, "которая, родившись, приобрела в молочную сестру себе скудность”. Особенно в Аттике почва тоще и легче, нежели где-нибудь в других местах; маслина, виноградная лоза, ячмень и немного пшеницы – вот все, что дает она человеку. На этих прекрасных мраморных островах, развеянных блестящими созвездиями по лазури Эгейского моря, попадались там и сям какой-нибудь священный лесок, несколько кипарисов, лавров, пальм, купы прелестной зелени, несколько виноградных лоз, торчащих по утесам; в садах превосходные плоды, местами крошечные нивы где-нибудь в ущелье или на горной покатости; но там было более пищи для глаз, нежели для желудка и для положительных телесных потребностей. Подобный край родит стройных, деятельных, умеренных в еде и питье горцев, вскормленных больше чистым воздухом. И до сих пор[69] "пищи одного английского земледельца достало бы в Греции на семью из шести человек; даже богатые довольствуются блюдом овощей за обедом, а бедные – горстью маслин или куском соленой рыбы; народ лакомится говядиной только один раз в год, в пасху”. В этом отношении любопытно взглянуть на греков в Афинах летнею порой. "Одна баранья голова в шесть су (копеек) ценою идет у лакомок на семь или восемь человек. Люди умеренные покупают себе ломоть арбуза или крупный огурец и кусают его зубами, как яблоко”. Пьяниц совсем нет: они упиваются только одной чистой водою. "Если и зайдут в трактир, то лишь для того, чтоб поболтать; в кофейне они спрашивают себе чашку кофе за один су, стакан воды, огня для папиросок, газету и домино: этого достаточно им для развлечения на целый день”. Такого рода диета не обременяет умственных способностей; уменьшая потребности желудка, она увеличивает работу мысли, головы. Еще древние замечали соответственную противоположность между Беотией и Аттикой, между беотийцем и афинянином; один, откормленный на тучных равнинах и среди густого сравнительно воздуха, привыкший к тяжелой пище и к жирным угрям Колпаисского озера, был едок, пьяница и при этом тупоумен; другой, родясь на самой жалкой почве Греции, довольствуясь какою-нибудь рыбьей головкой, луковицей да горсточкой маслин, выросши в легком, прозрачном и ясном воздухе, обнаруживал с самого начала необыкновенную тонкость и живость ума, изобретал, наслаждался, чувствовал, без устали предпринимал то или иное, ни о чем другом не заботясь "и как бы не имея иной собственности, кроме своей мысли”[70].








