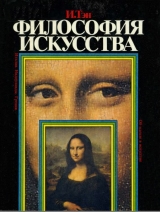
Текст книги "Философия искусства"
Автор книги: Ипполит Адольф Тэн
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
IV
Красота земли и неба. – Природная веселость племени. – Потребность живого и осязательного счастья. – Следы этого характера в истории греков. – Аристофан. – Идея о блаженстве богов. – Религия – чисто празднество. – Противоположные цели государств греческого и римского. – Походы, демократия и общественные удовольствия в Афинах. – Государство делается поставщиком театральных зрелищ. – Нет полной серьезности в науке и философии. – Гонка напропалую за общими взглядами. – Диалектические тонкости.
Для этого нам придется в последний раз еще взглянуть на страну и собрать общее от нее впечатление. Это чудная страна, как-то радостно настраивающая душу и склоняющая человека смотреть на жизнь как на чистое празднество. От прежнего остался теперь здесь только скелет; подобно нашему Провансу, и, пожалуй, еще больше Греция была обобрана, ободрана, чуть ли не выскоблена дочиста; плодоносная земля осыпалась, растительность сильно поредела; терпкий, голый камень, на котором там и сям скудно пестреют жиденькие кусты, захватывает все пространство и обнимает горизонт на три четверти. Можно, однако, представить себе, чем некогда был край, следуя по нетронутым еще берегам Средиземного моря, от Тулона до Иерских островов, от Неаполя до Сорренто и Амальфи; только необходимо вообразить небо еще синее, еще более прозрачный воздух, еще более отчетливые и гармонические формы гор. Кажется, зимы здесь никогда нет. Пробковый дуб, масличные, померанцевые, лимонные деревья и кипарисы представляют по дебрям и скатам горных теснин вечную картину лета; они спускаются вплоть до морских берегов; местами в феврале апельсины, срываясь с ветвей, падают прямо в волны. Туманов никогда нет, да почти никогда не бывает и дождя; воздух приятно тепловат, солнце вполне ясно и отрадно. Человек не вынужден здесь, как в наших северных климатах, обороняться от всяких непогод с помощью бездны сложных изобретений, употреблять газ, печи, одежду в двойном, тройном и четверном даже числе, содержать тротуары, метельщиков и проч., чтобы только сделать обитаемым тот омут холодной грязи, в каком без полиции и разного рода сноровок ему пришлось бы зачастую барахтаться и тонуть. Греку нет надобности выдумывать зал для спектакля или оперные декорации; ему стоит лишь взглянуть вокруг себя: природа доставляет ему все это в более прекрасном виде, нежели он мог бы это устроить искусственно. На Мерах я видел раз в январе, как восходило солнце из-за одного острова: свет постепенно рос, наполняя собою воздух; вдруг на вершине одной скалы вспыхнул огонь, необъятное хрустальное небо простиралось сводом над неизмеримой морской равниной, над бесчисленным множеством мелких струй, над могучей синевой однообразной воды, в которой ручей золота выделялся длинным потоком; ввечеру отдаленные горы принимали оттенки мальвы, сирени, чайной розы. Летом солнечное освещение разливает в воздухе и по морю такой лучезарный блеск, что переполненные чувства и воображение как будто оказываются занесены куда-то в самое торжество славы; каждая волна горит как жар; воды отливают тонами драгоценных камней: бирюзы, аметиста, сапфира, ляпис-лазури, которые строятся и движутся под всеобъемлющей чистотой и белизной неба. Вот при таком-то разливе света надобно вообразить себе берега Греции, разбросанные там и сям, как большие мраморные кувшины или чаши.
Что же мудреного, если на дне греческого характера мы найдем ту веселость и восторженную бойкость, ту потребность живого и осязательного счастья, какие встречаем еще и теперь у жителей Прованса, у неаполитанцев, у обитателей юга вообще[85]. Человек всегда продолжает движение, данное ему природой сначала, потому что способности и стремления, какие она в нем упрочила, те ведь именно и есть, которым она ежедневно удовлетворяет. Несколько аристофановых стихов лучше обрисуют вам эту чувственность, столь откровенную, легкую и притом блестящую. Речь идет об афинских поселянах, празднующих возврат мира после войны. ’’Какая радость, ах какая радость, снять шлем и позабыть наконец эти сыры и луковицы (которыми только и питался в походе). Если мне что по душе, так уж конечно не сражения; мне любо выпить с другом и товарищем, глядеть, как трещит на очаге припасенный с лета сухой хворост, поджаривать на угольях овечий горох, печь желуди да приголубить молоденькую Фратту, пока не вернулась из купальни жена. Когда посев окончен и Бог орошает его как следует, всего приятнее перемолвить с соседом, хотя бы, например, так: скажи-ка ты мне, Комархид, за что нам теперь приниматься? Да не прочь и я кутнуть, пока Зевс поливает нивы. Ну-ка, жена, дай высушить три мерки бобов, подмешай к ним пшенички да отбери получше смокв; нынче неспособно ведь ни подрезывать виноградные лозы, ни разбивать глыбы на поле: больно уж влажна земля. Принеси-ка от меня дрозда да пару зябликов. Помнится, оставалось там еще немного молозива да четыре куска зайчатины. Мальчик, принеси нам из них три, а четвертый подай отцу-батюшке, спроси у Эсхинада мирты с ягодой, да пусть кто-нибудь крикнет с дороги Харимеда, чтобы и он пришел с нами выпить, пока Бог помогает нам и растит нашу жатву. О досточтимая, царственная богиня мира, владычица сердец и браковладычица, прими ты нашу жертву... Пошли на наш рынок изобилие всякого добра, сочных головок чеснока, ранних огурчиков, гранат и яблок; пусть валом валят туда виотийцы, нагруженные гусями, утками, голубями, полевыми жаворонками; пусть корзинами свозятся угри из Копаидского озера и пусть, обступив их тесной толпой для покупок, схватимся мы тут наперебой с Морихом, Телеем и другими лакомками... Беги скорее на пир, Дикеополь... жрец Диониса зовет тебя; торопись, тебя поджидают; все готово – столы, ложа, подушки, венки, курения и всякие лакомства. Пришли уже гетеры, а с ними явились печения, пирожки, пригожие плясуньи, всевозможные наслаждения”. Я прерву на этом выписку; далее изложение становится чересчур уж живо; древняя чувственность и чувственность южная отличаются очень смелыми телодвижениями и меткими до крайности словами.
Такое умнонастроение побуждает человека смотреть на жизнь как на раздолье, на гульбу. У грека самые серьезные идеи и учреждения принимают смеющийся оттенок; его боги – ’’блаженные, никогда не умирающие боги”. Живут они на верхах Олимпа, ’’которых не покачнет никакой ветер, которых никогда не замочит дождь, куда и не подходит снег, где открывается безоблачный эфир, куда белый свет льется быстрым потоком”. Там, в чертоге ослепительной красы, сидя на золотых престолах, пьют они нектар и вкушают амброзию, а ’’Музы распевают между тем прекрасными голосами”. Вечный пир при полном освещении – вот небо грека; поэтому самая прекрасная жизнь та, которая всего ближе подходит к такой жизни богов. По Гомеру, тот и счастлив, кто сможет воспользоваться цветущей юностью и достигнуть порога старости. Религиозные обряды не что иное, как веселый пир, которым остаются довольны сами боги, потому что ведь на их долю приходится тут мясо и вино. Величайшие праздники – чисто оперные представления. Трагедия, комедия, плясовые хоры, гимнастические игры составляют часть богослужения. Грекам не придет в голову, что для чествования богов надо умерщвлять собственную плоть свою, поститься, обращать к ним трепетную молитву, класть земные поклоны с покаянием в своих грехах; им кажется, напротив, что должно приобщиться их радости, доставить им зрелище самых прекрасных нагих тел, разубрать в честь их целый город, возвысить до них человека, освободив его хоть на один миг от доли смертного, при помощи всех великолепий, какие только могут соединить искусство и поэзия. Для них этот-то ’’энтузиазм” и есть набожность; выказавшись сперва в трагедии, в величавых и торжественных волнениях души, он изливается потом в комедии сумасбродным шутовством и сладострастным разгулом без удержу. Надо прочитать Лисистрату, Праздник Фесмофорийу Аристофана, чтобы представить себе это увлечение животной жизнью, чтобы постичь, как можно было всенародно справлять праздники Дионисия или плясать в театре (в высшей степени неприличный) кордакс, как можно было, чтобы в Коринфе какая-нибудь тысяча куртизанок совершала служения в храме Афродиты и чтобы религия освящала всякий ярмарочный и масляничный соблазн или разгул.
К социальной жизни греки относились так же легко, как и к жизни религиозной. Римлянин завоевывает для стяжаний, для приобретений; истым администратором и дельцом эксплуатирует он побежденных, как доходную мызу, упорно и методически; афинянин, напротив, пускается в море, выходит на берег сражаться, ничего не основывая, без толку и беспорядочно, под мгновенным впечатлением, из потребности в действии, следуя полету своего воображения, из одной лишь предприимчивости, из славолюбия, из-за удовольствия быть первым между греками. На деньги своих союзников афинский народ украшает свой город, заказывает своим художникам храмы, театры, статуи, декорации, торжественные шествия, услаждается ежедневно и всеми чувствами на счет общественной казны. Аристофан забавляет его политическими карикатурами на демос и его правителей. Ему открыт бесплатный вход в театр; к концу праздника ему раздают деньги, оставшиеся за расходами в казне от союзнических контрибуций. Скоро он требует себе плату за судоговорение в дикастериях, за присутствие на народных сходках. Все должно быть для него; он принуждает богатых доставлять ему на свой счет хоры, актеров, представления, все прекраснейшие зрелища. Как он ни беден, у него свои купальни, свои гимназии, содержимые на казенный счет, и притом отнюдь не хуже всаднических[86]. Наконец, он совсем уже не хочет трудиться и для войны ставит за себя наемников; если он и занимается еще политикой, то лишь для того, чтобы о ней потолковать; он слушает ораторов как любитель и присутствует при их прениях, перебранках и красноречивых состязаниях, как на петушиных боях. Он судит и рядит о талантах и рукоплещет ловким выходкам. Главная его забота – иметь отличные празднества; он постановил смертную казнь тому, кто предложит обратить на военные издержки хоть частицу денег, определенных на зрелища. Полководцы у него также напоказ. ’’Кроме одного, посылаемого вами на войну, – говорит Демосфен, – все остальные служат украшением ваших праздников, следуя в них за жрицами”. Когда нужно снарядить и отправить флот, афиняне бездействуют или берутся за дело слишком поздно; напротив, для торжественных ходов и народных зрелищ все заранее предусмотрено, сделаны и точно выполнены все распоряжения как следует, в назначенный час. Мало-помалу под влиянием врожденной чувственности вся задача государства сводится к заботе о зрелищах, к обязанности доставлять поэтические наслаждения людям с изящным вкусом.
Так же, наконец, в науке и философии грекам хотелось только срывать со всего одни цветы. У них не было самоотвержения новейших ученых, которые напрягают весь свой ум для разъяснения какого-нибудь темного вопроса, которые готовы десять лет кряду наблюдать тот или другой вид животных, которые расширяют и беспрестанно проверяют свои опыты, которые, добровольно отдавшись какому-нибудь неблагодарному труду, проводят всю свою жизнь в терпеливой обтеске двух или трех камней для громадного здания, которому не видать конца, но которое пригодится будущим поколениям. В Греции философия – беседа, разговор; она рождается в гимназиях, под портиками, в тени яворовых аллей; учитель говорит, прогуливаясь, а за ним идут и внимательно слушают. С первого же шага все стремятся к высшим заключениям; приятно ведь дойти до общих взглядов на весь мир; они этим и наслаждаются, мало заботясь о построении хорошей и прочной дороги для исследований; доказательства их сводятся обыкновенно к одним вероятностям, не больше. Короче, это – умозрители, охотники странствовать по верхам, пробегать, как боги Гомера, гигантскими шагами какую-нибудь новую, обширную область, одним взором охватывать вдруг целый мир. Система – это у них своего рода возвышенная опера, опера умов, сообразительных и крайне пытливых. От Фалеса до Прокла философия их, подобно трагедии, все вращалась около тридцати или сорока главнейших тем, проходя сквозь бесконечное множество вариаций, распространений и помесей. Философское воображение орудовало у них идеями и гипотезами точно так же, как мифологическое воображение орудовало легендами и богами.
Если от созданий греков мы перейдем к их зиждительным приемам, то и тут увидим опять тот же самый умственный тип. Они столько же софисты, как и философы; они упражняют свою мысль ради одного ее упражнения. Их привлекает и останавливает на себе какое-нибудь тонкое различение, длинный и утонченный анализ, какой-нибудь заманчивый и трудноразрешимый аргумент. Они охотно участвуют в диалектических тонкостях, хитросплетениях и парадоксах[87]. Они не настолько серьезны, как бы следовало; если они предпринимают какое-либо разыскание, то не в видах лишь определенного и прочного приобретения; они не дорожат безусловно и исключительно самой истиной, забывая и пренебрегая для нее всем остальным. Это, можно сказать, дичь, которая часто дается им на охоте; но, глядя на их рассуждения, живо чувствуешь, что, сами того не сознавая, они предпочитают охоту дичи, – охоту, с ее уловками, хитростями, обходами, с ее неудержимым порывом и с тем чувством свободной, блуждающей и торжествующей деятельности, какое сообщается ею нервам и воображению охотника. ’’О греки, греки, – говорил Солону один египетский жрец, – вы – настоящие дети!” В самом деле, они ведь постоянно играли жизнью и всеми важнейшими в ней вещами: религией и богами, политикой и государством, философией и истиной.
V
Последствия этих недостатков и достоинств. – Греки – совершенные художники. – Чутье самых неуловимых соотношений, мерность и отчетливость замыслов, любовь к красоте. – Следы этих способностей и вкусов в их художествах. – Храм. – Его место. – Размеры. – Строй. – Тонкость отделки. – Украшения. – Его живопись. – Его изваяния. – Производимое им на ум общее и окончательное впечатление.
Вот отчего они были величайшие в мире художники. Они обладали той очаровательной развязностью ума, тем преизбытком творческого веселья, тем грациозно-обаятельным воображением, которые побуждают ребенка беспрестанно слагать и приводить в действие маленькие поэмы с единственной целью – дать исход мгновенно просыпающимся в нем новым, и притом чрезвычайно живым, способностям. Три главные черты, подмеченные нами в характере греков, именно и есть существо души и мысли художника. Необыкновенная впечатлительность, способность схватывать самые тонкие соотношения, чутье мельчайших оттенков – вот что позволяет ему воздвигать стройные целые из форм, звуков, красок, событий – короче из элементов и потребностей, так хорошо сопрягаемых между собой внутренними связями, что организация их составляет нечто живое и в мире воображения превосходит глубокую гармонию действительного мира. Потребность ясности, чувство меры, ненависть ко всему смутному, туманному, отвлеченному, презрение ко всему чудовищному и слишком громадному, вкус к определенным и точным очертаниям – вот что побуждает художника облекать свои замыслы в форму, легко доступную воображению и чувствам, и потому создавать произведения, которые могут быть понятны каждому племени и каждому веку и которые, будучи общечеловеческими, остаются навсегда. Любовь и культ настоящей жизни, чувство силы человеческой, потребность светлой и ясной радости – вот что побуждает его избегать картин физической немощи и нравственной болезни, изображать здоровье души и совершенство тела, пополнять приобретенную, нажитую сюжетом красоту экспрессии существенно родною ему красою. Это все и есть отличительные черты искусства греков. Беглый взгляд на их литературу сравнительно с литературой Востока, средневековья и новою, чтение Гомера сравнительно с Божественной комедией, с Фаустом или индийскими эпопеями, изучение их прозы сравнительно со всякой другой прозой любого времени и любой страны убедили бы вас в этом тотчас. Перед их литературным стилем всякий другой стиль покажется надут, тяжел, неточен и натянут; перед их нравственными типами всякий другой тип чрезмерен, скучен и нездоров, перед их поэтическими и ораторскими рамками всякая не у них же заимствованная рамка выходит несоразмерной, неприлаженной, неподходящей к содержащемуся в ней произведению.
За недостатком места мы из ста примеров можем привести только один какой-нибудь. Рассмотрим именно то, что как нельзя более доступно зрению и что прежде всего бросается в глаза при въезде в любой город, – я хочу сказать: храм. Он обыкновенно стоит на высоте, слывущей Акрополем (вышгородом), на подножии скал, как в Сиракузах, или на пригорке, служившем, как в Афинах, главным оплотом населению и начальным местом будущего города. Он виден отовсюду из равнины и со всех решительно окрестных холмов; корабли приветствуют его еще издали, подходя к порту. Весь он отчетливо обозначается в чистом воздухе. Он не сжат, не подавлен цепью домов, как средневековые соборы, не скраден, не полузакрыт для глаза, кроме одних разве деталей и верхних частей здания. Его основание, его стороны, вся его масса и все размеры предстают вдруг, за один раз. Нет необходимости угадывать целое по одной какой-нибудь его части; самым своим местом он приходится уже в меру человеческим нашим чувствам. Чтобы впечатление было вполне ясно, постройке дают средние или даже малые размеры. Между греческими храмами найдется не более двух, подходящих величиной к церкви Св. Магдалины в Париже. Там нет ничего подобного громадным памятникам Индии, Вавилона и Египта, нагроможденным и скученным дворцам, лабиринтам переходов, внутренних дворов и храмин, колоссам, которые уже одним своим множеством под конец ослепляют и озадачивают смятенный ум. Нет ничего подобного гигантским соборам, которые помещали под своими сводами население целых городов, которых глаз, стой они даже на высоте, не мог бы обнять в целости, которых профили ускользают от зрения и которых общую гармонию можно ощутить разве только по плану. Греческий храм не сборное какое-нибудь место, а особое жилище бога, рака, где хранится его изваяние, мраморный ковчег, заключающий в себе одну только статую. В ста шагах от окружающей его священной ограды можно уловить направление и весь строй главных его линий. Да они же притом так просты, что довольно одного взгляда, чтобы понять их совокупность. В здании нет ничего многосложного, причудливого, изломанного; это – прямоугольник, обрамленный перистилем колонн, всю сущность его составляют три или четыре элементарные геометрические формы, и симметричное расположение, как нарочно, выдвигает их вперед, неоднократно повторяя и противополагая друг другу. Венец фронтона, желобки стержня колонн, плита капители, все аксессуары и подробности еще рельефнее обнаруживают характер каждой отдельной части, а разнообразие полихромической росписи довершает точное обозначение относительной ценности любой из этих частей.
В различных чертах, мной указанных, вы, конечно, распознали одну и ту же основную потребность определенных и ясных вместе форм. Ряд других еще признаков покажет нам всю тонкость художественного такта греков и необыкновенно чуткую их восприимчивость. Между всеми формами и размерами храма существует такая же связь, как между всеми органами живого тела, и они отыскали эту связь; они установили архитектурный модуль (или канон), который по диаметру колонны определяет ее высоту, затем ее орден, далее ее базис, капитель, потом – междустолпия и общую экономию постройки. Они нарочно видоизменили грубую правильность математических форм, они приспособили их к сокровенным требованиям глаза, немного утолстили колонну мастерскою кривизной отвеса на двух третях ее вышины[88], они слегка выгнули все горизонтальные линии и наклонили к центру все вертикальные в Парфеноне; они освободились ото всех пут механической симметрии, дали неравные крылья своим Пропилеям, неодинаковые уровни двум святилищам своего Эрехтейона; они скрещивали, разнообразили, сгибали плоскости и углы единственно с тем, чтобы сообщить архитектурной геометрии всю грацию, все многоразличие, всю неожиданность, всю неуловимую гибкость жизни, и, не умаляя эффекта масс, изукрасили поверхность зданий самым изящным узором орнаментов, живописных и лепных. Во всем этом своеобразность их вкуса равняется разве только его верности; они умели соединить два качества, по-видимому, взаимно исключающие друг друга: чрезвычайное богатство с чрезвычайной умеренностью. Наши нынешние чувства не доходят до подобной высоты; мы лишь в половину, да и то шаг за шагом, только исподволь, разгадываем, до какой степени творчество их было совершенно. Понадобилось открытие Помпеи, чтобы дать нам впервые почувствовать очаровательную гармонию и живость декорации, какой они одевали свои стены, и только в наши уже дни один английский архитектор измерил неуловимый изгиб выпуклости горизонтальных линий и сходящихся в одну точку перпендикуляров, который придает изящнейшему храму их всю его возвышенную красоту. Перед ними мы – как простой заурядный слушатель перед музыкантом, рожденным и воспитанным для музыки; его игра отличается такими тонкостями исполнения, такой чистотою звуков, такою полнотой аккордов, такими нежными оттенками мысли, такою удачной и меткой экспрессией, что слушатель с посредственным умом и плохой подготовкой постигает все это разве лишь как-то смутно и урывками. В нас остается только одно общее впечатление, и это впечатление, соответствующее, впрочем, духу греческого народа, именно такое и есть, какое производит веселый и бодрящий силы праздник. Архитектурное создание греков, очевидно, здорово и живуче само собой; оно не нуждается, как готический собор, в том, чтобы у подножия его жила целая колония каменщиков, готовых беспрестанно исправлять его беспрестанное разрушение; оно не заимствует опоры для себя ни у каких наружных устоев; ему не нужно железной арматуры для скрепы громадного сооружения его узорчатых и зубчатых башен, для прицепки к стенам его чудного и многосложного кружева, хрупкого каменного филиграна. Оно не плод распаленного воображения, а произведение светлого отчетливого ума. Оно именно с тем создано, чтобы самостоятельно существовать, без всякой посторонней помощи. Почти все греческие храмы уцелели бы до сих пор, не истреби их грубая сила или изуверство людского племени. Храмы Пестума стоят двадцать три века; Парфенон разорван надвое только взрывом порохового склада. Сам по себе греческий храм непоколебим: это видно по крепкой, надежной его осадке; масса не бременит его, а только упрочивает. Мы чувствуем устойчивое равновесие всех его частей, потому что зодчий выявил внутренний строй здания в видимых внешностях и линии, ласкающие взор своей гармонической соразмерностью, именно те и есть, которые удовлетворяют ум обещаниями вечности[89]. Присоедините к этому виду крепости и силы вид развязности и изящества; греческое здание думает не об одной лишь долговечности, как египетское. Оно вовсе не подавлено тяжестью своего материала, как упорный, конечно, но зато и слишком приземистый Атлант; оно развивается, развертывается и встает перед вами, как прекрасное тело атлета, в котором сила соглашена с тонкостью и бодрой ясностью. Рассмотрите затем его убранство, золотые щиты, усеявшие его архитрав, золотые же акротеры и львиные головы, так и горящие на солнце, золотые и подчас эмалевые нити, вьющиеся по его капителям, раскраску червленцом, суриком, синью, бледной охрой, зеленью, всеми яркими и скромными также тонами, которые, сливаясь и противополагаясь один другому, как в Помпее, доставляют глазу ощущение чистосердечного и здорового южного веселья. Пересмотрите, наконец, еще раз все барельефы, все статуи по фронтонам, метопам и по фризу, особенно колоссальный лик в самой ”целле” храма, все мраморные, костяные и золотые изваяния, все эти богатырские или божеские тела, которые ставят перед глазами человека полнейшие образы мужественной силы, атлетического совершенства, военной доблести, благородной простоты, вечно неизменной, бодрой ясности, – пересмотрите все это, и вы составите себе первое понятие о гении и искусстве древних греков.
Отдел второй. Историческая пора
Отличие древнего человека от нового. – Жизнь и ум у древних проще, нежели у нас.
Теперь нам необходимо ступить еще один шаг и рассмотреть еще одну новую характерную черту греческой цивилизации. Грек древней Греции не только грек, но и еще притом древний; от англичанина или испанца он различается не тем одним, что, будучи иного племени, обладает другими способностями и наклонностями; он различается от англичанина, испанца и нового грека еще и тем, что, принадлежа предшествующей эпохе в истории, он носит в себе другие идеи и другие чувства. Он шел впереди нас, а мы за ним. Он не строил своей цивилизации на нашей, а мы выстроили свою на его и на многих других. Он живет в нижнем этаже, а мы во втором или даже в третьем. Отсюда неисчислимое множество бесконечно важных последствий. Что может быть различнее двух жизней, из которых одна велась в самый уровень с землей, при дверях, везде настежь открытых в поле, а другая взобралась и замкнулась в тесные комнаты высокого дома на наш новый уже лад? Противоположность между той и другой можно выразить двумя словами: жизнь и ум древних – просты, а наши – многосложны до крайности. Поэтому их искусство проще нашего, и понятия их о душе и теле человека доставляют их произведениям такого рода материал, какого уже не допускает наша цивилизация.
I
Влияние климата на новейшие цивилизации. – У человека теперь больше потребностей. – Одежда, дом частного лица, общественное здание в Греции и в наше время. – Общественная организация и должностная деятельность, военное искусство и мореплавание в прежние времена и ныне.
Достаточно одного взгляда на внешнюю обстановку жизни древних, чтобы заметить, до какой степени она проста. Цивилизация, перемещаясь к северу, должна была приноровиться к разного рода потребностям, которым ей не приходилось удовлетворять в первых обиталищах своих на юге. В таком сыром или холодном климате, как в Галлии, Германии, северной Англии, Америке, человек ест гораздо больше; ему необходимы более прочные и лучше устроенные дома, одежда теплее и толще, больше огня, больше света, больше удобств, больше жизненных припасов, орудий и всяких промыслов. Он поневоле становится промышленным, и так как потребности его растут по мере их удовлетворения, то три четверти своих усилий он обращает на то, чтобы ему было хорошо жить. Но удобства, которыми он таким образом снабжается, те же налагаемые им на себя узы, и это искусственное благосостояние прямо держит его у себя в плену. Сколько различных вещей входит ныне в одежду любого заурядного человека! Насколько больше входит их в женский туалет при среднем даже состоянии; поместить все это мало ведь двух-трех шкафов. Заметьте, что нынешние неаполитанские или афинские дамы перенимают моды у нас же. Какой-нибудь паликар носит теперь наряд такой же сложности, как и мы. Наши северные цивилизации, влияя обратно на отставшие народы юга, занесли туда чуждый им крайне многосложный костюм, и надо идти в какие-нибудь отдаленные углы, спуститься к очень бедному классу жителей, чтобы отыскать, например, в Неаполе настоящих лаццарони, одетых только в один передник, или в Аркадии – женщин, еле прикрытых одной рубашкой, – короче, таких людей, которые урезают и соизмеряют свою одежду по незначительным требованиям своего климата.
В Древней Греции короткая без рукавов туника для мужчин, а для женщин – длинная до земли, отвернутая у плеч и спадающая отворотом до пояса – вот и весь существенный наряд; прибавьте к этому большой квадратный лоскут ткани, в который можно завернуться при случае женщине, – покрывало для выходов, да обыкновенно еще сандалии; Сократ надевал их, впрочем, только по праздникам, зачастую же греки ходили босиком и с непокрытой головой. Все эти одежды можно снять одним махом: они не обтягивают стана, а только обозначают формы, да и то слегка; в промежутки их и при движениях везде сквозит нагое тело. Их совсем снимают в гимназиях, в беговой стадии, при многих торжественных плясках. ’’Грекам свойственно, – говорит Плиний, – ничего не прикрывать”. Одежда у них – просторная принадлежность, предоставляющая полную свободу телу, которую по желанию в один миг можно сбросить с плеч. Той же простотой отличается и вторая оболочка человека, я хочу сказать – его жилье. Сравните какой-нибудь дом сен-жерменского предместья или Фонтенбло с домом в Помпее или Геркулануме, двух красивых провинциальных городках, игравших по отношению к Риму ту же роль, какую Сен-Жермен или Фонтенбло играют теперь по отношению к Парижу. Пересчитайте все, что составляет нынче порядочную квартиру: большое каменное здание в два или три этажа, оконницы со стеклами, бумажные или матерчатые обои, решетчатые ставни, двойные и тройные занавесы, печи, камины, кровати, стулья, кресла, разного рода мебель, множество роскошных безделушек и хозяйственных принадлежностей – и противопоставьте всему этому шаткие стены какого-нибудь дома в Помпее, его десять или двенадцать клетушек, расположенных вокруг дворика, где журчит едва заметная струйка воды, его тонкую живопись, его мелкие бронзы; это ведь только легкое убежище для того, чтобы поспать в нем ночью, отдохнуть или вздремнуть в полуденный жар, насладиться иногда прохладой, следя глазами нежные арабески и изящную гармонию красок: климат ничего больше и не требует. В лучшую пору Греции хозяйство велось на гораздо скромнейший лад[90]. Стены, которые ничего не значило проломить вору, просто выбеленные известью и без всякой живописи даже еще во времена Перикла; постель с кое-какими покрышками, несколько изящных расписных ваз, развешанное по стенам оружие, лампа самого первобытного устройства; очень маленький, большею частью одноэтажный домик: этого было совершенно достаточно для благородного афинянина; он живет вне дома, на чистом воздухе, под портиками, на Агоре, в гимназиях, и общественные здания, ютящие общественный его быт, так же мало убраны, как и его частное жилище. Вместо дворца, подобного зданию Законодательного корпуса или лондонскому Вестминстеру с его многосложным внутренним устройством, его скамьями, освещением, библиотекой, буфетом, всеми его комнатами и службами, у афинянина – пустая площадь, Пникс, да несколько каменных приступок, составляющих трибуну для оратора. Теперь, когда мы строим оперный театр, нам необходим громадный фасад, четыре или пять обширных павильонов, разного рода фойе, залы и коридоры, широкий круг для зрителей, огромная сцена, гигантский чердак для склада декораций и пропасть помещений и особых лож для управляющих театром и для актеров; мы затратим сорок миллионов, и в зале будет всего только каких-нибудь две тысячи мест. В Греции театр вмещает от тридцати до пятидесяти тысяч зрителей и стоит в двадцать раз меньше, нежели у нас; там чуть ли не все издержки берет на свой счет природа: на скате какой-нибудь горы вытесывают полукругом сиденья уступами, внизу и в центре полукруга жертвенник, большая, покрытая изваяниями стена (вроде уцелевшей в Оранже стены римского театра) для отражения голоса актеров; вместо люстры – солнце, а вместо декораций – дали: то сверкающее море, то группы гор, одетые бархатистым светом. Греки своей бережливостью достигают великолепия и как в своих развлечениях, так и в делах достигают такого совершенства, до какого, несмотря на наши непомерные денежные затраты, нам слишком далеко.








