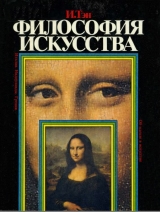
Текст книги "Философия искусства"
Автор книги: Ипполит Адольф Тэн
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
Есть еще одна более сильная причина, влекущая его к выбору грустных сюжетов, именно произведение его, выставленное напоказ всему обществу, понравится ведь лишь в том случае, если оно выражает грусть. В самом деле, люди понимают только чувства, схожие с теми, какие сами они испытывают. Другие чувства, как бы ни были прекрасно они выражены, не производят на них никакого влияния: глаза глядят, но сердце не чувствует ничего, и тотчас же отвертываются и глаза. Представьте себе человека, который потерял состояние, отечество, детей, здоровье, свободу, который двадцать лет провел в цепях тюрьмы, как Пеллико или Адриан, характер которого постепенно искажался и наконец совершенно надломился, который сделался меланхоликом и мистиком и безвозвратно утратил бодрость, – он с ужасом отвернется от плясовой музыки и едва ли захочет читать Рабле; если вы поведете его к вакхически-веселым лицам Рубенса, он отвернется от них и станет охотно глядеть только на картины Рембрандта; ему приятна будет лишь музыка Шопена, он станет слушать лишь стихотворения Ламартина или Гейне. То же происходит с обществом и с отдельными лицами; вкус индивидуума зависит от его положения; горе располагает его к грустным произведениям, следовательно, он отбросит прочь все веселые и станет порицать их или не обратит внимания на их автора. Но вы знаете, что каждый художник сочиняет для того лишь, чтобы его оценили и похвалили, – в этом первое его желание. Следовательно, помимо многих других влияний, главная цель художника в соединении со всей тяжестью общественного мнения склоняет и направляет его беспрестанно к изображению грустного, преграждая ему все пути, которые могли бы привести его к воспроизведению беззаботности и счастья.
Этим рядом препятствий замыкается всякий путь художественным созданиям, в которых изображалась бы радость. Если художник перешагнет первое препятствие, он будет остановлен вторым, третьим и так далее. Если и встретятся иногда веселые натуры, то и они будут омрачены своими собственными несчастьями. Воспитание и ежедневные разговоры преисполнят их грустных мыслей. Таланты художников, благодаря которым они схватывают и восполняют характеристические черты предметов, будут изощряться только на печальных характерах. Опыт и труд других наставят и окажут им содействие только лишь по отношению к грустным сюжетам. Наконец, решительное и громкое требование публики не дозволит им никаких иных. Поэтому тот род художников и те произведения, которые готовы изображать веселье и радость, исчезнут или будут незаметны.
Рассмотрим теперь обратный случай – время, общим нравственным состоянием в котором является веселье. Это бывает в пору возрождения, с увеличением безопасности, богатства населения, благосостояния, благоденствия, прекрасных и полезных изобретений. Изменив собственно наши предыдущие выражения, мы увидим, что все сказанное нами прежде слово в слово может быть применено к настоящему случаю, и, путем такого же рассуждения, мы придем к выводу, что все художественные создания этого времени выразят, в большей или меньшей степени, веселое и радостное настроение.
Теперь обратите внимание на случай, занимающий середину между тем и другим состоянием, т. е. на такое смешение горя и радости, какое представляется обыкновенным, не исключительным состоянием людей. Изменяя соответственно выражения, мы можем с совершенной точностью применить наше исследование и тут. То же самое рассуждение убедит нас, что художественные создания выразят соответственную, по количеству и качеству, смесь радости и горя.
Итак, выведем отсюда заключение, что в каждом сложном или простом случае среда, т. е. общее состояние умов и нравов, определяет род художественных произведений, допуская лишь те из них, которые ему соответствуют, и выделяя или исключая другие роды и виды их путем целого ряда препятствий и нападок, возобновляющихся при каждом шаге их к развитию.
IV
Действительные и исторические случаи. – Четыре эпохи и четыре главных искусства.
Оставим теперь случаи предполагаемые и упрощенные для ясности изложения и обратимся к действительным случаям. Пробегая главнейшие моменты исторической жизни народов, вы увидите полное подтверждение этого закона. Я выберу между ними четыре главнейших момента в европейской цивилизации: древние времена Греции и Рима, феодальную и христианскую эпоху средних веков, дворянские и стройные монархии XVII столетия и руководимую науками промышленную демократию нашего времени. Каждый из этих периодов имеет свое искусство или свой род искусства, ему свойственные, скульптуру, архитектуру, театр, музыку, по крайней мере какой-нибудь определенный вид каждого из этих великих искусств, во всяком случае – особую растительность, необыкновенно обильную и полную, в главных своих чертах отражающую главные черты искусства и народа. Рассмотрим одну за другой различные почвы и увидим на каждой из них по очереди разнообразные цветы.
V
Греческая цивилизация и античная скульптура.
Греческие нравы в сравнении с нравами других современных народов. – Город. – Человек ведет праздную жизнь в качестве гражданина или воина. – Военное время и военное право в древности. – Необходимость образовать атлета. – Спартанская система людских заводов и детских артелей или дружин. – Гимнастика в остальной Греции.
Соответствие между идеями и нравами. – Нагота не кажется неприличной. – Олимпийские игры. – Оркестрика. – Боги – полное совершенство тела. Зарождение скульптуры. – Статуи атлетов. – Статуи богов. – Как греки раскрывают и изображают совершенство тела. – Почему ваяние оказывается достаточным для них. – Тело не подчиняется у них голове. – Громадное число статуй.
Около трех тысяч лет тому назад по берегам и на островах Эгейского моря появилось чрезвычайно красивое и богато одаренное племя с совершенно новым взглядом на жизнь. Оно не дало поглотить себя ни великой религиозной идее, подобно индусам и египтянам, ни обширной социальной организации, как ассирийцы и персы, ни, наконец, громадной промышленной и торговой деятельности, как финикияне и карфагенцы. Вместо теократии и иерархии каст, вместо монархии и иерархии сановников, вместо обширных торговых и промышленных учреждений люди этого племени устроились по-своему: они завели у себя город, от каждого такого города плодились другие, и каждый отпрыск, отделившись подобным же образом от своего источника, порождал опять новые отпрыски. Один из этих городов, Милет, произвел до трехсот других и заселил ими весь сплошь берег Черного моря. Другие делали то же, и от Кирены до Марселя, вдоль заливов и мысов Испании, Италии, Греции, Малой Азии и Африки, они сплелись вокруг Средиземного моря целым венком цветущих городов.
Какую же жизнь вели в этом городе?[5] Гражданин своими руками работал там мало; все необходимое обыкновенно доставлялось ему подвластными и данниками, а прислуживали ему рабы. Самый бедный гражданин имел по крайности хоть одного раба для домашнего обихода. В Афинах считалось по четыре раба на одного гражданина, а обыкновенные города – Эгина, Коринф имели от четырехсот до пятисот тысяч рабов; Таким образом, в прислуге не было недостатка. Впрочем, гражданин и не имел в ней особенной надобности. Он был умерен, как все деликатные, южные племена, довольствовался тремя оливками, головкой чесноку и одной сардинкой[6]; вместо всякой одежды он ограничивался сандалиями, полурубашкой и большим, на манер пастушьего, плащом. Дом его представлял тесную, дурно сложенную и непрочную постройку; воры влезали туда, проламывая стену избы[7]; главное употребление этих хижин состояло в том, что там спали; кровать, две-три красивые амфоры – вот главная мебель. Гражданин не имел особенных потребностей и проводил весь день на открытом воздухе.
Чем занимался он на досуге? Не неся никакой службы ни царю, ни первосвященнику, он был свободен и сам себе владыка в своем городе. Он выбирал себе судей и жрецов; мог также и сам быть выбран в жрецы или в сановники; кожевник ли, кузнец ли, он наравне с другими гражданами решал в трибуналах самые крупные политические дела и обсуждал в собраниях важнейшие государственные вопросы. Короче, общественные дела и война – вот вся его обязанность. Он призван быть политиком и солдатом, все остальное в его глазах не имеет особого значения; по его убеждению, все внимание свободного человека должно быть устремлено на эти два занятия. И он прав, потому что в то время человеческая жизнь не была в такой безопасности, как теперь, и человеческие общества не обладали еще той прочностью, какой они достигли в настоящее время. Большая часть этих городов, разбросанных по берегам Средиземного моря, была окружена варварами, которые охотно разграбили бы их; гражданин вынужден постоянно быть наготове, с оружием в руках, точно так же, как и теперь европеец живет в Новой Зеландии или в Японии, не то галлы, ливийцы, самниты, вифинцы тотчас же раскинут лагерь на развалинах разоренного города и обращенных в пепел храмов. Впрочем, города враждуют друг с другом, а военное право отличается такой жестокостью, что чаще всего побежденный город является вместе с тем и разоренным в прах; какой-нибудь богатый и значительный человек может завтра же увидать свой дом сожженным, имущество разграбленным, а жену и дочь проданными для пополнения домов разврата; сам он и сыновья сделаются рабами, будут зарыты в рудники или станут под ударами плетей ворочать мельничный жернов. Когда опасность так велика, естественно, что граждане заботятся об интересах государства и всегда готовы драться: каждый заинтересован политикой под страхом смерти. Политиками делаются также из честолюбия, из жажды славы. Каждый город старается покорить или унизить другие, приобрести себе данников, завоевать или эксплуатировать чужих[8]. Гражданин проводит жизнь на общественной площади, обсуждает лучшие средства к охранению и возвеличению своего города, условия союзов и договоров, состав учреждений и законов, слушает ораторов, сам говорит – вплоть до той минуты, когда настанет пора сесть на корабль, чтобы биться с Фракией или Египтом, с греками, с варварами или с великим царем Персии.
Для достижения этой цели у них была придумана особенного рода дисциплина. В то время, за недостатком промышленности, боевые машины не были известны, а сражались врукопашную; поэтому главное условие успеха в войне заключалось не в том, чтобы превратить солдат, как теперь, в точно движущихся автоматов, но чтобы сделать из каждого солдата возможно более стойкого, сильного и ловкого бойца – короче, гладиатора самого лучшего закала, способного выдерживать битву как можно долее. С этой целью Спарта, около VIII столетия подавшая собою пример и расшевелившая всю Грецию, ввела у себя чрезвычайно сложное и не менее сильное устройство. Сама она была открытым лагерем, на манер французских военных постов в Кабилии, расположенным посреди побежденных и неприятелей, вся проникнутая воинским духом и вся целиком направленная к обороне или битве. Чтобы иметь годных воинов, старались сперва усовершенствовать породу людей и для этого поступали, как на конских заводах. Дурно сложенных детей просто умерщвляли. Кроме того, закон определял не только брачный возраст, но даже минуту и обстоятельства, особенно благоприятствующие удачному зарождению. Старик, у которого была молодая жена, обязан был свести ее с юношей, чтобы от нее родились здоровые дети. Человек средних лет, если бы у него был приятель, отличавшийся сильным характером и красотой, мог также уступить ему свою жену[9]. За выработкой породы принимались меры к улучшению особей. Подростков собирали в отряды, приучали к телесным упражнениям и к жизни сообща как солдатских детей. Они были разделены на две соперничавшие между собой дружины, взаимно наблюдавшие друг за другом и бившиеся на кулачки и ногами. Спали они на открытом воздухе, купались в холодных волнах Эврота, ходили на мелкий грабеж, ели мало, на скорую руку и плохо, покоились на тростниковых подстилках, пили одну воду и переносили все непогоды; молодых девочек приучали к таким же упражнениям, а взрослых обязывали к ним, хотя и не вполне. Конечно, в других городах эта строгость древней дисциплины была смягчаема или требовалась в меньшей степени. Тем не менее все они, с различными уклонениями, стремились к одной и той же цели почти одним и тем же путем. Молодые люди проводили большую часть дня в гимназиях, где боролись, прыгали, бились на кулачки, бегали, бросали диск, укрепляли и развивали свои обнаженные мышцы. Требовалось придать телу возможно большую крепость, легкость и красоту, и никакое другое воспитание не привело бы лучше к подобной цели[10].
Эти свойственные грекам нравы породили и особенные понятия. Идеальной личностью в их глазах был не полный мысли ум, не глубоко чувствующая душа, а обнаженное тело, породистое и рослое, с полной соразмерностью частей, подвижное и ловкое на все упражнения. Такой взгляд обнаруживается у них во множестве подробностей. Во-первых, между тем как вокруг греков карийцы, лидийцы и вообще все их соседи-варвары стыдились показываться нагими, они охотно покидали одежду, чтобы сражаться и бегать[11]. Даже молодые девушки упражнялись в Спарте почти обнаженные. Вы видите, что гимнастические обычаи совершенно уничтожили или изменили общие понятия о стыдливости. Во-вторых, их большие народные празднества, олимпийские, пифийские и немейские игры, служили выставкой и торжеством для красы нагого тела. Молодые люди лучших семейств стекались туда со всех концов Греции, из самых отдаленных греческих колоний; они приготовлялись к этому задолго особенного рода выдержкой и неустанной работой, и там, перед лицом всего народа и при громких рукоплесканиях его, раздевшись донага, они боролись, бились на кулачки, бросали диск и бегали или скакали в колесницах. Победы на этих играх, в наше время предоставленные уже только ярмарочным геркулесам, казались также выше всех других. Атлет, победитель в каком-нибудь беге, давал олимпиаде свое имя в прозвище. Величайшие поэты воспевали его; знаменитейший из древних лириков, Пиндар, славил лишь бега на колесницах. При возвращении атлета-победителя домой сограждане встречали его с особенным торжеством, его сила и ловкость становились славой всего города. Один из таких атлетов, Милон Кротонский, непобедимый в борьбе, был избран военачальником и водил своих сограждан на битву, одетый в львиную шкуру и вооруженный палицею, как Геркулес, которому его уподобляли. Рассказывают, что некто Диагор, видевший, как в один и тот же день двое его сыновей были увенчаны на играх, торжественно был перенесен ими перед всем сборищем и народ, находя такое счастье слишком великим для смертного, кричал ему: ’’Умри, Диагор, ведь не сделаться же тебе богом!” В самом деле, Диагор не вынес столь сильного волнения и умер на руках своих детей; в его собственных глазах и по мнению всех греков убедиться, что у детей его самые сильные кулаки и самые проворные ноги, было верхом земного благополучия. Истинное ли это сказание или легендарное, во всяком случае, подобный взгляд показывает, до какой крайности доходило поклонение совершенству тела.
Вот почему греки не боялись выставлять наготу своего тела и перед богами на торжественных праздниках. У них была целая наука различных положений тела и телодвижений, называвшаяся оркестрикой и учившая изящным позам в священных танцах. После битвы при Саламине трагик Софокл, в то время пятнадцатилетний юноша, известный своей красотой, сбросил с себя одежду, чтобы поплясать и воспеть пеан перед трофеем. Спустя полтора столетия Александр, проходя Малую Азию на войну с Дарием, разделся со своими товарищами донага, чтобы упражнениями в беге почтить гробницу Ахилла. Но поклонение телу в то время шло еще далее: совершенство телесных форм считалось прямо принадлежностью богов. В одном из сицилийских городов молодой человек необыкновенной красоты был боготворим за одно это, и по смерти ему воздвигли жертвенники[12]. У Гомера, которого можно назвать библией греков, вы везде найдете, что боги имеют человеческое тело, которое можно ранить копьем, алую струящуюся кровь, желания, гнев, наслаждения, совершенно подобные нашим, до того, что некоторые герои становятся любовниками богинь, а, боги имеют детей от смертных любовниц. Олимп и земля не разделены непроходимой бездною: боги спускаются к нам, а мы подымаемся к ним; превосходят они нас лишь тем, что они сильнее, красивее и счастливее нас. Затем, как и мы, они так же едят, пьют, дерутся, наслаждаются всеми телесными способностями. Греция из изящного плотского человека сделала себе до того совершенный образец, что он стал идолом ее, прославляемым ею на земле и обожаемым на небе.
Результатом такого взгляда является ваяние, и мы можем проследить все моменты в его развитии. Начать с того, что один раз увенчанный атлет имеет уже право на статую; если же он трижды остался победителем, то ему ставят иконическую статую, т. е. портретное его изваяние. С другой стороны, так как боги тоже обладают человеческим телом, только более светлым и совершенным, то весьма естественно изображать статуями и их. К тому же этим нисколько не нарушается общий догмат верования. Мраморное или бронзовое изваяние не есть ведь аллегория, но совершенно точный образ; оно не навязывает богу мускулов, костей, тяжелой оболочки, которых у него нет; оно передает наружные очертания его тела и живую форму, составляющую собой его сущность. Чтобы стать вполне верным изображением, фигуре достаточно быть красивее всех других и представлять то бессмертное спокойствие, которым бог превосходит нас, смертных.
Вот статуя уже в деле; сумеет ли скульптор довершить ее? Всмотритесь в его подготовку. Люди того времени наблюдали движения нагого тела в купальнях, в гимназиях, во время священных плясок, на общественных играх. Они подметили и уловили те из форм и движений этого тела, которые обнаруживают энергию, здоровье и живость. Все силы труда употреблены были ими на то, чтобы передать своим изваяниям эти формы и усвоить им эти положения. В течение трехсот или четырехсот лет они исправляли таким образом, очищали и развивали свои понятия о телесной красоте. Ничего нет удивительного, если они, наконец, открыли идеальный образец человеческого тела. Что касается до нас, знающих теперь его, мы должны откровенно сказать, что он перешел к нам от греков. Когда, под конец готического вкуса, Николай Пизанец и другие лучшие скульпторы покинули сухие костлявые и некрасивые формы церковных преданий, ими взяты были за образец сохранившиеся или найденные в земле греческие барельефы; и если, в настоящее время, усиливаясь забыть невзрачные тeлa наших плебеев или мыслителей, мы захотим воссоздать несколько очерков более совершенной формы, то указаний для нашей цели нам придется искать в этих статуях, памятниках жизни гимнастической, праздной и благородной.
Тут мы найдем не только совершенство формы, но и то единственное в своем роде явление, что форма эта вполне удовлетворяет мысли художника. Греки, приписав телу исключительно ему одному присущее достоинство, не пытаются, подобно новейшим народам, подчинить его голове. Им нужны вольно дышащая грудь, туловище, устойчивое на бедрах, упругость мышц, быстро двигающих телом; они не заинтересованы исключительно, как мы, возвышенностью задумчивого чела, гневным движением бровей, насмешливою складкой губ; они могут довольствоваться условиями совершенной скульптуры тела, оставляющей глаза без зрачков и голову без выражения, предпочитающей спокойные или занятые каким-нибудь неважным делом лица, употребляющей обыкновенно однообразный цвет бронзы или мрамора, представляющей живописи разноцветные украшения и литературе драматический интерес, – скульптуры, которая, будучи стеснена, но зато и облагорожена свойством ее материалов и узкостью ее рамки, избегает воспроизведения частностей, физиономии, случайных перемен, человеческих треволнений, а восстанавливает только одну отвлеченную, чистую форму; в святилищах ее блестит лишь неподвижная белизна мирных и величественных изображений, в которых род человеческий узнает своих героев и своих богов. Вот поэтому-то ваяние и есть центральное, верховное искусство в Греции, все остальные более или менее связаны с ним, сопровождают его или ему подражают; ни одно из них не выразило так прекрасно народной жизни, ни одно не достигало столь тщательной обработки и столь громадной популярности. Вокруг Дельф, в сотне небольших храмов, хранивших городские сокровища, ’’целое народонаселение из мрамора, золота, серебра, меди, бронзы, из двадцати различных и разноцветных бронз, тысячи славных граждан в беспорядочных группах, и сидя, и стоя, – лучезарно сияли, как истые подданные светоносного бога”[13]. Когда позднее греческий мир был ограблен Римом, громадный этот город также наполнился целым народом статуй, почти равночисленных живому его населению. В настоящее время, после стольких веков разрушения, насчитывают, что из Рима и его окрестностей добыто более шестидесяти тысяч статуй. Никогда не видно было впоследствии такого процветания скульптуры, такого изобильного богатства цветов, и цветов столь совершенных, развития столь легкого, постоянного и разнообразного. Вы только что открыли причину этого, тщательно исследовав почву по слоям, и не могли притом не заметить, что все слои этой человеческой почвы – учреждения, нравы, идеи – способствовали столь невиданному процветанию.
VI
Средневековая цивилизация и готическая архитектура.
Упадок древнего мира, принижение греческих городов. – Римская империя. – Частые нашествия варваров. – Феодальный грабеж, голод и эпидемии. – Всеобщее бедствие.
Влияние на умы. – Грусть и отвращение к жизни. – Экзальтированная чувствительность и рыцарская любовь. – Могущество христианской религии. Зарождение готической архитектуры. – Громадность здания. – Внутренний полумрак и измененное освещение сквозь стекла. – Символизм форм. – Стрельчатые своды. – Искание чего-то гигантского и фантастического. – Повсеместность этой архитектуры.
Военная организация, свойственная всем древним городам, принесла, с течением времени, свой плод – плод печальный. Так как война была обычным, естественным состоянием, то, разумеется, сильные покорили слабейших; значительные государства слагались не раз под управлением или тиранией какого-нибудь могущественнейшего или победоносного города. Наконец явился город Рим, одаренный большей энергией, терпением и ловкостью, более других способный подчиняться и повелевать, обладающий большей последовательностью в своих целях и большей практической сообразительностью. После семисотлетних усилий он успел покорить своей власти весь бассейн Средиземного моря и многие обширные страны вокруг него. Чтобы достигнуть этого, он подчинился военному управлению и, как плод является из зерна, из него возник военный деспотизм. Так образовалась империя; и к концу первого столетия нашей эры мир, организованный в одну правильную монархию, как будто бы нашел наконец порядок и спокойствие. Его ожидал, однако же, только упадок. В страшном погроме завоевания гибли сотни городов и миллионы людей. Сами победители истребляли друг друга в течение целого столетия, и цивилизованный мир, лишенный свободных людей, был наполовину обезлюден[14]. Граждане, став подвластными и не руководясь уже никакой целью, предались апатии или уклонялись от брака и не производили детей. Так как машины в то время не были известны, а все делалось посредством ручной работы, то рабы, обязанные трудами рук своих служить утонченным наслаждениям, увеселениям и роскоши целого общества, изнемогали под тяжестью непосильного труда. По прошествии четырех веков ослабленная и опустошенная империя не имела ни достаточного количества людей, ни настолько энергии, чтобы отбить варваров. Волны этих орд, прорвав плотину, вторгались одни за другими беспрерывно в течение пятисот лет. Зло, причиненное ими, было неисчислимо: истреблены целые народы, разрушены здания, опустошены поля, выжжены города, промышленность, искусства, науки – все было погублено, изувечено, забыто; страх, невежество и грубость распространились и утвердились повсюду; то были дикари, вроде гуронов или ирокезов, внезапно явившиеся посреди образованных и мыслящих, как мы, людей. Вообразите себе стадо быков, ворвавшееся во внутренность какого-нибудь дворца, между мебелью и комнатными украшениями; вслед за этим стадом является другое, так что обломки, оставленные первым, исчезают под копытами вторых, и не успеет эта ватага животных расположиться здесь как попало, ей уж надо опять вскочить на ноги и противопоставить рога свои разъяренному стаду новых ненасытных пришельцев. Когда же наконец в X веке последняя орда водворилась кое-как и завела на свой лад становище, условия людской жизни едва ли оттого улучшились. Предводители варваров, сделавшиеся феодальными владельцами замков, вели постоянные драки между собой, разоряли крестьян, жгли жатвы, грабили купцов, обирали сколько душе угодно своих несчастных холопов. Земли оставались невспаханными, чувствовался недостаток жизненных припасов. В XI столетии на какие-нибудь семьдесят лет насчитывается сорок лет голода. Монах Рауль Глабер рассказывает, что в то время вошло в обыкновение есть человеческое мясо; одного мясника сожгли живьем за то, что он выставил его в своей лавке. Прибавьте к этому, что, при повсеместной нищете и неопрятности, при полном забвении самых обыкновенных правил гигиены, моровые язвы, проказа, разные эпидемии акклиматизировались, как у себя дома. Нравы дошли до дикости антропофагов Новой Зеландии, до скотского огрубения каледонцев и папуасов, а воспоминание прошлого только увеличивало горечь настоящих бедствий, и те немногие мыслящие головы, которые не забыли еще читать на древнем языке, смутно чувствовали всю громадность падения и всю глубину той пропасти, в которую род людской погружался в течение целого тысячелетия.


Вы угадываете чувства, какие поселило в этих людях подобное положение дел, столь продолжительное и ужасное. То были – уныние, отвращение к жизни, мрачная тоска. ’’Мир, – говорит один писатель того времени, – есть не что иное, как пучина зла и бесстыдства”. Жизнь казалась преждевременным адом. Многие покидали ее, и не только бедные, слабые, больные, но и владетельные вельможи, даже короли. Те, у кого душа была хоть несколько благороднее и выше, предпочитали однообразное спокойствие монастырей. С приближением тысячного года все ожидали конца мира, и многие, объятые ужасом, спешили раздать свое имущество церквам и монастырям. С другой стороны, вместе с ужасом и отчаянием, появляется нервная экзальтация. Когда люди слишком несчастны, они становятся раздражительны, как больные и узники; их чувствительность постепенно усиливается и доходит до женственной изнеженности. Им свойственны прихоти, вспышки, упадок духа, крайности и невольные сердечные излияния, каких у них не было в здоровом состоянии. Они выходят из пределов обыкновенных чувств, которые одни могут поддерживать постоянную и мужественную деятельность; они мечтают, плачут, бросаются на колени, становятся неспособными удовлетворять самих себя, воображают себе какие-то блаженства, восторги, бесконечные нежности, стремятся излить всю утонченность и весь энтузиазм своего крайне возбужденного воображения – одним словом, они расположены любить. В самом деле, в то время до чрезмерности развилась страсть, не известная спокойно-мужественной древности, – я говорю о рыцарской и мистической любви. Спокойная и рассудительная любовь, приличная браку, была подчинена восторженной и беспорядочной любви, встречаемой только вне его. Все тонкости ее подмечали и заносились в протокол особенными судами под председательством женщин. На женщину перестали смотреть как на существо такое же телесное, как и мужчина. Из нее сделали обожаемого идола. В праве обожать ее и служить ей находили лучшую награду мужчине. На человеческую любовь смотрели как на какое-то небесное чувство, ведущее к божественной любви и сливающееся с ней воедино. Поэты преобразили своих возлюбленных в какую-то сверхъестественную Добродетель и молили их быть руководительницами своими по пути в эмпиреи. Вы легко можете представить себе, какую силу почерпала христианская религия из подобного настроения. Отвращение ко всему земному и склонность к экстазу, обычное отчаяние и бесконечная потребность высшей неги, естественно, склоняют человека к учению, представляющему землю юдолью слез, настоящую жизнь – тяжелым испытанием, религиозный восторг – величайшим благом, любовь к небу – первой обязанностью. Болезненная или трепетная чувствительность находит пищу себе в бесконечности ужаса и в бесконечности надежды, в изображении бездн пламени и вечного ада, в представлении лучезарного рая и неизреченных блаженств. Опираясь на это, католицизм овладевает умами, вдохновляет искусства, распоряжается художниками. ”Мир, – говорит один современник, – сбрасывает свои старые лохмотья и облекает свои храмы в белое одеяние”. И вот является готическая архитектура.
Взглянем на воздвигающееся вновь здание храма. В противоположность древним религиям, которые все отличались местным характером и были принадлежностью известных каст или семейств, христианство выступило мировой религией, обращающейся к толпе и призывающей всех людей к спасению. Следовательно, необходимо, чтобы здание было очень обширно, чтобы оно могло вместить под своими сводами все население округа или города, женщин, детей, рабов, ремесленников и нищих точно так же, как благородных и вельмож. Маленькая целла, ютившая в себе статую греческого бога, портик, где развертывалось торжественное шествие свободных граждан, оказались недостаточны для такой толпы. Ей необходимы громадная храмина, широкие, удвоенные галереи, пересекаемые другими накрест; бесконечные своды, колоссальные столпы – и целые поколения работников, которые толпами стекались в продолжение веков, чтобы работать для спасения души, изводя целые горы камня, прежде чем довершить сооружение памятника.
Люди входят сюда с печалью в душе и выносят отсюда самые безотрадные мысли. Они думают об этой презренной жизни, полной треволнений и стоящей на краю бездны, об аде и его безмерных и бесконечных муках, о страданиях Иисуса Христа, умирающего на кресте, о святых мучениках, истязаемых гонителями. Под такими религиозными впечатлениями и под тяжестью своих собственных страхов им не живется с весельем и простою красотой дня; они не пропускают к себе ясного, здорового света. Внутренность здания погружена в суровый и холодный полумрак; дневной свет доходит сюда лишь сквозь расписные стекла, с кроваво-пурпурным колоритом, в блеске аметистов и топазов, в таинственном сиянии драгоценных камней, в причудливой игре, как бы раскрывающей райскую обитель.








