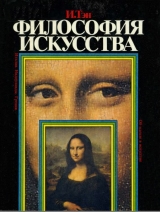
Текст книги "Философия искусства"
Автор книги: Ипполит Адольф Тэн
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
Остается еще один элемент – именно слог. Сказать правду, он только один и виден, а другие два составляют его изнанку, подкладку; он одевает их с ног до головы и один находится на поверхности. Книга не более ведь как ряд фраз, которые автор произносит от себя или заставляет произносить свои действующие лица; телесным глазам и ушам не уловить в ней ничего более; все, что может быть сверх того подмечено внутренним слухом д зрением, откроется им только при посредстве тех же самых фраз. Итак, вот еще третий очень важный элемент и эффект его должен непременно чадить с эффектом других элементов, чтобы общее впечатление вышло ;коль возможно сильнее. Но какая бы то ни была фраза, сама по себе она способна ведь принять разнообразные формы, а стало быть, и эффекты произвести разнообразные. Она может быть каким-нибудь одним стихом, эа которым следуют другие, она может состоять из одинаково или неодинаково длинных стихов, из ритмов и из рифм, расположенных так или иначе; припомните все богатство стихосложения. С другой стороны, фраза дли предложение может образовать строчку прозы, за которою идут другие такие же: они то смыкаются в целый период, то распадаются на мелкие отдельные предложения, то образуют поочередно периоды и краткие фразы; припомните в этом отношении все синтаксическое богатство языков. Наконец, слова, составляющие фразу, уже и сами по себе отличаются известным характером; смотря по своему происхождению и обычному /потреблению, они или общи, или благородны, или техничны и сухи, или свободны и разительны, или отвлеченны и туманны, или блестящи и колоритны. Короче, каждая произнесенная фраза – это совокупность сил, которые затрагивают в читателе его логический инстинкт, его музыкальные способности, приобретения его памяти, пружины его воображения и через посредство нервов внешних чувств и привычек потрясают всего человека целиком. Итак, необходимо, чтобы слог приравнялся ко всем прочим элементам произведения, – вот последняя гармония условий, и на этой именно почве мастерство великих писателей, можно сказать, бесконечно; их такт или чутье отличается, в этом отношении, необыкновенной тонкостью, а изобретательность их тут прямо неистощима: вы не найдете у них ни эдного ритма, ни одного оборота, ни одной конструкции (фразопостроения), ни одного слова, даже звука, ни одной связи между словами, звуками я фразами, которых ценность не была бы ими прочувствована и которых /потребление было бы неумышленно, случайно. Здесь опять искусство выше природы, потому что вследствие этого выбора, этой обработки и приноровки слога воображаемое лицо говорит лучше и соответственнее своему характеру, чем лицо реальное. Не пускаясь здесь во все тонкости искусства и не входя подробно во все приемы его, мы легко можем заметить, что стихи – известного рода пение, а проза нечто вроде простой беседы; что длинный александрийский стих подымает голос до ровного и благородного выражения, а краткая лирическая строфа еще более восторженна и музыкальна; что мелкая резкая фраза отличается или повелительным или, напротив, плясовым, игривым тоном, а длинный период так и пышет витиеватостью и величавой полнотою, – короче, что всякая стилистическая форма определяет известное состояние души, сдержанность или напряжение, порыв или вялую небрежность, ясность или мрак и муть и что поэтому эффекты известного положения и данных характеров умаляются или возрастают, смотря по тому, идут ли эффекты слога в противоположном или в одинаковом с ними направлении. Представьте себе, что Расин взял бы вдруг слог Шекспира, а Шекспир слог Расина; произведение их вышло бы тогда просто смешным или, скорее, из этого бы ровно ничего не вышло. Фраза XVII века, столь ясная, мерная, очищенная, складная, до того приноровленная к придворным разговорам, не способна выразить нагую страсть, вспышки воображения, неудержимую внутреннюю бурю, изображаемую в английской драме того времени. С другой стороны, фраза XVI века, то непринужденная, то лирическая, крайне смелая, чрезмерная, шероховатая, бессвязная, была бы неуместна в устах вежливых, благовоспитанных, совершенно приличных героев французской трагедии. На место Расина и Шекспира у вас вышли бы Драйдены, Отвей, Дюсисы, Казимиры Делавиньи. Такова сила и таковы условия стиля или слога. Характеры, открывающиеся в драматических положениях уму, открываются чувствам только посредством речи, и общий, дружный лад трех указанных нами сил придает всю выпуклость характеру. Чем более художник умел распознать и свести в своем создании к одной цели многочисленные эффектные элементы, тем более выходит преобладающим освещаемый им характер; все искусство заключено в двух словах: проявлять, сосредоточивая.
II
Различные моменты той или другой литературной поры определяются на основании предыдущего закона. – Начало литературных эпох. – Неполный еще лад элементов по невежеству. – Героические песни. – Первые английские драматурги. – Конец литературных эпох. – Неполный лад элементов по несообразности подбора. – Еврипид и Вольтер. – Середина или центр литературных эпох. – Полная лад-гармония. – Эсхил. – Расин. – Шекспир.
На основании этого закона можно еще раз вновь распределить литературные произведения. При одинаковости всех других условий они будут более или менее прекрасны, смотря по тому, до какой степени слажены в них все разнообразные эффекты, и – по очень любопытному совпадению – правило это, в применении к различным школам, устанавливает между последовательными моментами в развитии одного и того же искусства именно те самые опять деления, которые уже введены сюда историей и опытом.
В начале всякой литературной эпохи мы замечаем период первых очерков или набросков; искусство тогда слабо, во младенчестве, так как общий лад эффектов еще плох, и причина тому кроется в невежестве писателя. Не то чтоб ему недоставало вдохновения, оно у него есть, и часто притом несомненное и сильное; таланта в эту пору бездна; крупные образы так и толпятся в глубине души; но литературные приемы еще не известны, талантливые люди не умеют еще писать, не умеют расположить частей сюжета, воспользоваться литературными средствами. Таков недостаток первой французской литературы в эпоху средних веков. Читая Песнь о Роланде, Рено де Монтобана, Ожье Датчанина[136], вы тотчас видите, что у людей этого века были своеобразные и высокие чувства; тогда основалось новое совсем общество; крестовые походы близились к концу; гордая независимость барона, несокрушимая верность вассала, военно-богатырские нравы, телесная сила и простота сердец доставляли поэзии характеры вроде гомеровских. Она воспользовалась ими только наполовину; она чувствовала их красоту, не будучи в состоянии передать ее. Трувер был мирянин и француз, т. е. рожденный в таком племени, у которого монополия духовенства отнимала тогда всякую возможность высшего просвещения. Он повествует сухо и голо; у него нет полных и блестящих образов Гомера и Древней Греции; его рассказ вообще тускл; его однорифменный стих тридцать раз подряд повторяет все тот же однообразный удар колокола. Он не совладает со своим сюжетом, не умеет ни откинуть, ни развить, ни соразмерить, не умеет подготовить какую-нибудь сцену, усилить тот или другой эффект. Его произведение не заняло места в бессмертной литературе; оно забыто и интересует лишь антиквариев. Если подобное искусство и выдвинется иногда блистательно вперед, то разве одиночными только созданиями, Нибелунгами в Германии, где древненациональная основа не была подавлена клерикальным каноном, Божественною комедией в Италии, где Данте невероятными усилиями труда, восторженности и гения достигает в своей мистическо-ученой поэме неожиданного слияния мирских чувств и богословских теорий[137]. При возрождении искусства в XVI столетии другие примеры показывают нам то же отсутствие совокупной гармонии, ведущее сначала к тому же самому недостатку. Первый по времени английский драматург Марло – человек истинно гениальный; подобно Шекспиру, он живо чувствовал и ярость необузданных страстей, и мрачное величие глубокой северной думы, и кровавую поэзию современной истории; но он не умеет вести разговора, разнообразить события, оттенять положения, противопоставлять друг другу характеры; его любимый прием – беспрерывное убийство и бессловесная смерть; его могучий, но неотесанный еще театр известен только знатокам, как предмет любопытного изучения. Чтобы его трагическая идея жизни развернулась наконец в полном свете перед глазами всех, необходим после него более высокий гений, который, вооружась всею приобретенною уже опытностью, вторично воссоздал бы опять те же типы; необходимо, чтобы Шекспир, не раз блуждавший наперед ощупью и сам, внес в начальные очерки своего предшественника ту разнообразную, полную и глубокую жизнь, которая оказалась не под силу первобытному искусству.
С другой стороны, под конец развития всякой литературной эпохи мы замечаем период неизбежного упадка: искусство в это время портится, дряхлеет, охлаждается рутиной и условностью. Тут тоже ощутим недостаток общего лада между эффектами, но виною тому не невежество. Напротив, никогда не бывало прежде такой учености, все приемы усовершенствованы и утончены донельзя; они сделались даже всеобщим достоянием; пользуйся ими кто хочет. Поэтический язык сложился вполне; самый мелкий писатель знает, как построить предложение, подобрать две рифмы, исподволь подготовить развязку. Искусству вредит теперь ослабление внутреннего чувства. Способность на великие замыслы, образовавшая и поддерживавшая творения прежних мастеров, видимо, хиреет и падает; ее сохраняют лишь в воспоминании и по преданию. Ей никто не следует до конца; ее портят примесью иного духа; ее делают усовершенствованною несообразностью эффектов, их разладицей. Таково было состояние греческого театра при Еврипиде и французского во времена Вольтера. Внешняя форма была та же, что и прежде, но изменилась оживлявшая ее душа, и этот вопиющий разлад неприятно поражает зрителя. Еврипид сохраняет всю прежнюю обстановку – хоры, размер стиха, героев и богов Эсхила и Софокла. Но он дает им речи адвоката и софиста, рад выставить наружу их грешки, их слабости, их горестные вопли. Вольтер принимает волей и неволей все приличия и весь механизм трагедий Расина и Корнеля—наперсников, первосвященников, царей, цариц, изящную и рыцарскую любовь, александрийский стих, слог, отличающийся благородством и всеобщностью, вещие сны, оракулов и богов. Но он вводит заимствованную у англичан трогательную завязку; пытается придать ей исторический лоск, подмешивает разные философские и гуманитарные мысли, пускает исподтишка выходки против царей и священства и во всем этом является новатором и мыслителем не вовремя и невпопад. У того и у другого различные элементы произведений не сходятся уже к одному общему эффекту. Древняя драпировка непременно стесняет чувства новейшего времени, новейшие чувства прорывают древнюю драпировку. Действующие лица их выходят ни то ни се; у Вольтера—это государи, просвещенные Энциклопедией, у Еврипида – герои, изощрившиеся в школе ритора. Под этой двойной маскою фигура их неуловима, ее просто не видать; лица эти если и живут, то разве лишь припадочно и урывками. Читатель покидает этот самоуничтожа-ющийся мир и ищет произведений, в которых, как у живых существ, все решительно органы сходились бы к одному эффекту.
Такие произведения мы находим в середине, или центре, литературных эпох, в момент, когда собственно цветет какое-нибудь искусство; прежде оно было только еще в зародыше, несколько позже оно уже поблекнет. В это же мгновение общий лад эффектов достигает полноты и чудная гармония уравновешивает между собою характеры, слог и действие. Момент этот встречается в Греции при Софокле и, если я не ошибаюсь, еще полнее при Эсхиле, когда верная своему началу трагедия остается еще дифирамбическим пением, когда религиозное чувство новопосвященца в мистерии проникает ее всю, когда гигантские фигуры героической или божеской легенды стоят во весь рост перед зрителем, когда властный над жизнью человека рок и хранитель общественного быта, правосудие, прядут и отрезают нити его судьбы под звуки поэзии темной, как оракул, грозной, как пророчество, чудной, как вещее видение. Вы можете найти у Расина полнейшую гармонию ораторских уловок, чистой и благородной дикции, искусной компановки, мастерских развязок, театральных приличий, истинно царской вежливости, придворной и салонной утонченности в приемах. Вы откроете подобное же согласие в сложном и многосоставном творении Шекспира, если обратите внимание на то, что, изображая цельного и полного человека, он должен был рядом с самыми поэтическими стихами употреблять прозу самую повседневную, пускать в ход все контрасты слога для того, чтобы выставить поочередно все высоты и низины человеческой природы, пленительную нежность женских характеров и несговорчивую рьяность мужских, черствую грубость простолюдинского нрава и перехитренную утонченность светских приличий, какую-нибудь обыденную болтовню и рядом с ней восторженный пыл необычайных потрясений, неожиданность мелких пошлых случаев и роковые удары не знающих никакой меры страстей. При всем разнообразии приемов у великих писателей они всегда в полном ладу между собой – в баснях Лафонтена, как и в надгробных речах Боссюэ, в сказках Вольтера, как и в стансах Данте, и в байроновском Дон Жуане, как и в диалогах Платона, у древних писателей, как и у новых, у романтиков, как и у классиков. Пример мастеров своего дела ничуть не навязывает их преемникам ни стиля, ни порядка изложения, ни какой бы то ни было неизменной формы. Если один успел на таком пути, другой может успеть на противоположном; необходимо только одно – чтобы произведение его всецело шло одной и той же дорогою; надо, чтобы он всеми силами стремился к одной цели. Искусство, как и природа, выливает свои создания во всевозможные формы; но, чтобы создание было жизненно, в искусстве, как и в природе, необходимо, чтобы все клочки составляли одну нераздельную совокупность и чтобы самая ничтожная частица мельчайшего из элементов непременно находилась в подчинении целому.
III
Различные элементы пластического произведения. – Тело и его элементы. – Архитектура линий и ее элементы. – Колорит и его элементы. – Каким образом эти элементы могут слаживаться между собой.
Нам остается еще рассмотреть искусства, проявляющие физического человека, и определить различные их элементы, в особенности же элементы живописи, богатейшего из всех этих искусств. В картине прежде всего мы замечаем наполняющие ее живые тела, а в телах этих мы указали уже две главные части: общее костяное и мышечное строение и одевающий его наружный покров, т. е. чувствительную и колоритную вместе кожу. Вы сейчас же видите, что оба эти элемента должны находиться во взаимной гармонии. Белая и женственная кожа Корреджо не может встречаться на богатырских мускулатурах Микеланджело. То же должно сказать и насчет третьего элемента – позы и физиономии: известные улыбки идут лишь к известным телам; никогда откормленный борец, полуобнаженная Сусанна, мясистая Магдалина Рубенса не будут иметь того вдумчивого, нежного и глубокого выражения, какое придает своим фигурам Леонардо да Винчи. Это, впрочем, еще самые грубые, самые внешние только соответствия; но есть другие, несравненно более глубокие и не менее существенные. Все мышцы, все кости, все сочленения, все детали (подробности) физического человека имеют свою знаменательность; каждый из них может выражать различные характеры. Большой палец на ноге и ключица у врача совсем не те, что у воина; малейший клочок тела своею полнотой, формой, цветом, размером, плотностью служит основанием для отнесения животного, именуемого человеком, к той или иной породе. Тут бездна элементов, которые должны ладить между собой своими эффектами; если художнику неизвестны некоторые из них, он становится от того слабее; если хоть один элемент действует у него наперекор своему назначению, он отчасти уничтожает этим эффект всех остальных. Вот почему великие художники Возрождения так тщательно изучали человеческое тело, вот почему Микеланджело двенадцать лет занимался анатомией. Это был не педантизм, не мелочность кропотливого наблюдателя. Внешние детали человеческого тела – сокровище для скульптора и живописца, подобно тому как внутренние детали человеческой души – сокровище для драматурга и романиста. Выступ какого-нибудь сухожилия столько же важен для одного, как преобладание известной привычки для другого. Он должен принимать его в расчет не только для того, чтобы сделать живое тело, но еще и для того, чтобы при помощи его придать телу энергию или прелесть. Чем более запечатлел он в своем уме форму, разности, зависимость и употребление этого элемента, тем более во власти его будет красноречиво пустить его в ход в своем произведении. Если вы ближе всмотритесь в фигуры великого века, вы увидите, что от пятки до черепа, от изгиба ноги до морщин лица нет ни одного размера, ни одной формы, ни одного тона в цвете кожи, которые не содействовали бы рельефной выставке характера, какой желает выразить художник.
Здесь предстают нам новые элементы или, скорее, те же, да только с иной точки зрения. Линии, очерчивающие контур тела или обозначающие в этом контуре впадины и выпуклости, сами по себе имеют значение; смотря по тому, прямые ли они или кривые, излучистые, ломаные или неправильные, они производят на нас различные впечатления. То же можно сказать и относительно составляющих тело масс; размеры их также имеют сами по себе значительную важность; смотря по разным отношениям величин, соединяющих голову с туловищем, туловище с членами, члены между собой, мы испытываем различные впечатления. У тела есть своя архитектура, и к органическим связям, соединяющим его живые части, должно присовокупить связи математические, определяющие его геометрические массы и его отвлеченный контур. В этом отношении его можно сравнить с колонной: тот или иной размер диаметра и высоты делает ее ионийской или дорической, изящной или приземистой. Равным образом та или иная пропорция голов в отношении к целому телу делает его флорентийским или римским. Стержень колонны не может быть более помноженной на себя столько-то раз толщины его; равным образом все тело в совокупности должно достичь, но отнюдь не превзойти известной сложной величины, единицею которой служит голова. Все части тела имеют, таким образом, математическую свою меру; без строгого точь-в-точь подчинения ей они, однако же, всегда колеблются около этой нормы, и все разнообразные степени колебания выражают каждая особый характер. Итак, художнику дается тут в руки новый ресурс, новое средство действия; он властен, как Микеланджело, избрать маленькие сравнительно головы и удлиненные тела, простые и монументальные линии, как Фра Бартоломмео, или извилистые контуры и разнообразные изгибы, как Корреджо. Стройные или беспорядочные группы, прямые или наклонные положения, разные планы и разные ярусы картины доставят ему и различные симметрии. Какая-нибудь фреска или картина образует квадрат, прямоугольник, круг, овал – короче, какую-нибудь часть пространства, в котором сборище людей (своей особой группировкой) составляет как бы здание. Всмотритесь на эстампах в Мученичество С в. Севастьяна кисти Баччо Бандинелли или в Афинскую школу Рафаэля, и вы почувствуете этот род красоты, которому греки дали вполне музыкальное название эрифмии (благомерности). Взгляните на один и тот же сюжет, исполненный двумя разными живописцами, – на Антиопу Тициана и на Антиопу Корреджо, и вы почувствуете различные эффекты одной чистой геометрии линий. Это новая опять сила, которую должно направлять заодно с другими и которая, если отнестись к ней небрежно или неточно, помешает характеру произведения выразиться как следует, вполне.
Я подошел теперь к последнему существенному элементу – к колориту. Сами по себе и независимо от подражательного употребления краски, точно так же, как и линии, имеют свой особый смысл, свое значение. Простая гамма красок, не изображающих никакого действительного предмета, подобно любому линейному арабеску, который не подражает в природе ничему, – эта гамма может быть богата или скудна, изящна или тяжела для зрения. Впечатление наше разнится, смотря по подбору цветов; следовательно, этот подбор уже и сам по себе выразителен. Картина есть колоритная поверхность, на которой различные тоны и различные степени света распределены с известным выбором – вот заветная ее суть; что эти тоны и эти степени освещения образуют фигуры, драпировки, архитектурные принадлежности – это уже дальнейшее их свойство, из-за которого первичное все-таки не теряет ни своей важности, ни своих прав. Итак, собственное значение краски громадно, и от того, как живописцы распорядятся ею, зависит все остальное их произведение. Но в этом элементе заключено еще несколько других, прежде всего – общая степень света или темноты; Гвидо любит белое, серебристо-серое, пепельное, бледно-голубое, он пишет все в полном освещении. Караваджо любит черное, угольно-бурое, напряженное, землистое – он все пишет в густой тени. С другой стороны, противоположность светов и теней в одной и той же картине может быть более или менее сильна и более или менее скрадена. Вы знаете, с какою нежною постепенностью форма у да Винчи незаметно выделяется из среды теней, с какою очаровательною постепенностью у Корреджо яркая полоса света выступает из общего освещения, с каким ослепительным блеском у Риберы вспыхивает вдруг светлый тон во мрачной мгле, в какой сырой и желтоватый воздух Рембрандт устремляет вдруг проблеск солнца или пропускает какой-нибудь затерявшийся трепетный луч. Наконец, помимо степени освещения, разные тоны, смотря по тому, служат ли они дополнением друг другу или нет, имеют свои диссонансы и созвучия[138]; они или вызывают, или же, напротив, исключают друг друга; цвета оранжевый, фиолетовый, красный, зеленый и все прочие, сами по себе или в смеси, образуют своим соседством, точно так же, как музыкальные ноты своей последовательностью, особенного рода гармонию, полную и сильную, или терпкую и жесткую, или же нежную и мягкую. Посмотрите в Лувре, в Эсфири Веронезе, на очаровательный ряд желтоватых оттенков, как все они – то бледные, то темные, серебристые, красноватые, зеленоватые, похожие на аметист и всегда умеренные, нигде не резкие – вливаются одни в другие, начиная с цвета полевого нарцисса и светло-соломенного до цвета блеклых листьев и дымчатого топаза; или в Святом семействе Джорджоне обратите внимание на могучие красные оттенки, которые, начиная чуть не черным багрянцем драпировки, идут, все разнообразись и постепенно светлея, местами отдавая на плотном теле в желтизну, дрожат и скользят в промежутках пальцев, одевают, будто бронзой, мужественную грудь и, пропитываясь то тенью, то светом, обливают, наконец, лицо одной молодой девушки целым потоком заходящего солнца; вы поймете всю могучую выразительность подобного элемента. По отношению к фигурам он то же самое, что для пения аккомпанемент; мало того, он подчас сам бывает пением, а фигуры выходят при нем только аккомпанементом; тут из придаточного он становится уже главным. Но имеет ли элемент краски значение побочное, главное или просто одинаковое с остальными, во всяком случае очевидно, что это отдельная совсем сила и что для выражения какого бы то ни было характера эффект этого важного элемента непременно должен согласоваться с другими эффектами.
IV
Предыдущим законом определяются различные моменты истории искусства. – Первичные эпохи. – Неполнота общей гармонии эффектов по невежеству. – Символические и мистические школы в Италии. – Предшественники Леонардо да Винчи. – Эпохи упадка. – Неполнота общей гармонии эффектов по несообразности. – Карраччи и их преемники в Италии. – Подражатели итальянского стиля во Фландрии. – Эпохи процветания. – Полная гармония эффектов. – Леонардо да Винчи. – Венецианцы. – Рафаэль. – Корреджо. – Всеобщность этого закона.
На основании этого закона мы составим еще одну классификацию произведений живописи. Очевидно, что при равенстве всех других условий произведения будут более или менее прекрасны, смотря по тому, яасколько полна в них общая гармония эффектов, и это правило, которое, в применении к истории литературы, указало нам последовательные моменты любой литературной поры, дает точно так же средство и в истории живописи распознать последовательные состояния любой художественной школы.
В первобытный период произведение еще несовершенно. Искусство недостаточно, и невежественный художник не умеет соединить эффекты, сводить все их к одному. Он овладевает некоторыми из них часто весьма удачно, даже гениально; но он и не подозревает существования других; видеть их мешает ему недостаток опытности; или же общий дух окружающей цивилизации отводит ему от них глаза. Таково состояние искусства в два первых возраста итальянской живописи. Гением и душою Джотто походил на Рафаэля; он обладал тем же богатством, тою же легкостью, тою же образностью, тою же красотой вымысла; чувство гармонии и благородства было у него не меньше; но язык искусства не сложился еще в ту пору, и вот он только лепечет, между тем как Рафаэль говорит. Он не учился у Перуджино и во Флоренции, древние статуи были ему неизвестны. В то время едва успели бросить первый взгляд на живое тело, не знали о мышцах ровно ничего и не замечали их могучей выразительности; красоту животного человека даже и не дерзали еще понимать и любить; это по-тогдашнему отзывалось язычеством; влияние богословия и мистицизма было еще слишком сильно. Таким образом, церковная и символическая живопись длится полтора столетия, не употребляя в дело главного своего элемента. Начинается второй возраст, и ювелиры-анатомы, сделавшись живописцами, впервые лепят в своих картинах и фресках крупные тела и верно приставленные члены. Но других сторон искусства им еще недостает. Им не известна архитектура масс и линий, которая в погоне за изгибом кривых и за идеальными размерами преобразует реальное тело в прекрасное; Верроккьо, Поллайоло, Кастаньо дают еще угловатые, неграциозные фигуры, все в буграх мышцы, "похожие, – как говорит да Винчи, – на мешки орехов”. Им не известны разности движений и физиономии; у Перуджино, Фра Филиппо Липпи, Гирландайо, в старинных сикстинских фресках неподвижные, как бы застывшие или однообразно вытянутые в ряд фигуры, казалось, так и ждут, чтобы ожить, последнего только дуновения; но оно к ним не пришло. Художники не знают всех богатств и утонченностей колорита, и тусклые, сухие лица Синьорелли, Креди, Боттичелли выделяются каким-то резким рельефом на фоне без воздуха. Надо было Антонелло да Мессина (Мессинцу) ввести в Италию масляную живопись, для того чтобы, благодаря гармонии и блеску лоснящихся и сливающихся тонов, по жилам этих фигур потекла наконец горячая кровь; надо было Леонардо да Винчи открыть незаметное ослабление света, для того чтобы воздушная перспектива давала возможность выявлять округлости и охватывать контуры их всей мягкостью светотени. Только к концу XV столетия все элементы искусства, освобождаясь один за другим, могут сосредоточить свои силы под рукой мастера, с тем чтобы своим гармоническим согласием проявить задуманный им характер.
С другой стороны, когда во второй половине XVI века живопись начинает упадать, тот кратковременный полный лад, который породил великие художественные произведения, теряется и уже не может быть восстановлен. Только что перед этим его не существовало, потому что художник не был достаточно сведущ и умел; теперь нет его потому, что художник недостаточно искренен (наивен). Тщетно Карраччи изучают дело с неутомимым терпением и заимствуют изо всех школ самые разнообразные и плодотворные приемы. Этот-то именно набор разнокалиберных эффектов и ставит работу их в довольно низкий уже разряд. Внутреннее чувство их так слабо, что не в силах породить гармоническое целое; они занимают у того, у другого и разоряются этими займами вконец. Ученость вредит им, соединяя в одном и том же произведении несоединимые эффекты. Кефал Аннибала Карраччи, во дворце Фарнезе, наделен мышцами микеланджеловского борца, заимствованною у венецианцев шириной плеч и мясистостью, улыбкою и щеками, перенятыми у Корреджо; с неудовольствием видишь перед собой неграциозного и жирного атлета. Святой Севастьян Гвидо в Лувре представляет торс древнего Антиноя, облитый таким светом, который по своему блеску напоминает корреджиевский, а по своей синеве – Прюдона; опять-таки с неудовольствием видишь перед собой сентиментального и милого мальчика палестры. Среди этого общего упадка выражение головы везде противоречит выражению тела; вы видите лица святоши, ханжи, светской дамы, кавалера, гризетки, молодого пажа или слуги на сильно развитых мускулатурах; изо всего этого выходят боги и святые, которые точь-в-точь пустые болтуны, нимфы и мадонны, глядящие салонными богинями, чаще же всего такие лица, которые, колеблясь между двумя ролями, не выполняют ни одной и потому совершенно уж ничтожны. Подобные несообразности надолго задержали на пути развития фламандскую живопись, в то время когда с художниками Микиелем Кокси, Мартином ван Ге-эмскерком, Франсом Флорисом, Генриком Гольциусом, Яном Роттенгаммером она было хотела сделаться итальянской. Фламандское искусство поднялось опять и достигло своей цели только тогда, когда новый прилив национального вдохновения поглотил иноземные наносы и развернул крылья племенным инстинктам. Тогда лишь вместе с Рубенсом и его современниками появилась своеобразная идея гармонического целого; элементы искусства, группировавшиеся прежде только для того, чтобы перечить друг другу, соединились для взаимного пополнения, и тогда живые создания заменили собой прежних недоносков.
Между периодами упадка и детства помещается обыкновенно период процветания. Но встретится ли он нам, как бывает чаще всего, в самой середине целой художественной эпохи, в узком промежутке, отделяющем невежество от лжевкусия, или найдем мы его, как бывает иногда, когда говорится о каком-нибудь единичном человеке или отдельном произведении, в известном эксцентрическом, внесрединном пункте – причиной выходящего из ряда вон художественного произведения все-таки будет общая гармония эффектов. В подтверждение этой истины история итальянской живописи представляет нам самые разнообразные и вместе самые решительные примеры. Все искусство великих художников основано на преследовании этого единства, и тонкость понимания, составляющая их гений, обнаруживается вполне как противоположностью их приемов, так и неразрывной связностью их замыслов. Вы видели у да Винчи, как чрезвычайное и почти женское изящество фигур, непередаваемая улыбка, глубокое выражение в чертах лица, меланхолическая возвышенность или дивная утонченность душ, изысканные или оригинальные позы согласованы с волнистой гибкостью очертаний, с таинственно приятным полусветом, с какими-то омутами возрастающих теней, с нечувствительными переходами в лепке тела, с чудною красотой туманных перспектив. Вы видели у венецианцев, как полный и роскошный свет, веселая и здоровая гармония подходящих и противоположных тонов, чувственный блеск колорита вообще согласованы с пышностью декораций, со свободой и великолепием жизни, с открытою энергией или патрицианским благородством голов, со сладострастной прелестью полного и животрепетного тела, с одушевленным и вольным движением групп, со всеобщим раздольем и счастьем. Во фреске Рафаэля скромность колорита вполне пристала силе и скульптурной неподвижности фигур, спокойной архитектуре всего расположения, серьезности и простоте голов, сдержанному движению поз, ясности и нравственной высоте экспрессий. Картина Корреджо – нечто вроде заколдованного сада Альсины, где ослепительная прелесть одного света, сливающегося с другим, своенравная грация волнистых или ломаных линий, поразительная белизна и мягкие округлости женских тел, пикантная неправильность фигур, живость, нега, вольный разгул экспрессий и жестов соединяются все заодно, чтобы создать грезу того упоительно-тонкого наслаждения, какое разве только чары волшебницы да любовь женщины могли бы уготовить для избранника души. Все сплошь произведения выходят из одного главного корня; одно преобладающее и изначальное ощущение живит и разветвляет до бесконечности многосложный рост эффектов; у Беато Анджелико – это духовное видение сверхъестественного озарения свыше и мистическое представление небесного блаженства; у Рембрандта – это идея света, замирающего во влажной мгле, и скорбное чувство действительности, полной всяких страданий. Вы найдете подобную же (господствующую) идею, которая определяет известный род линий, выбор типов, расположение групп, экспрессии, жесты, колорит, у Рубенса и Рейсдала, у Пуссена и Лесюэра, у Прюдона и Делакруа. Что ни делай критика, ей не распознать всех последствий такой идеи; они неисчислимы и слишком уж глубоки; жизнь – одна и та же в созданиях человеческого гения и в созданиях природы; она проникает в бесконечно малые, в каждую наимельчайшую подробность; никакому в мире анализу вовек не исчерпать ее вполне. Но как в созданиях человека, так и в естественных произведениях наблюдательность выясняет те существенные сочетания, те взаимные зависимости, то конечное направление и те совокупные гармонии, подробностей которых никогда не распознать и не разобрать ей вполне.








